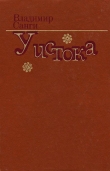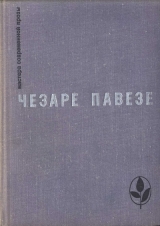
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Чезаре Павезе
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 32 страниц)
А Сильвия удержу не знала, любо было поглядеть на нее, послушать ее в те минуты, когда ею не владели отчаяние и злость. Иной раз велит запрячь коляску и сама едет в Канелли – правила она не хуже мужчины. Однажды она спросила у Нуто, будет ли он играть в оркестре на бегах в Буон Консильо. А потом заявила, что ей во что бы то ни стало нужно купить себе в Канелли седло и научиться ездить верхом. Пришлось управляющему Ланцоне ей растолковывать, что лошадь, привычная к упряжке, для верховой езды не годится, потому что у нее свой норов. Потом мы узнали, что в Буон Консильо Сильвия хотела отправиться, чтоб встретить там своего Маттео и показать ему, что она тоже умеет скакать на коне.
Кончится тем, говорили мы все, что эта девушка станет одеваться, как мужчина, будет бегать по ярмаркам и вместе с парнями по канату ходить. Как раз в тот год появился в Канелли балаган – там по кругу мчались мотоциклы, и грохот стоял сильней, чем от молотилки. У входа продавала билеты худющая рыжая баба лет сорока, пальцы в кольцах и в зубах сигарета. Вот увидите, говорили мы, наскучит она Маттео из Кревалкуоре, и он приставит ее к такому балагану. Еще в Канелли рассказывали, что, покупая билет, нужно только по-особому положить руку у окошечка, и эта рыжая тотчас же скажет, в какое время можно прийти к фургону с занавесками и переспать с ней на соломе. Только Сильвия еще до этого не докатилась. Она, конечно, совсем голову потеряла из-за своего Маттео, но была такая красивая и свежая, что и теперь нашлось бы много охотников взять ее замуж. А тут совсем бог знает что началось. Теперь они с Маттео встречались в полуразрушенном домишке на виноградниках Серауди. Домишко стоял на самом обрыве над рекой, куда на мотоцикле не доберешься, и они отправлялись туда пешком, отнесли туда одеяло и подушки. Ни на Море, ни в Кревалкуоре этот Маттео с Сильвией вместе не показывался. Не ее девичью честь он берег, а просто не хотел попасться, связать себя не хотел. Он знал, что не женится, вот и заботился о том, чтобы выйти сухим из воды.
Я пытался обнаружить на лице у Сильвии следы того, что они проделывали с Маттео. В тот сентябрь, когда мы приступили к сбору винограда, она, как и в прежние годы, вместе с Иреной пришла к нам на виноградник; укрывшись за кустами, я разглядывал ее руки, тянувшиеся к гроздьям винограда, глядел на ее бедра, на талию, на челку, падавшую на глаза, глядел, как шагает она по тропинке, как вскидывает голову – я знал ее всю, от гребенки до ногтей на ногах, – и все же ни разу не смог бы сказать: «Вот в этом она изменилась, вот где след Маттео». Она была все той же Сильвией.
Этот сбор винограда был последним радостным временем на Море. В День Всех Святых Ирена слегла, позвали доктора со станции. У нее оказался тиф, умирала Ирена. Сантину с Сильвией отослали в Альбу к родным, чтоб уберечь от заразы. Сильвия ехать не хотела, по потом смирилась. Теперь пришлось побегать мачехе да Эмилии. В верхних комнатах беспрестанно топили печь, дважды в день меняли Ирене постель, она бредила, ей делали уколы, у нее стали выпадать волосы. Мы то и дело ездили в Капелли за лекарствами. Однажды во дворе появилась монахиня. Чирино сказал: «Не протянет она до рождества», – а на следующий день послали за священником.
XXVI
Что осталось теперь от Моры, от всего этого, от нашей прежней жизни?
Сколько лет прошло, но стоило мне услышать, как ветер шевелит листвой липы, и я чувствовал себя другим человеком, становился самим собой, не зная даже толком отчего. Я думал о том, сколько людей, должно быть, живет в этой долине и вообще на свете, – людей, с которыми как раз теперь-то и происходит то, что было с нами, только они не знают об этом, не думают. Может, и теперь есть такой дом, есть девушки, старик, ребенок, есть такой вот Нуто, есть Канелли, есть железнодорожная станция и есть такой парень, как я, которому не терпится уехать, разбогатеть. Летом там молотят зерно, потом убирают виноград, зимой ходят на охоту, и дом у них с верандой – словом, все у них точь-в-точь как было у нас. Так непременно и должно быть. Ребята, женщины, мир не изменились. Теперь уже не в моде зонтики от солнца, но воскресеньям люди ходят в кино, а не на площадь, зерно сдают на элеватор, девушки курят – а жизнь осталась все той же, и молодежь не знает, что настанет день, когда придется оглянуться и тоже все окажется позади.
Когда я сошел на берег в Генуе и очутился посреди разбитых войной домов, мне прежде всего подумалось, что здесь каждый дом, каждый двор, каждый балкон был чем-то для кого-нибудь. И тут не только ущерб, не только жертвы – тут жаль прожитых лет, что ушли в небытие за одну ночь, не оставив даже следа. Может, я не прав, может, так лучше? Может, лучше, чтобы все сгорело, как сухая трава в костре. И чтобы люди все начали заново. Так поступали в Америке. Надоест что-нибудь, наскучит работа, приестся место – и люди все меняют. Там можно встретить целые селения – ресторан, мэрия, лавки, – и никого не осталось, пусто, как на кладбище.
Нуто неохотно говорил о Море, но все расспрашивал меня, кого я встретил из тех мест. Он имел в виду парней, с которыми мы сиживали в трактире, окрестных ребят, с которыми мы играли в кегли и в мяч, девушек, с которыми мы танцевали. Он знал обо всех: где кто теперь, что с кем случилось. Когда мы сидели у него на Сальто и кто-нибудь из них проходил по дороге, он подмигивал и спрашивал, по-кошачьи прищурив глаза: «Ну, а этого ты еще помнишь?» Потом он наслаждался удивлением, написанным на лице прохожего, и наливал вина нам обоим. Начинался разговор. Кое-кто обращался ко мне на «вы». «Я Угорь, – прерывал я, – так что ты брось эти церемонии!.. Ну, а что сталось с твоим братом, с твоим отцом, с твоей бабушкой? А собака-то ваша подохла?»
Мои старые приятели не слишком изменились; если кто изменился, так это я. Они вспоминали, какую штуку я выкинул когда-то и что сказанул, вспоминали и разные истории, о которых я позабыл. «А Бьянкетта? – спрашивал меня кто-нибудь. – Ты Бьянкетту помнишь?» Еще бы не помнить! «Вышла замуж за Робини, – говорили мне, – и живется ей хорошо».
Что ни вечер Нуто приходил за мной в «Анжело», вызволял меня от врача, секретаря мэрии, старшины карабинеров, от засевших там землемеров и заводил со мной разговор. Как два монаха на свободе, прогуливались мы вокруг деревни, вслушивались в стрекот цикад, в шум реки; в прежние времена мы никогда не приходили сюда в такой поздний час: жили другой жизнью.
Однажды вечером, когда над окутанными тьмой холмами поднялась луна, Нуто спросил меня, как это вышло, что я отправился в Америку. Он хотел знать, решился ли бы я на это еще раз, если бы снова представился случай и было бы мне, как тогда, двадцать лет. Я ответил, что уехал не потому, что меня тянуло в Америку, а со зла – потому, что здесь не мог выбиться в люди. Мне не уехать хотелось, а вернуться сюда в один прекрасный день после того, как все давно решат, что я с голоду подох. В деревне я обречен был остаться батраком, как старик Чирино. (Он тоже давно умер – сломал спину, свалившись с сеновала, и потом еще больше года промучился.) Значит, стоило попытать счастья, стоило переправиться через Бормиду, а потом пересечь океан.
– Но нелегко вот так сразу решиться и сесть на корабль, – сказал Нуто. – Ты оказался смельчаком.
– Никакой тут храбрости не было, – сказал я, – просто удрал. – Теперь уже имело смысл рассказать ему все. – Помнишь, о чем мы толковали с твоим отцом в мастерской? Он уже тогда говорил, что невежды всегда будут невеждами, потому что сила в руках у тех, кто не хочет, чтобы люди во всем разбирались, – в руках у правительства, у чернорубашечников, у капиталистов… Здесь, на Море, все было еще ничего, но вот в солдатах, когда я шатался по улочкам Генуи, я разобрался, какие они – хозяева, капиталисты, офицеры… В те времена правили фашисты, ни о чем говорить нельзя было… Но были и другие люди…
Я никогда ничего ему обо всем этом не рассказывал, чтобы не заставлять и его говорить – теперь уж все равно ни к чему, да и сам я через двадцать лет, после всего, что было, не знаю, во что и верить. Но в ту зиму в Генуе я поверил… Сколько ночей провели мы в спорах с Гвидо, с Ремо, с Черрети в теплице при доме моего полковника. Потом Тереза испугалась, больше не хотела нас пускать, и тогда я сказал ей – пусть так и остается в прислугах, значит, она того заслуживает, а мы хотим твердо стоять на своем, хотим бороться. Мы продолжали свое дело в казармах, в трактирах, а отслужив в армии – на судоверфях, где находили работу, и в вечерних технических школах. Тереза теперь слушала меня терпеливо и одобряла за то, что я учусь, за то, что хочу своего добиться, и кормила меня на кухне. К разговору о политике мы с ней больше не возвращались. Но однажды ночью пришел Черрети и предупредил, что Гвидо и Ремо арестованы, а остальных ищут. Тогда Тереза, ни в чем меня не упрекнув, поговорила уж не знаю с кем – то ли с родственником, то ли с прежним своим хозяином – и за два дня устроила меня палубным матросом на корабль, который отправлялся в Америку.
– Вот как это было, – сказал я Нуто.
– Видишь, как выходит, – ответил он. – Порой достаточно мальчишкой услышать словечко, пусть от старика, пусть от такого бедолаги, как мой отец, и у тебя откроются глаза… Я рад, что ты думал не только о том, как нажить деньги… А что сталось с твоими товарищами?
Так мы с ним разгуливали по дороге неподалеку от селения и толковали о нашей судьбе. Я поглядывал на луну и слушал, как вдали скрипят колеса телег – вот чего в Америке давно не слыхать. Я думал о Генуе, о своей конторе, о том, какой стала бы моя жизнь, если б схватили и меня в то утро на верфи, где работал Ремо. Через несколько дней я снова уеду в Геную, на виа Корсика. Все подходит к концу.
Кто-то бежал по дороге, вздымая пыль, я думал, собака, но это оказался мальчик, он, прихрамывая, бежал нам навстречу. Прежде чем я понял, что это Чинто, он уже прижался к моим ногам и завыл, как собачонка.
– Что случилось?
Мы ему не сразу поверили. Он твердил, что отец поджег дом.
– Не может быть! – сказал Нуто.
– Он дом поджег, – повторял Чинто. – Хотел меня убить… А сам повесился… Он дом поджег!
– Должно быть, лампу опрокинули, – сказал я.
– Нет, нет! – крикнул Чинто. – Он убил Розину и бабушку. Хотел и меня убить, но я не дался… Потом солому поджег и все меня искал. Но у меня был нож. Тогда он повесился посреди виноградника.
Чинто тяжело дышал, всхлипывал. Весь исцарапанный и перепачканный, он сидел в пыли, прижимаясь к моим ногам, и все повторял:
– Папа повесился в винограднике. Он дом поджег… И вол сгорел. Только кролики удрали. Но у меня был нож… Все сгорело. Пиола тоже видел.
XXVII
Нуто взял его за плечи и поднял, как козленка:
– Он убил Розину и бабушку?
Чинто только дрожал, он не мог говорить. Нуто встряхнул его за плечи:
– Он убил их?
– Оставь его, – сказал я. – Он едва жив. Пойдем сами, взглянем.
Тогда Чинто бросился к моим ногам. Он и слышать не хотел о возвращении.
– Встань, – сказал я ему. – Ты кого искал?
Он искал меня, но возвращаться на виноградник ни за что не хотел. Он позвал Мороне, позвал семью Пиолы, всех разбудил – они уже бегом спускались с холма. Он крикнул им, чтобы тушили пожар, он сделал все, что надо, только на виноградник возвращаться не хотел. И нож свой потерял.
– Мы не пойдем на виноградник, – сказал я ему, – дальше дороги не двинемся. Нуто один туда сходит. Чего ты боишься? Если правда, что туда побежали люди, значит, пожар уже погасили…
Мы пошли по дороге, держа его за руки. Отсюда холм Гаминелла не виден, он скрыт за отрогом. Нам надо свернуть с шоссе, спуститься по склону к Бельбо, и тогда сквозь деревья должен быть виден пожар. Но в лунном свете, прорывавшемся сквозь ночной туман, мы не увидели ничего.
Нуто молча дернул за руку Чинто, который споткнулся. Мы почти бежали. У камышей стало ясно, что здесь что-то случилось: сверху доносились крики, удары топора по дереву. Клубы вонючего дыма, врываясь в ночную прохладу, ползли к дороге.
Чинто не сопротивлялся, он старался поспеть за нами и только все крепче сжимал мою руку.
Наверху у смоковницы суетились люди, доносились громкие голоса. Еще шагая по тропе, я при свете луны разглядел пустое место там, где прежде были сеновал и хлев, и заметил черные дыры в догоравших стенах дома. Красные отблески пламени угасали у подножия стены, оттуда и валил черный дым. Нестерпимо воняло горелой шерстью, мясом, навозом. Между ног у меня прошмыгнул кролик.
Нуто остановился возле тока, лицо его исказила гримаса, и он схватился за голову.
– О, этот запах! – пробормотал он. – Этот запах…
Пожар уже стих. Тушить сбежались все соседи; рассказывали, что на какой-то миг пламя осветило даже берег и видно было, как оно отражалось в водах Бельбо. Спасти ничего не удалось, даже сухой навоз за домом сгорел.
Кто-то побежал за старшиной карабинеров. На ферму Мороне послали женщину за вином. Мы дали Чинто выпить немного. Он спрашивал, где собака, сгорела ли собака. Каждый говорил свое. Мы усадили Чинто посреди луга, и он, то и дело умолкая, начал свой сбивчивый рассказ. Он ничего не знал, шел к речке, потом услышал, как залаял пес, как отец стал загонять вола. Явилась хозяйка виллы со своим сыном – делить фасоль и картошку. Мадам сказала, что два ряда картофеля уже вырыты, пусть половину возместят, а Розина стала кричать, и Валино ругался. Тогда хозяйка вошла в дом, чтобы и бабушке свое доказать, а сын остался на дворе стеречь корзины. Потом хозяйка с сыном взвесили картошку и фасоль и о чем-то договорились, но глядели друг на друга со злобой. Они все погрузили на тележку, а Валино отправился в селение. Вечером вернулся мрачный и принялся кричать на Розину, на бабушку, ругал их за то, что они не собрали фасоль раньше, когда она была зеленая, говорил, что теперь хозяйка будет есть фасоль, которая могла бы достаться им. Старуха плакала, лежа на тюфяке. Он, Чинто, сидел у двери, готовый удрать в любую минуту. Тогда Валино снял с себя ремень и принялся хлестать Розину, бил ее, словно зерно молотил. Розина ударилась об стол и выла, закрывая руками шею. Потом она закричала сильней, упала на пол бутылка, и Розина бросилась к бабушке и стала ее обнимать. Тогда Валино принялся бить ее ногой, слышны были удары – он пинал ее под ребра, топтал тяжелыми башмаками. Розина свалилась на пол, а Валино все пинал ее в лицо, в живот.
– Розина умерла, – сказал Чинто, – у нее пошла кровь изо рта. «Ну, встань, – говорил отец, – ну, не дури». Но Розина умерла, и даже старуха умолкла.
Тогда Валино стал искать его, а он удрал в виноградник, оттуда слышно было только, как пес метался на цепи.
Немного погодя Валино стал звать Чинто. Чинто по голосу понял: отец просто зовет и не собирается бить. Тогда он открыл нож и показался во дворе. Отец, мрачнее тучи, ждал его на пороге. Увидев у него в руках нож, отец сказал «сволочь» и попытался его схватить. Чинто опять удрал. Потом он услышал, как отец стал ломать все, что под руки попадет, как он ругался, как поносил священника. Потом вдруг увидел пламя.
Отец вышел во двор, в руках у него была зажженная лампа, только без стекла. Он обежал вокруг дома, поджег сеновал, солому и швырнул горящую лампу в окно. Комната наполнилась огнем. Никто не вышел на порог, казалось, что женщины в доме все еще плачут и зовут на помощь.
Теперь горел весь дом, и Чинто не мог спуститься к лугу, потому что отец заметил бы его – стало светло как днем. Пес совсем обезумел, лаял и рвался с цепи. Кролики разбежались, вол горел в хлеву. Валино побежал за Чинто в виноградник с веревкой в руках. Чинто, не выпуская из рук ножа, удрал на берег. Там он спрятался и глядел оттуда сквозь кусты на пылающий дом. Даже отсюда было слышно, как бушует пожар, – словно сухие дрова пылали в печи. Пес все лаял и выл. На берегу тоже стало светло как днем. Когда смолкло все – и лай собаки, и голос отца, – Чинто показалось, что он только что проснулся, и он не мог даже припомнить, что делал здесь, на берегу. Тогда он тихонько подобрался к большому ореховому дереву, по-прежнему сжимая в руке нож, настороженно вслушиваясь и вглядываясь в зарево пожара. В отсветах огня он увидел ноги отца, висевшего на ореховом дереве, и упавшую на землю лестницу…
Ему пришлось повторить весь этот рассказ старшине карабинеров, потом ему показали лежавшего на мешковине мертвого отца, спросили, узнает ли он его. На лугу свалили в кучу все, что удалось найти, – серпы, тележку, лестницу, намордник вола и решето. Чинто все искал свой нож, расспрашивал о нем и кашлял, задыхаясь от дыма и гари. Ему говорили, что нож найдут и что можно будет забрать железные части мотыг и лопат, когда зола остынет. Мы отвели Чинто в усадьбу Мороне, когда уже светало. Остальные отыскивали на месте сгоревшего дома останки женщин.
У Мороне никто не спал, в кухне топили печь. Женщины предложили нам вина. Мужчины садились завтракать. Было прохладно, почти холодно. Я устал от споров и слов; все повторяли одно и то же. Мы с Нуто прогуливались по двору; на небе угасали звезды, перед нами в холодном, почти фиолетовом воздухе раскинулись леса в долине, засверкали воды реки. Я и позабыл эти краски рассвета! Нуто ходил сгорбись, опустив голову. Я сразу сказал ему, что о Чинто должны позаботиться мы, что надо было нам раньше об этом подумать. Он поднял опухшие веки и взглянул на меня, словно не мог очнуться.
На другой день нас ждало известие, от которого кровь могла закипеть. Я услышал, как в селении говорили, что хозяйка виллы вне себя от ярости из-за того, что погибла ее собственность; Чинто изо всей семьи единственный остался в живых, и она требовала, чтобы именно Чинто возместил ей потери, уплатил ей за все, а не то пусть его сажают в тюрьму. Я узнал, что она пошла советоваться к нотариусу и тому пришлось целый час ее вразумлять, но потом она побежала к попу.
Ну а поп выкинул номер еще похлеще! Раз Валино умер в смертном грехе, он и слышать не хотел о том, чтобы отпеть его в церкви. Гроб оставили снаружи, на ступеньках, покуда священник внутри бормотал свои молитвы над обгоревшими костями женщин, сложенными в мешок. Хоронили вечером, тайком от всех. Старухи с усадьбы Мороне в черных платках пошли проводить покойников на кладбище и по дороге собирали маргаритки и клевер. Священник на кладбище не пошел, видно, потому, что если поразмыслить, то и Розина жила в смертном грехе. Но об этом болтала лишь портниха, которая славилась своим злословием.
XXVIII
Ирена в ту зиму не умерла от тифа. Покуда жизнь ее была в опасности, я старался не ругаться, не думать ни о ком дурно – помню, как мне хотелось помочь ей. Так велела Серафина, и я не забывал ее наставлений, даже когда убирал за скотиной или шагал под дождем за плугом. Только не знаю, может, зря я старался, может, лучше бы ей умереть в тот день, когда посылали за священником. В январе она наконец вышла из дому, и ее, бледную и исхудавшую, в коляске отвезли к мессе в Канелли. Чезарино давно уже удрал в Геную, не навестив ее, даже ни разу не прислав кого-нибудь узнать, что с ней, как она себя чувствует. А в замке Нидо все двери были наглухо заколочены.
И Сильвию по возвращении не ждало ничего хорошего, хотя, как все говорили, она не так страдала. Сильвия уже привыкла к своей злой судьбе, выучилась принимать ее удары, подыматься после них на ноги.
Ее Маттео тем временем спутался с другой. Сильвия не скоро вернулась из Альбы. И на Море стали поговаривать, что есть тому причина – ясное дело, забеременела. Те, кто ездил в Альбу на рынок, рассказывали, что Маттео из Кревалкуоре целыми днями гонял по площади на своем мотоцикле – шуму-то, как при стрельбе, – а остальное время торчал в кафе. Никто никогда не видел, как они миловались, никто их даже вместе не встречал. Значит, Сильвия не выходила из дому, значит, она была беременна. Как бы там ни было, только к лету, когда Сильвия вернулась, Маттео уже нашел себе другую – дочь владельца кафе из Санто-Стефано – и проводил с ней ночи. Сильвию, когда она возвратилась, увидели уже на шоссе, они с Сантиной шли, взявшись за руки: никто даже не поехал встретить их к поезду. Проходя по саду, они остановились, чтобы понюхать первые розы. Они с Сантиной, раскрасневшиеся от ходьбы, стояли и перешептывались, как мать с дочерью.
А Ирена стала теперь хрупкой и бледной, она почти не поднимала глаз от земли и походила на блеклый цветок, что безо времени появляется на лугу после сбора винограда, или на травинку, что тянется кверху из-под придавившего ее камня. Покуда у нее отрастали волосы, она носила красный платок, из-под него виднелись лишь шея и уши. Эмилия говорила, что она уже никогда не будет прежней красавицей. А вот Сантина росла, хорошела, и локоны у нее были еще красивей, чем когда-то у Ирены. Сантина уже знала себе цену и порой останавливалась у изгороди, чтобы дать на себя полюбоваться, или выходила к нам, во двор, на дорожку, и болтала с женщинами. Я расспрашивал ее о том, как им жилось в Альбе, что там поделывала Сильвия. И она, если была охота, рассказывала мне, что они жили напротив церкви, в прекрасном доме с коврами в каждой комнате, к ним там заходили дамы, мальчики, девочки – все такие нарядные; они вместе играли, ели пирожные, а как-то вечером пошли в театр с теткой и с Николетто, девочки ходили в школу к монахиням; на следующий год она тоже пойдет в школу. Мне так и не удалось разузнать, как проводила свои дни Сильвия, но, должно быть, она там не болела, а танцевала с офицерами.
Снова в Мору зачастили молодые люди и прежние подруги. Нуто ушел в солдаты. Я теперь уже был совсем взрослый; позади остались те времена, когда управляющий мог хлестнуть меня ремнем и любой встречный обозвать ублюдком. Меня знали на многих усадьбах в округе, я уходил иной раз на всю ночь, ухаживал за Бьянкеттой. Я начинал во многом разбираться; запах лип, запах цветущих акаций приобрел свой смысл и для меня. Теперь я знал, что такое женщина, почему иной раз после музыки и танцев одиноко, как пес, бродишь по полям. Из моего окна были видны холмы по ту сторону Канелли, оттуда к нам приходили грозы и ясная погода, там начиналось утро, оттуда доносились гудки паровозов, там проходила дорога, ведущая в Геную. Я знал, что и я через два года, как Нуто, сяду в поезд. На праздниках я старался поближе держаться к тем, кого призовут вместе со мной. Мы пили, пели песни, толковали о наших делах.
Сильвия опять взбесилась. На Море появился Артуро со своим тосканцем, но она на них даже не взглянула. Теперь она сошлась с бухгалтером из Канелли, казалось, они вот-вот поженятся. Дядюшка Маттео был согласен. Бухгалтер, блондинчик из Сан-Марцано, приезжал на велосипеде и всегда привозил конфеты Сантине. Но однажды вечером Сильвия исчезла. Вернулась только на следующий день с охапкой цветов в руках. Оказалось, что в Канелли у нее, кроме этого бухгалтера, был еще какой-то ухажер из Милана, который умел говорить по-английски и по-французски. Седоватый, высокий, настоящий господин; шли толки, будто он скупает земли. Сильвия встречалась с ним на вилле у знакомых, там их хорошо принимали. После одного ужина она вернулась лишь под утро. Об этом узнал бухгалтер и даже возжаждал крови, но этот господин, этот Лульи, отправился к нему сам, отчитал его как мальчишку, и на том дело кончилось. Лульи было, должно быть, за пятьдесят, и у него уже были взрослые дети. Я видел его только издали. Но у Сильвии с ним все обернулось похуже, чем с Маттео из Кревалкуоре. И Маттео, и Артуро, да и все прочие не были для меня загадкой – росли они в наших местах, может, и ломаного гроша не стоили, но были своими, пили, смеялись, разговаривали, как мы. Другое дело Лульи из Милана – никто не мог сказать, чем же он занят в Канелли. Он устраивал обеды в гостинице «Белый крест», был на приятельской ноге с мэром и с фашистскими заправилами. Сильвии он обещал, должно быть, забрать ее в Милан или бог знает куда, только подальше от Моры и от дома.
Сильвия потеряла голову; она поджидала его в кафе «Спорт», разъезжала по виллам и замкам в машине фашистского секретаря, добиралась до самого Акви. Должно быть, Лульи был для нее тем, чем для меня могла бы стать она сама и ее сестра, чем для меня потом стала Генуя или Америка. В то время я уже достаточно разбирался в таких вещах, чтобы представить их себе вместе и вообразить, о чем они говорили. Он, должно быть, рассказывал ей о Милане, о бегах, о театре и о богачах, а она жадно слушала, и глаза у нее блестели, хоть она и притворялась, что все это ей знакомо. Этот Лульи всегда был одет с иголочки, во рту у него торчала трубка, а зубы и кольцо на руке были из чистого золота.
Однажды Сильвия сказала Ирене – Эмилия сама слышала, – что Лульи приехал из Англии и должен туда вернуться.
Но настал день, когда дядюшка Маттео в ярости набросился на жену и дочерей. Он кричал, что ему опротивели их постные лица, что он больше не желает терпеть их ночные похождения, что ему надоели ухажеры, которые крутятся вокруг них, что он больше не хочет так жить, он должен знать, с кем он породнился, а то над ним смеются. Он винил мачеху, всех бездельников и всю распутную женскую породу. Он заявил, что Санту будет воспитывать сам, и сказал дочерям – пусть выходят замуж, если кто их возьмет, пусть хоть в Альбу едут, но только чтоб не путались у него под ногами. Бедняга состарился, он больше не владел собой и не мог командовать другими. В этом в конце концов убедился даже Ланцоне, в этом убедились все.
Кончилось тем, что Ирена с красными от слез глазами слегла в постель, синьора Эльвира обняла Сантину и велела не слушать таких речей. А Сильвия пожала плечами, ушла и вернулась домой только через день.
Потом настал конец истории с Лульи; стало известно, что он удрал, не заплатив большие долги. Сильвия на этот раз повела себя, как взбесившаяся кошка; она отправилась в Канелли, пошла к фашистам в их здание, пошла к фашистскому секретарю, стала разъезжать по виллам, где они прежде развлекались и спали с Лульи, словом, не успокоилась, пока не выпытала, что Лульи в Генуе. Тогда она села на поезд и отправилась в Геную, увезя с собой золотые вещи и немного денег, которые ей удалось собрать. Месяц спустя дядюшка Маттео поехал за ней в Геную, узнав через полицию, где она находится. Сильвия уже была совершеннолетняя, ее не могли насильно вернуть домой. Она голодала, проводила дни на скамьях парка Бриньоле, Лульи она не нашла, никого больше не нашла и хотела было броситься под поезд. Дядюшка Маттео ее успокоил, сказал, что это как болезнь или несчастье, все равно что тиф, которым переболела Ирена, и что все ее ждут на Море. Сильвия вернулась, но на этот раз на самом деле беременная.
XXIX
В те дни пришла и другая весть: умерла старуха из Нидо. Ирена ни слова не сказала, но ее прямо в жар бросило, кровь прилила к лицу. Теперь, когда Чезарино мог сам решать свои дела, ясно будет, что он за человек. Ходили разные слухи: одни говорили, что он единственный наследник, другие – что наследников целая куча, третьи – что старуха все завещала епископу и монастырям.
В Нидо приехал нотариус, чтобы осмотреть замок и земли. Он ни с кем и разговаривать не стал, даже с Томмазино. Распорядился насчет работ, насчет сбора урожая. В замке сделал опись. Нуто, который тогда получил увольнительную на время жатвы, разузнал обо всем в Канелли. Старуха все завещала сыновьям одной из своих племянниц, которые даже графами не были, и назначила нотариуса опекуном. Потом в замке Нидо наглухо закрыли все двери, а Чезарино так и не вернулся.
В те дни я не отходил от Нуто, и мы с ним о многом говорили – о Генуе, о военной службе, о музыке, о Бьянкетте. Он курил и меня угощал, спрашивал, не наскучило ли мне батрачить на Море, говорил, что мир велик и в нем каждому найдется место. Услышав про Сильвию и Ирену, он только плечами пожал и не стал особенно расспрашивать.
Ирена словечком не обмолвилась насчет вестей из Нидо. По-прежнему худая, бледная, она часто выходила вместе с Сантиной к реке и сидела с ней на берегу. Раскроет на коленях книгу, а сама глядит на деревья. По воскресеньям они в черных платках отправлялись к мессе – ездили с мачехой, с Сильвией, словом, все вместе. Как-то в воскресенье после долгого перерыва я снова услышал игру на пианино.
Не в эту, а в прошлую зиму Эмилия дала мне почитать одну из тех книжек, которые Ирена брала у знакомой девушки из Канелли. Я давно хотел последовать совету Нуто и хоть чему-то поучиться. Я был уже не тот мальчишка, что, сидя после ужина на бревнышке, заслушивался рассказами о звездах и храмовых праздниках. Заняв местечко поближе к огню, я читал эти романы, чтобы хоть что-нибудь узнать. В них говорилось о девушках, которые жили вместе с опекунами или со своими тетками, с врагами, державшими их взаперти в прекрасных виллах, окруженных садами. Горничные приносили им записочки, давали, когда требовалось, яд, воровали завещания. Потом на коне появлялся красавец, он целовал девушку; ночью девушке не спалось, и она выходила в сад, ее похищали разбойники, утром она просыпалась в хижине дровосека, и тогда появлялся тот самый красавчик, чтоб спасти ее.
Иногда это была история какого-нибудь сорвиголовы, жившего в дремучем лесу; выяснялось, что он незаконный сын владельца замка, а в замке то и дело совершались преступления, то и дело кого-нибудь отравляли; во всем винили юношу, и он попадал в тюрьму, но туда к нему приходил седовласый священник, спасал его, и тогда он женился на наследнице из какого-нибудь другого замка. Я убедился, что давно уже знал эти истории – в Гаминелле Виржилия рассказывала их мне и Джулии. Помню ее рассказ о златокудрой Спящей Красавице, которая спала мертвым сном в лесу – разбудил ее поцелуй охотника; помню рассказ о Волшебнике с семью головами – его полюбила прекрасная девушка, и он превратился в прекрасного юношу, в королевского сына.
Мне эти книжки нравились, но как они могли прийтись по вкусу Ирене и Сильвии – ведь они барышни, они никогда не слушали Виржилию, никогда не убирали навоз в хлеву? Я понял, что Нуто прав, когда говорит, что все равно, где живет человек: в лачуге или в замке, что кровь у всех красная и все хотят быть богатыми, хотят любви и счастья. Вечерами, возвращаясь от Бьянкетты, я шагал, посвистывая, под акациями. Я был счастлив и даже не думал о том, как сяду в поезд.
Синьора Эльвира снова стала звать к ужину Артуро, но он теперь повел себя хитрей и не брал с собой своего друга-тосканца. Дядюшка Маттео больше не противился. Тогда еще никто не знал, что произошло с Сильвией, и казалось, что жизнь на Море хоть течет и не совсем гладко, по все же становится похожей на прежнюю.