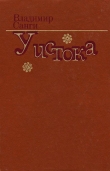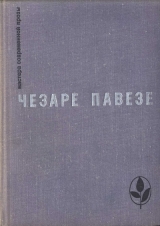
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Чезаре Павезе
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 32 страниц)
Вот тут я и увидел в окно приближавшихся к дому Габриэллу и Ореста. Они оскальзывались на траве, поднимаясь по крутому скату, и смеялись.
Я сказал Пьеретто:
– А Габриэлла? Она не нюхает кокаин?
– Габриэлла подшучивает над всеми нами, – сказал он. – Ее это забавляет.
– Но почему же они живут вместе?
– Привыкли ругаться.
– А не может быть, что они любят друг друга?
Пьеретто засмеялся на свой лад и присвистнул.
– Этим людям некогда любить, – сказал он. – Они смотрят на вещи проще. Все их проблемы связаны с деньгами.
Потом мы спустились на веранду и там нашли Ореста и Габриэллу. Она уже побывала у Поли (у них были отдельные комнаты) и, вернувшись, сказала:
– Больной поправился.
Никто ни словом не обмолвился о наркотике. И у Габриэллы, и у Ореста смеялись глаза, и скоро мы забыли о Поли. Мы продолжали обсуждать план поехать завтра потанцевать на празднике в одно селение, славившееся ярмаркой, которую устраивали в конце августа. Когда в полдень Габриэлла исчезла, я бросил быстрый взгляд на Ореста, но на этот раз он не ответил мне тем же. Он сидел безучастно, поглощенный своими мыслями, но у него все еще блестели глаза. Тут я всерьез задумался о Джачинте.
XXII
Чтобы повезти нас на гуляние, Орест съездил домой за двуколкой, но на ней помещалось не больше трех человек. У Поли болела голова, и ему было не до танцев, а я сказал, что тоже останусь, потому что уже привязался к Греппо, да и неплохо было денек побыть одному.
– Негодники вы, – сказала Габриэлла, сидя на двуколке между Орестом и Пьеретто, – но все-таки жаль, что вы остаетесь.
Они уехали, помахивая нам и смеясь. Я провел утро у грота, заросшего адиантумом. С этого места был виден только гребень холма, врезавшийся в небо, – равнину скрывали заросли тростника. Быть может, в былые времена там был виноградник, от которого осталось одно воспоминание. У входа в грот я разделся догола и стал загорать. Я не делал этого с тех дней, когда мы ходили на болото, и поразился, что я такой черный, почти такой же черный, как черешки адиантума. Я думал обо всякой всячине, блуждая взглядом там и сям. Из-за зарослей, замыкавших лужайку и заслонявших ее от сторонних глаз, мог кто-нибудь показаться, но кто? Не кухарки, не Поли. Может быть, духи круч и лесов или какой-нибудь здешний зверек – такие же голые и нелюдимые существа, как и я. В бледном серпе луны, стоявшей над тростником в ясном небе среди белого дня, было что-то колдовское, символичное. Почему чувствуется какая-то связь между голыми телами, луной и землей? Даже отец Ореста шутил насчет этого.
В полдень я вернулся на виллу среди сосен, старую и белую, как луна. Я послонялся за домом, возле оранжереи, увидел в окошке рыжую голову Пинотты, гладившей белье. Пока я смотрел через открытую дверь на горшки с роскошными цветами, от которых пестрело в глазах, вышел старый Рокко и что-то пробормотал. Мы завязали разговор; он нашел, что я хорошо выгляжу.
Я сказал, что в Греппо чистый воздух; если Поли такой здоровый и живой, разве он этим не обязан годам, которые провел в Греппо?
Пинотта подняла голову и стала прислушиваться, по обыкновению угрюмо посматривая на меня.
– Да-да, – сказал Рокко, – воздух здесь хороший.
«Вот была бы штука, – думал я, – если бы оказалось, что Поли и с этой крутит».
Должно быть, я улыбнулся, потому что Рокко косо посмотрел на меня. Потом он выплюнул окурок себе в руку, загрубелую и смуглую до черноты, и пробормотал что-то еще.
Он пожаловался на сушь. Сказал, что воды из бассейна не хватает и вдобавок ее приходится носить ведрами. В свое время был насос, но он сломался.
Тогда я спросил, где берут питьевую воду.
– В колодце, – сказала Пинотта из окна. – А кто ее достает? – Рыжая голова неистово затряслась. – Я достаю, все я.
Я хотел поговорить с Рокко, расспросить его о том, каким был этот холм и как здесь текла жизнь в былые времена, но меня стесняла Пинотта, ни на минуту не сводившая с меня своих круглых глаз.
Тогда я спросил, моется ли кто-нибудь на балконе и какой водой. Пинотта ухмыльнулась на свой лад.
– На балконе синьора принимает солнечные ванны, – сказала она.
– Я думал, вы ей носите туда воду.
– Еще этого не хватало, что я, каторжная?
Она набралась духу и спросила меня, почему я не поехал на гуляние. Этот вопрос заинтересовал и Рокко. Они оба испытующе посмотрели на меня, явно надеясь что-то выведать.
– Мы все не помещались на двуколке, – отрезал я.
Старый Рокко покачал головой.
– Больно много народу, – пробормотал он, – больно много народу.
Поли, у которого все еще было помятое, изнуренное лицо, спустился позавтракать, потом вернулся к себе и снова появился, только когда стало темнеть. За весь день мы не обменялись и десятью фразами, не зная, что сказать друг другу; он улыбался усталой улыбкой и слонялся с места на место. Всю вторую половину дня я, сидя в ломберной, перелистывал старые книги, пожелтевшие альбомы, энциклопедии и иллюстрированные альманахи. Когда в сумерках вошел Поли, я поднял голову и сказал ему:
– Как вы думаете, вернутся они к ужину?
Поли взглянул на меня, и лицо его прояснилось.
– Не выпить ли нам пока по рюмочке? – предложил он.
Мы пили, сидя под соснами.
– Время идет, – заметил я. – Даже здесь, где как будто все остается без перемен. В сущности, вам хорошо одному.
Поли улыбнулся. Он был без пиджака, с цепочкой на шее, бронзовый от загара.
– Почему бы нам не перейти на «ты»? – сказал он. – Ведь мы оба друзья Ореста.
Мы перешли на «ты». Он вежливо осведомился о моей жизни в Турине, спросил, что я буду делать, вернувшись туда. Мы поговорили о Пьеретто; я рассказал ему, что в доме у Ореста женщины думают, что Пьеретто теолог, а он засмеялся и сказал, что ценит его выше, но что у него есть один недостаток – он не верит в глубинные силы, которые таятся в нас, в нашу неосознанную чистоту.
Я спросил его, проведет ли он эту зиму в Греппо. Он молча кивнул, внимательно глядя на меня.
– Я все думаю, – сказал я ему, – что, оказавшись снова в этих местах, где прошло твое детство, ты, наверное, испытываешь волнующее чувство. Для тебя, должно быть, все здесь имеет свой голос, свою жизнь. В особенности теперь.
Поли молчал, так уставившись на меня, точно слушал глазами.
– …Даже меня забрало, когда я приехал сюда. Представь себе. Я никогда здесь не был. Но это сочетание запущенности и укоренелости… тут не просто сельская местность, а что-то большее… просто захватило меня. Когда ты здесь жил, уже так и было?
Он упорно смотрел на меня.
– Дом был этот самый, – сказал он. – Тогда было больше народу, больше служб, но дом остался таким же.
– Я не про дом. Я говорю о зарослях, о заброшенных виноградниках, об этом впечатлении дикости. Сегодня утром я загорал возле грота, и мне казалось, будто холм – что-то живое, что у него есть кровь, голос…
Я увидел, что он задумался.
– Ты столько времени прожил здесь, в Греппо, неужели ничего такого тебе никогда не приходило в голову?
Я говорил, а про себя думал: «Если я псих, то и он тоже. Кто знает, может, мы и найдем общий язык».
Но Поли сказал, вертя в руках стакан:
– Как все мальчишки, я до безумия любил животных. У нас были собаки, лошади, котята. У меня был Буб, ирландский рысак, который потом сломал себе спину… Мне нравится в животных их равнодушие ко всему, что происходит вокруг. Они свободнее нас…
– Может быть, то, что я говорю о холме, ты находишь в животных. Ты любишь диких животных, зайцев, лисиц?
– Нет, – решительно сказал Поли. – Я разговариваю с животными, как разговариваю с вами, а с дикими животными нельзя разговаривать. Я любил Буба потому, что его можно было хлестать. Любил котят, потому что их можно было держать на коленях. Понимаешь? – сказал он, просветлев. – Это все равно как обладать женщиной, быть с мамой… Впрочем, нет, с мамой другое дело, – поправился он. – Бедняжка, из-за нее я страдал. Однажды зимой она уехала в Милан, и рождество я провел один, с прислугой и снегом. По вечерам я, не зажигая света, смотрел в окно на снег и, если женщины искали меня, не откликался, чтобы они сходили с ума от беспокойства…
– Такие воспоминания подходят для зимы, – сказал я.
– Мамы уже нет, – сказал Поли. – Ты прав. Для меня в деревне всегда зима.
Так прошел этот вечер, а когда совсем стемнело, мы пошли ужинать. Пинотта смотрела на нас, сидевших вдвоем за столом, с таким видом, как будто это было очень забавное зрелище, и ходила взад и вперед, шаркая ногами. Меня томило какое-то тревожное чувство, по-видимому, больше, чем Поли. Мы долго пили, и в какой-то момент, сам не знаю как, я заговорил о Розальбе. Я спросил Поли, где она, что с ней сталось.
– О, – сказал он меланхолично, – она умерла.
XXIII
Когда поздним утром они трое приехали на двуколке, у меня голова была как чугун, а голос охрип. Мы всю ночь говорили о смерти Розальбы. Поли мало что знал об этом. Она покончила с собой в том пансионе, который содержали монахини, – отравилась то ли ядом, то ли наркотиком, – когда он уехал на море. Мы прогуливались под соснами, вокруг бассейна, и говорили, говорили до самого утра. Поли говорил, что смерть не имеет значения, что не мы ее причиняем, что внутри нас – радость и покой и ничего больше.
Тогда я спросил его, входит ли кокаин в условия душевного покоя. Он ответил, что все мы употребляем какие-нибудь наркотики, от вина до снотворных, от нудизма до охоты с ее жестокостью.
– При чем тут нудизм? – сказал я.
Оказалось, вот при чем: некоторые выходят на люди голыми из потребности уподобиться животным и преступить человеческую норму.
Мне не хватило ночи, чтобы заставить его признать, что между самоубийством и смертью от болезни или несчастного случая целая пропасть. Поли говорил о Розальбе нетвердым голосом растроганного ребенка; с умилением говорил о тех днях, когда он был при смерти; никто ни в чем не был виноват; Розальба умерла; им обоим было хорошо.
Всю ночь мы, как бы подтверждая его правоту, пили, курили и спорили. Восход солнца застал нас в креслах, за кофе, который подала нам растрепанная Пинотта. Сквозь иглы сосен просвечивала луна. Теперь мы толковали об охоте, о бедных животных: Поли говорил, что из всех наркотиков кровопролитие единственный, пристрастия к которому он не понимает; в крови есть что-то дьявольское, этому научила его Розальба.
– Вот теперь Орест затевает охоту. Он не понимает, что человек может испытывать отвращение к некоторым вещам. Пусть охотится, но не пристает к другим…
Дневной свет меня немного успокоил, но напряжение, усталость, глухой гнев не дали мне заснуть. Когда я услышал на поляне веселые голоса, меня взяла злость на Пьеретто, который, конечно, знал про Розальбу, но ничего не сказал мне, и я не сразу спустился: смотрел в потолок и думал о том, что Розальба, кокаин, пролитая кровь, холм – все это сон, злая шутка, которую все сговорились сыграть со мной. Оставалось только спуститься и сделать вид, что я ни о чем не догадываюсь, чтобы не попасть в дурацкое положение. Оставалось только рассмеяться им в лицо, вот что…
Внезапный грохот заставил меня соскочить с постели. Я подбежал к окну и увидел, как они со смехом слезают с двуколки. Орест потрясал дымящимся ружьем, Габриэлла с распущенными волосами, зацепившись платьем за козлы, кричала: «Снимите меня».
Из дома выскочили Пинотта и кухарка; вышел Поли. Поздоровались, начались тары-бары. Про вино, про ярмарку, про овраги. «Ну и посмеялись же мы, – говорили они. – Мы заехали в селение Ореста». Лошадь, опустив голову, рыла землю копытом.
Спустился и я. Сумятица не улеглась до самого полдня. Габриэлла, Орест и Пьеретто продолжали галдеть и на веранде. Они все еще были под впечатлением шумного веселья, и это объединяло их. Что за селения, говорили они, вот где люди умеют повеселиться, а Пьеретто угодил в канаву и в одном кабаке подрался с хозяином; потом они звонили в колокола, взбудоражили пономаря; а еще воровали виноград на одном винограднике.
– Ну как, – сказал Пьеретто, сидевший на подлокотнике кресла Габриэллы, – ты приготовил ружья, Поли? Мы будем вам вместо собак.
В полдень они наконец угомонились. Габриэлла поднялась наверх привести себя в порядок. Я посмотрел на Ореста – вид у него был спокойный и счастливый. Его возросшую близость с Габриэллой выдавали глаза, не надо было ни о чем его спрашивать.
Я не понимал Пьеретто, который опять принялся шутить с Поли. Они заговорили об одном крестьянине, который знал деда Поли и рассказывал, сколько женщин тот обрюхатил в окрестных селениях.
– В нашем роду мужчины этим издавна славились, – сказал Поли. – И отпора они не получали.
– Жаль, что Габриэлла тебя любит, – сказал Пьеретто. – А то можно было бы отплатить вашей семье той же монетой. Ты должен почаще посылать ее на такие гулянья.
Не знаю, что было на уме у Пьеретто, но Ореста взорвало, и, вскочив на ноги, он выкрикнул что-то нечленораздельное. Поли недоуменно взглянул на него.
Орест стоял перед Пьеретто и не говорил ни слова. Они на мгновение уставились друг на друга, оба пунцово-красные, потом Пьеретто пришел в себя.
– Что это с тобой? – сказал он резко. – Тебя задело за живое?
Орест смерил взглядом его, потом Поли и вышел, ничего не сказав.
Как только мы с Пьеретто, поднимаясь по лестнице, оказались одни, я спросил у него, знает ли он про Розальбу. Он спокойно сказал, что давно уже знает и со времени туринской истории этого ожидал.
– Что же и остается женщине в таком положении? У женщин нет отговорок. Они не способны на абстрактное мышление…
– Поли ублюдок и недоумок…
– А ты этого не знал? – сказал он. – Ты что, с луны свалился?
Мне хотелось исколотить его. Я прикусил язык. В эту минуту по коридору пропорхнула Габриэлла; она кивнула нам и сбежала по лестнице.
– Что это за новая история? – пробормотал я. – Кто из вас двоих вскружил ей голову?
– Ты хочешь сказать, кто думает, что вскружил ей голову. Такой ловкач, который заарканил бы ее, еще не родился.
– А все-таки кто-то всерьез ударяет за ней.
– Все может быть, – ухмыльнулся Пьеретто. – Это ты ему присоветовал?
Тут я понял, что Пьеретто знает еще меньше меня. Я взял его под руку – чего никогда не делал, – и мы подошли к окну.
– Это продолжается уже три дня, – сказал я ему, – и может произойти скверная история. Я говорил, что лучше уехать. По-моему, они способны даже убить друг друга. До Поли мне нет дела… Но я боюсь за Ореста.
– Что тебя пугает? Ружье? – сказал Пьеретто, готовый рассмеяться.
– Однако вот и ты об этом подумал. Меня пугает, что с Орестом стало невозможно разговаривать.
– Только и всего?
– Мне не нравится лицо Поли. Не нравятся его разговоры. Не нравится эта история с Розальбой…
– Но Габриэлла тебе нравится.
– Не тогда, когда она пьянствует в кабаках. Это не такие люди, как мы…
– То-то и хорошо, – воскликнул Пьеретто, – то-то и хорошо!
– Ты сам сказал, что они ненавидят друг друга.
– Дурак, – сказал Пьеретто, – люди, которые ненавидят друг друга, по крайней мере искренни. Тебе не нравятся искренние люди?
– Но Орест собирается жениться на Джачинте…
Мы продолжали разговаривать, пока снизу нас не позвали завтракать. За столом Поли сидел со смущенным и досадливым видом, к Оресту нельзя было подступиться, а Габриэлла, успевшая вымыть голову, болтала о быках со смешными рыжими кисточками на концах хвостов и об омерзительной вони ацетилена.
– А я люблю запах ацетилена, – сказал Пьеретто. – Он напоминает мне о рожках, которые лоточники зимой пекут на улицах.
XXIV
Я решил поговорить с Орестом. Мне это было нелегко? не то чтобы он избегал меня, но у него было то ли саркастическое, то ли обиженное выражение лица, которое меня обескураживало. Я остановил его на лестнице и попросил показать мне ружье.
– Ты нас возьмешь с собой на охоту? – сказал я.
Ружье и ягдташи валялись на диване в биллиардной.
Я достал из сумки красный патрон и сказал Оресту:
– Одним из этих патронов ты хочешь убить Поли?
Он взял его у меня из рук и пробормотал:
– При чем тут Поли?
Тогда я спросил у него, хочет ли он меня выслушать. Понизив голос (остальные были на веранде), я сказал ему, что теперь, когда мы все с Поли на «ты», мы обязаны относиться к нему как к другу. А разве Орест поступает с ним по-дружески? Две недели назад, если бы Поли начал увиваться за Джачинтой, что бы было? Хоть бы они по крайней мере вели себя так, чтобы никто ничего не замечал. В какой-то момент даже Поли, какой он там ни охладелый, какой он ни псих, какой он ни чурбан, не сможет больше закрывать на это глаза. Не лучше ли нам уехать, пока не поздно? Вернуться домой, сохранить хорошее воспоминание? Чего он добивается?
Орест слушал меня, краснея, и несколько раз порывался прервать. Но когда я перестал говорить, он с упрямым видом улыбался и молчал, глядя на меня исподлобья.
– Джачинта тут ни при чем, это не одно и то же, – пролепетал он наконец. – Я ничего не краду. Да мы и не хотим прятаться. Она думает так же, как я.
– Что она так думает, это понятно. Она женщина. Но ты-то понимаешь, чем это кончится?
Он опять посмотрел на меня, и у него на скулах заходили желваки.
– Они уже больше года жили врозь, – сказал он. – Она и видеть его не хотела. Это отец Поли послал ее сюда. Чтобы она постаралась угомонить его, чтобы он больше не куролесил. Ты же видел, как Поли обращается с ней.
Я не ответил ему, что за больным не ухаживают, напаивая его, зля и путаясь с другим у него на глазах. Это было бесполезно, Орест говорил запальчиво, и лицо его приняло то задорное и упрямое выражение, которое означает «теперь или никогда».
– Она необыкновенная женщина, – сказал он. – Видел бы ты ее на гулянии. Как она танцевала, смеялась, шутила с музыкантами… Она умеет обходиться со всеми…
– И она сказала, что любит тебя?
Орест удержался от ответа и только посмотрел на меня. Посмотрел украдкой, с жалостью. У него блестели глаза. Через несколько дней, когда стало ясно, что дело серьезнее, чем мы могли представить себе, я понял, что за этим взглядом скрывалась попытка не быть дерзким, не оскорблять меня своим счастьем. Потому что мы стыдились таких вещей. Не умели говорить о них.
– К тому же, – сказал Орест, – для Поли здесь нет ничего неожиданного. После туринской истории… Да она и тогда уже не жила с ним…
– Она сама тебе это сказала? Тогда что же они делают вместе?
Мы продолжали этот разговор, пока нас не прервали. Мне так и не удалось преодолеть его упорство, заставить его призадуматься. Габриэлла, должно быть, поняла, что речь идет о ней, потому что подошла к нам, взяла нас под руки, сказала: «Ну, хватит секретничать» – и потом все время пристально посматривала на меня.
В этот день мы пошли на охоту. Пошел и Поли.
– Мы поговорим, а они пусть себе стреляют, – сказал ему Пьеретто.
Мне казалось, что Поли смотрит на Ореста и на жену с таким видом, как будто они его забавляют. Он то и дело останавливался, задерживал Пьеретто, задерживал меня, говорил, как ему хорошо с нами, потому что из всех людей, с которыми он познакомился за последние годы, никто его так не понимал, как мы. Я предоставил разговаривать Пьеретто; в какой-то момент я потерял терпение и свернул за густую заросль кустарника. Я знал, что Орест и Габриэлла, чтобы найти фазанов, должны спуститься к заброшенным виноградникам, знал, что Габриэлла не думает о фазанах, и Орест о них не думает, и Поли тоже. И вот я решил отстать от них всех и найти укромное местечко где-нибудь в тростнике, откуда было бы видно равнину. Так я и сделал и, растянувшись на траве, закурил.
Конечно, было тяжело не видеть Габриэллу, не слышать ее голоса, не быть на месте Ореста. Я спросил себя, не было ли в последнем разговоре с ним какой-то доли досады, обиды с моей стороны. Меня мучила мысль о том, что один из нас любовно ведет ее по роще, быть может, к беседке, и там они при свете дня… Я вспоминал До, вспоминал болото. Куда делся запах смерти, присущий лету? И вся наша болтовня, все наши разговоры?
Раздался ружейный выстрел. Я напряг слух. Послышались веселые голоса, я различил голос Пьеретто. Снова выстрел. Вскочив на ноги, я искал глазами среди виноградников облачко дыма. Они были внизу, у самого грабового леса. Вот дураки эти двое, пробормотал я, они в самом деле стреляют фазанов. И, снова бросившись на траву, я стал слушать неясный гул, раскаты выстрелов, жизнь Греппо со всеми ее приливами и отливами, которой я мог теперь спокойно наслаждаться.
Мы пошли домой, когда тень холма уже покрывала долину. Они убили с десяток воробушков, которых показали мне, раскрыв ягдташ, где они лежали окровавленные среди патронов. Габриэлла шла с Орестом и Пьеретто и, увидев меня, надулась; меня спросили, куда я, черт побери, запропастился.
– В другой раз они попадут в тебя. Будь поосторожнее, – сказал мне Поли с самым спокойным видом.
За столом мы опять заговорили об охоте, о фазанах, об облавах, которые можно устроить. Орест говорил с жаром, убежденно, как это давно уже с ним не случалось. Габриэлла не сводила с него глаз, и вид у нее был задумчивый, отрешенный.
– Давид и Чинто пустили в расход заповедник, – говорил Орест. – Почему ты не сменишь лесника?
– Тем лучше, – говорил Поли. – Охота – детская игра.
– Игра владетельных особ, – сказал Пьеретто, – феодальных синьоров. Как раз то, что требуется в Греппо.
Потом Габриэлла свернулась клубочком в кресле и продолжала слушать наш разговор, не потребовав ни карт, ни музыки. Она курила и слушала, посматривала то на одного, то на другого и как будто улыбалась. Подали вино, но она не стала пить. Я смотрел на Поли и думал о том, как проходят вечера в Греппо, когда он и Габриэлла одни. Должны же мы были когда-нибудь уехать. Да и они сами должны были уехать. Что делалось на этой вилле в зимние вечера? Меня охватила печаль при мысли о том, что лето в Греппо, любовь Ореста, эти слова, и эти паузы, и мы сами – все скоро пройдет, все кончится.
Но тут Габриэлла вскочила на ноги, со стоном потянулась, как девочка, и сказала, даже не взглянув на нас:
– Погасите свет. Ведь правда, Орест, чтобы увидеть летучих мышей, надо погасить свет?
Они вышли и сели на ступеньки, и мы присоединились к ним. Звезд было больше, чем сверчков, стрекотавших вокруг, Мы заговорили о звездах и о временах года.
– Последняя утренняя звезда показывается вон там, – сказал Орест.
Он и Габриэлла встали и пошли прогуляться среди деревьев; они шли бок о бок, прижимаясь друг к другу; нам слышно было, как шелестят их шаги. Было странно подумать, что Поли сидит между нами. На мгновение мне показалось, что среди нас он единственный здравомыслящий человек. Мы с Пьеретто молчали, взволнованные и встревоженные. А Поли сказал:
– Похоже на ту ночь, когда мы с холма смотрели на Турин.
– Чего-то не хватает, – проговорил я.
– Не хватает крика.
Тогда Пьеретто – я услышал, как он вобрал в себя воздух, – оголтело заорал, взвизгивая и подхохатывая. В доме послышался топот ног и захлопали двери, а издалека донесся приглушенный голос откликнувшегося Ореста.
– Как бы Габриэлла не простудилась, – сказал Поли.
– Не выпить ли нам чего-нибудь? – сказал Пьеретто.
XXV
– До чего охота зайти в бар, – сказал Пьеретто, когда мы, захватив бутылку, снова уселись на ступеньках, – пройти мимо кино, пошататься ночью по Турину. А вам?
– Иногда, – сказал Поли, – я себя спрашиваю, понимают ли женщины некоторые вещи. Понимают ли они, что такое мужчина… Женщины либо бегают за мужчиной, либо заставляют его гоняться за собой. Ни одна женщина не выносит одиночества.
– То-то их и встречаешь в час ночи на улице, – сказал Пьеретто.
– Было время, когда я считал их чувственными, – сказал Поли, глядя в землю, – думал, что они хоть по этой части сильны. Ничуть не бывало. Они и в этом поверхностны. Ни одна женщина не стоит щепотки наркотика.
– Но разве это не зависит также и от мужчины? – сказал я.
– Факт тот, что женщины душевно мертвы, – сказал Поли. – У них нет внутренней свободы. Потому-то они всегда гоняются за кем-то, кого никогда не находят. Самые интересные из них – отчаявшиеся, те, что не способны наслаждаться… Их не удовлетворяет ни один мужчина. Это настоящие femmes damnées[21]21
Окаянные женщины (франц.).
[Закрыть].
– Dans les couvents[22]22
В монастырях (франц.).
[Закрыть],– сказал Пьеретто.
– Какое там, – сказал Поли. – Их можно найти в поездах, в гостиницах, где угодно. В самых лучших семьях. Женщины, затворившиеся в монастырь или заключенные в тюрьму, – это женщины, нашедшие любовника… Бог, которому они молятся, или мужчина, которого они убили, ни на минуту не покидает их, и они спокойны…
Скрипнул гравий, и я прислушался в надежде, что Орест и Габриэлла возвращаются и делу конец, но это, видно, упала шишка или проскользнула ящерица.
– К тебе это не имеет отношения, – сказал Пьеретто. – Или ты сам хочешь кого-нибудь убить?
Поли закурил, и огонек сигареты осветил его лицо; глаза у него были прикрыты. Мне показалось, что слова Пьеретто задели его. Из темноты послышалось:
– Я для этого недостаточно альтруистичен. Меня это удовольствие не привлекает.
– Он предоставляет людям самим лишать себя жизни, – сказал я Пьеретто.
Мы долго молчали, созерцая звезды. С холма поднимался, разливаясь среди сосен в ночной прохладе, сладкий, почти цветочный запах. Я вспомнил жасмин у беседки; должно быть, когда-то его цветы в тени боскета походили на россыпь звезд. Жили ли когда-нибудь в этом павильоне?
– Животные понимают человека, – сказал Поли. – Они лучше нас умеют быть одни…
Слава богу, прибежала Габриэлла, крича: «Не поймаешь!» Подошел Орест, не такой возбужденный.
– Вот твой цветок, – сказал он ей.
– Орест видит в темноте, как кошка, – со смехом сказала Габриэлла. – В темноте он даже говорит мне «ты». Послушайте, – обратилась она к нам, – говорите мне все «ты», и дело с концом.
Когда мы вошли в помещение и зажгли свет, натянутость прошла. Мы рассеялись по комнате, и Габриэлла, напевая, выбрала пластинку. В волосах у нее был цветок олеандра. Она откинулась на спинку кресла и стала слушать песню. Это был томный блюз с синкопами, исполняемый звучным контральто. Орест молчал, стоя у проигрывателя.
– Хорошо, – сказал Пьеретто. – Мы этой пластинки никогда не слышали.
Габриэлла слушала улыбаясь.
– Это что-то из пластинок Мауры? – сказал Поли.
Так кончился этот вечер, и мы пошли спать. Я спал плохо, тяжелым сном. Меня разбудил Пьеретто, который вошел в мою комнату, когда солнце стояло уже высоко.
– У меня болит голова, – сказал я.
– Ты не одинок, – сказал он. – Слышишь, уже наяривают.
Дом наполнял голос с пластинки, то самое контральто.
– С ума сошли, что ли, в такое время?
– Это Орест приветствует возлюбленную, – сказал Пьеретто. – Остальные спят.
Я окунул лицо в таз и, отфыркиваясь, сказал:
– Он не перебарщивает?
– Глупости, – сказал Пьеретто. – Кого я толком не пойму, так это Поли. Я не ожидал, что он станет жаловаться. Похоже, он все-таки не хочет, чтобы ему наставили рога.
Начав было причесываться, я остановился и сказал:
– Если я правильно понял, Поли устал от женщин. Он сказал, что они ему житья не дают. Он предпочитает животных и нас.
– Ничего подобного. Разве ты по заметил, что он с болью говорит о женщинах? Он влюбленный дурак…
Когда мы спустились, песня давно уже кончилась. Пинотта, которая смахивала пыль, сообщила нам, что Орест, как только поставил пластинку, сел на двуколку и уехал, сказав, что к полудню вернется.
– Так и есть, – сказал Пьеретто, – он себе места не находит.
– Он приедет на велосипеде, – сказал я.
Пьеретто усмехнулся, а Пинотта нахально посмотрела на меня. Я не удержался и сказал:
– Интересно, как на него повлияет прогулка на станцию.
– Она будет ему полезна для здоровья, полезна для здоровья, – ответил Пьеретто и потер руки. Потом сказал Пинотте: – Вы не забыли про сигареты?
Часов в одиннадцать, когда мне стало невмоготу, я поднялся наверх и постучал в комнату Поли. Я хотел попросить у него аспирин.
– Войдите, – сказал он.
Он лежал на кровати под балдахином в своей роскошной гранатовой пижаме, а у окна сидела Габриэлла, уже в шортах.
– Извините.
Она посмотрела на меня так, как будто в моем появлении было что-то забавное.
– Сегодня день визитов, – сказала она.
Я почувствовал какую-то неловкость. Мне не понравились их лица.
Габриэлла сама встала достать мне таблетки от головной боли. Она прошла через комнату по сверкающим как зеркало красным плиткам, которыми был вымощен пол, и стала рыться в ящике комода.
– Только бы не ошибиться, – сказала она, и я увидел в зеркале ее смеющееся лицо.
– Это в ванной, – сказал Поли.
Габриэлла выскользнула из комнаты.
– Мне очень жаль, – пролепетал я. – Но прошлой ночью мы не спали.
Поли, не улыбаясь, смотрел на меня со скучающим выражением лица. У меня было такое впечатление, что он не видит меня. Он пошевелил рукой, и только тут я заметил, что он курит.
Вернулась Габриэлла и протянула мне таблетки.
– Мы сейчас спустимся, – сказала она.
Я со своей головной болью провел утро у грота. Я спрашивал себя, виден ли из лоджии Габриэллы тростник, где я нахожусь. Я думал о старой Джустине, о матери Ореста, о том, что они сказали бы, если бы знали, что происходит в Греппо. Но в это утро я чувствовал себя спокойнее, мне казалось, что самое трудное позади, что все еще может уладиться. Что за несчастье, говорил я себе, что это случилось именно с Орестом, у которого уже есть девушка. Видно, такой уж у него характер.
Вернувшись на виллу, я никого не нашел и остановился под соснами. Можно было только гадать, приехал ли Орест. Всякий раз, когда я возвращался с такой прогулки, я думал, что, быть может, она последняя. Но пока Поли не прогонял нас, это значило, что он еще переносит паше присутствие; если бы Пьеретто был прав, Поли уже указал бы нам на дверь. Он был все такой же, Поли: терпел Ореста, только бы иметь под рукой Пьеретто, да и меня, чтобы было с кем поговорить, терпел из лени и равнодушия. В общем, из обычной низости.
Орест, к сожалению, приехал. Мне сказал это Пьеретто.
– Они загорают на балконе, – бросил он с невинным видом, а Поли, который шел рядом с ним, казалось, не обратил на это внимания. Лицо у него было невыспавшееся. Он курил, и я заметил, что у него дрожит рука.
– Загорают наверху? – пролепетал я.
Они посмотрели на меня, как на какого-то надоеду, и принялись опять говорить о боге.
Но за завтраком Поли кое-что сказал. Он пожаловался, что кто-то из нас запустил пластинку в семь часов утра. Он даже накинулся на Габриэллу за то, что она разбудила его. Сердито сказал:
– Всему свое время.
Габриэлла свирепо смотрела на него. Но тут Орест с шутливо покаянным видом объявил, что это он виновник происшествия.
Воцарилось молчание, и Габриэлла метнула на Ореста испепеляющий взгляд. Она была в бешенстве.