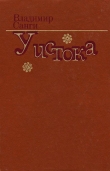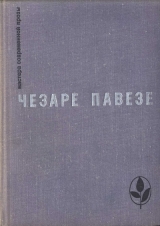
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Чезаре Павезе
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 32 страниц)
– Ничего себе, – сказал он как ни в чем не бывало.
Все стали смеяться и утешать Джинию, но она, ничего не слушая, босиком убежала за портьеру и кое-как оделась сама не своя. Никто не пошел за ней. Второпях Джиния порвала резинку трусиков. Потом она постояла в темноте, с отвращением глядя на смятую постель. В комнате все молчали.
– Джиния, – раздался за занавесью голос Амелии, – можно?
Джиния ухватилась за портьеру и ничего не ответила.
– Оставь в покое эту дурочку, – послышался голос Гвидо.
Тогда она молча заплакала, цепляясь за портьеру. Она выплакивала душу, как в ту ночь, когда Гвидо спал. Ей казалось, что с Гвидо она только и делала, что плакала. Время от времени она говорила себе: «Почему же они не уходят?» Ее туфли и чулки остались возле тахты.
Она плакала долго и чувствовала себя совсем одуревшей от слез, когда портьера внезапно раздвинулась и Родригес протянул ей туфли. Джиния взяла их, ни слова не говоря, и лишь мельком увидела его лицо и уголок студии. В эту минуту она поняла, что сделала глупость – так разволновалась, что и у остальных отбила охоту смеяться. Она заметила, что Родригес не отходит от портьеры.
Тут ее охватил безумный страх, что Гвидо подойдет и начнет безжалостно срамить ее. «Гвидо крестьянин, – думала она, – он не станет со мной церемониться. Что я сделала! Мне бы посмеяться вместе со всеми». Она надела чулки и туфли.
Выйдя из-за портьеры, она не взглянула на Родригеса. Ни на кого не взглянула. Мельком увидела только голову Гвидо, стоявшего за мольбертом, и снег на крышах. Амелия, улыбаясь, поднялась с тахты.
Джиния одной рукой схватила с тахты свое пальто, другой шляпу, бросилась к двери и выбежала.
Когда она очутилась одна на снегу, ей показалось, что она все еще голая. Улицы были пустынны, и она не знала, куда идти. Ею так мало интересовались там, наверху, что даже не удивились, когда она пришла в такое необычное время. Она растравляла себя мыслью о том, что лето, которого она ждала, уже никогда не наступит, потому что теперь она одинока и больше не будет ни с кем разговаривать, а будет только работать весь день, на радость синьоре Биче. В какой-то момент она сообразила, что меньше всех виноват Родригес, потому что он всегда спал до двенадцати, а они разбудили его и тогда он, понятно, посмотрел на нее. «Если бы я повела себя, как Амелия, я бы их всех поразила. А я разревелась». При одной мысли об этом у нее опять навертывались слезы.
Но по-настоящему предаваться отчаянию Джинии не удавалось. Она понимала, что сама наглупила. Все утро она думала о том, что хорошо бы покончить с собой или по крайней мере схватить воспаление легких. Тогда оказались бы виноваты они и их замучили бы угрызения совести. Но кончать с собой не стоило. Она сама вздумала разыгрывать из себя взрослую женщину, и у нее ничего не вышло. Не кончать же с собой только оттого, что вошла в шикарный магазин, где все не про тебя. Коли глупа, сиди дома. «Недотепа я несчастная», – говорила Джиния и жалась к стенам домов.
Когда после обеда она пришла в ателье, синьора Биче, едва увидев ее, вскричала:
– Что за жизнь вы ведете, девушки! Ты выглядишь так, как будто беременна.
Джиния сказала, что утром у нее был жар. Она была даже довольна: по крайней мере по ней видно, что она страдает. Но, возвращаясь домой, она остановилась на лестнице и попудрилась, потому что стыдилась Северино.
В этот вечер она ждала Розу, ждала Амелию, ждала даже Родригеса, решив захлопнуть дверь перед носом у любого, кто придет. Но никто не приходил. Вдобавок ко всему Северино бросил на стол пару дырявых носков, спросив, уж не хочет ли она, чтобы он ходил босой.
– Ну и влипнет же тот дурак, который на тебе женится, – сказал он. – Если бы мама была жива, она бы тебе показала.
Джиния, у которой глаза были красные, а на сердце кошки скребли, через силу засмеялась и ответила, что скорее повесится, чем выйдет замуж. В этот вечер она не стала мыть посуду. Она постояла у двери, прислушиваясь, потом послонялась по кухне, не подходя к окну, чтобы не видеть белых от снега крыш. Нашла в кармане пиджака Северино сигареты и попробовала закурить. Увидела, что это у нее получается, и, нервно затягиваясь, бросилась на тахту, решив с завтрашнего дня курить.
Теперь Джинии уже не приходилось спешить, чтобы успеть переделать все дела, но от этого ей было только хуже, потому что она уже научилась управляться по дому на скорую руку и у нее оставалось много времени для раздумий. Курить ей было мало – ей до смерти хотелось, чтобы кто-нибудь увидел, как она курит, но даже Роза не заходила к ней. Было ужасно тоскливо вечером, когда уходил Северино, и, оставшись одна, Джиния все ждала, ждала, что кто-нибудь придет, не решаясь выйти из дому. Однажды, когда она раздевалась, собираясь лечь в постель, она ощутила сладкую дрожь, словно от ласки, и тогда она встала перед зеркалом, без смущения оглядела себя и, подняв руки над головой, повернулась кругом, чувствуя, как к горлу подкатывает комок. «Вот если бы сейчас вошел Гвидо, что бы он сказал?» – спрашивала она себя, хотя прекрасно знала, что Гвидо о ней и не думает. «Мы даже не попрощались», – проговорила она и поскорее легла в постель, чтобы не плакать голой.
Иногда на улице Джиния останавливалась, потому что вдруг представляла себе летние вечера и, казалось, даже чувствовала разливающийся в теплом воздухе аромат, и краски, и звуки, и тени платанов. Останавливалась на углах и с тоскою мечтала обо всем этом среди грязи и снега. «Лето, конечно, придет, иначе и быть не может», – говорила она себе, но именно теперь, когда она была одинока, это казалось ей невероятным. «Я старуха, вот что. Все хорошее для меня кончилось».
И вот однажды вечером, когда Джиния спешила домой, она встретила у подъезда Амелию. От неожиданности они не поздоровались, но Джиния остановилась. Амелия, приодетая, в шляпке с вуалью, прогуливалась взад и вперед, как видно поджидая кого-то.
– Что ты тут делаешь? – спросила Джиния.
– Жду Розу, – сиплым голосом сказала Амелия, и они посмотрели друг на друга.
Джиния поджала губы и взбежала по лестнице.
– Что с тобой сегодня? – сказал ей Северино за едой. – Ухажер на свидание не пришел?
Когда Джиния осталась одна, ее по-настоящему разобрала тоска. Она даже не плакала. Как безумная кружила по комнате. Потом бросилась на тахту.
Но как раз в этот вечер пришла Амелия. Джиния не поверила своим глазам, когда открыла дверь. Но Амелия вошла, как обычно, спросила, дома ли Северино, и села на тахту.
Джиния даже забыла закурить. Они перекинулись несколькими словами о том, о сем – просто так, чтобы не молчать. Амелия сняла шляпку и заложила ногу на ногу. Джинии, которая стояла, опершись о стол, возле низко опущенной лампы, не было видно ее лица. Заговорили о наступивших холодах, и Амелия сказала:
– Как я промерзла сегодня утром.
– Ты все еще лечишься? – спросила Джиния.
– А что? Я изменилась?
– Не знаю, – сказала Джиния.
Амелия попросила закурить: на столе лежала пачка сигарет.
– Я тоже курю, – сказала Джиния.
Когда они закуривали, Амелия сказала:
– Ну, ты отошла?
Джиния залилась краской и ничего не ответила. Амелия, глядя на свою сигарету, сказала:
– Я так и думала.
– Ты оттуда? – пролепетала Джиния.
– Не важно, – ответила Амелия. – Хочешь, пойдем в кино?
Докуривая сигарету, Амелия со смехом сказала:
– Ты произвела впечатление на Родригеса. Он спрашивал, нравишься ли ты мне. Теперь Гвидо ревнует к нему.
Джиния попыталась улыбнуться, а Амелия продолжала:
– Слава богу, к весне я буду здорова. Врач говорит, что вовремя взялся за меня. Послушай, Джиния, в кино не идет ничего хорошего.
– Пойдем куда хочешь, – сказала Джиния, – веди меня.
ДЬЯВОЛ НА ХОЛМАХ
ПОВЕСТЬ
© Перевод Н. Наумов
I

Мы были тогда очень молоды. В тот год я, кажется, никогда не спал. Но был у меня товарищ, который спал еще меньше, чем я, и случалось, рано утром, когда прибывают и отправляются первые поезда, он уже прогуливался перед станцией. Это значило, что после того, как мы поздней ночью расстались с ним у подъезда его дома, Пьеретто побродил еще и уже на рассвете выпил где-нибудь кофе. А теперь он разглядывал заспанные лица метельщиков и велосипедистов. Он даже не помнил о наших ночных разговорах – пока он шатался, они выветрились у него из головы, и спокойно говорил: «Поздно уже. Пойду спать».
Если за нашей компанией увязывался еще кто-нибудь из ребят, он понять не мог, что мы собираемся делать в такое время, когда кино уже кончилось, остерии закрылись, улицы опустели и все смолкло. Он сидел с нами тремя на скамейке, слушал, как мы переговариваемся или зубоскалим, загорался, когда нам приходило в голову пойти будить девушек или встречать восход на холмах, а когда мы отказывались от этой затеи, сникал и, помешкав, уходил домой. На следующий день он нас спрашивал: «Что же вы делали?» Ответить ему было нелегко. Мы послушали пьяного, посмотрели, как расклеивают афиши, обошли базарную площадь, видели прогуливающихся проституток. Тогда Пьеретто говорил: «Мы познакомились с одной женщиной».
Парень не верил, но, оторопев, слушал с раскрытым ртом.
– Тут нужна настойчивость, – говорил Пьеретто. – Прогуливаешься взад и вперед под балконом. Всю ночь. Она это знает, замечает. Не важно, что ты с ней не знаком, такие вещи нутром чувствуешь. И вот она не выдерживает, соскакивает с кровати и распахивает ставни. Ты приставляешь лестницу…
Но между собой мы не любили разговаривать о женщинах. Во всяком случае, всерьез. Ни Пьеретто, ни Орест не откровенничали со мной. Поэтому они мне и нравились. Черед женщин, тех, что разлучают друзей, видно, еще не пришел. А пока мы разговаривали о том, о сем, обо всем на свете, и до того нам это нравилось, что не хотелось тратить время на сон.
Однажды ночью мы сидели на скамейке на берегу По. Орест проговорил:
– Пойдемте спать.
– Прикорни здесь, – сказали мы ему. – Лето ведь, пользуйся. Не можешь, что ли, спать вполглаза?
Орест, прижавшись щекой к спинке скамейки, искоса посмотрел на нас.
Я говорил о том, что в городе никогда не следовало бы спать: «Всегда огни горят, всегда светло, как днем. Надо бы и по ночам что-нибудь делать».
– Все дело в том, что вы еще мальчишки, – сказал Пьеретто. – Оттого и угомониться не можете.
– А ты-то кто? – сказал я. – Старик, что ли?
Орест вдруг вскинулся:
– Старики, говорят, никогда не спят. Мы шатаемся по ночам. Интересно знать, кто же спит.
Пьеретто посмеивался.
– Ты что? – спросил я, насторожившись.
– Чтобы спать, надо сперва побаловаться с женщиной, – сказал Пьеретто. – Вот почему старики не спят и вы не спите.
– Может быть, – пробормотал Орест, – но все равно у меня слипаются глаза.
– Ты не городской, – сказал Пьеретто. – Для таких людей, как ты, ночь еще имеет смысл – тот же самый, что в былые времена. Ты вроде дворняжки или курицы.
Был уже третий час.
Холм по ту сторону По искрился, словно усыпанный блестками. Было прохладно, пожалуй, даже холодно.
Мы поднялись и пошли назад, к центру. Я думал о том, какой ловкач Пьеретто: себя поддеть не даст, а нас всегда выставляет лопухами. Ни я, ни Орест, к примеру, не томились бессонницей из-за женщин. В который раз я спросил себя, какую жизнь вел Пьеретто до того, как приехал в Турин.
На скамейках у привокзального газона, под чахлыми деревцами, спали с открытым ртом два оборванца. Без пиджаков, курчавые, с черными бородами, они были похожи на цыган. Неподалеку находились уборные, и, несмотря, на ночную свежесть и разлитый в воздухе запах лета, здесь стояла вонь, точно напоминание о длинном солнечном дне, сутолоке и шуме, о пыли и поте, выщербленном асфальте, беспокойной толпе. Под вечер на этих скамейках у газона – жалкого оазиса в сердце Турина – всегда сидят невзрачные женщины, бобыли, лоточники, горемыки. Чего они ждут? Пьеретто говорил, что они ждут чего-то необыкновенного – землетрясения, от которого рухнет город, светопреставления. Иногда летняя гроза разгоняет их и все омывает.
Два оборванца спали как убитые. На безлюдной площади какая-то светящаяся вывеска еще взывала к пустому небу, бросая отблески на их лица.
– Вот разумные люди. Надо взять с них пример, – сказал Орест и было двинулся домой.
– Пойдем с нами, – сказал Пьеретто. – Дома тебя никто не ждет.
– Ну и там, куда вы идете, меня тоже никто не ждет, – сказал Орест, но остался.
Мы свернули к новой галерее.
– Этим парням можно позавидовать, – сказал я тихо. – Должно быть, хорошо проснуться на площади при первых лучах солнца.
Пьеретто ничего не ответил.
– Куда мы идем? – сказал я, останавливаясь.
Пьеретто прошел еще несколько шагов и тоже остановился.
– Я бы не прочь куда-нибудь зайти, но везде закрыто, – сказал я. – Хотел бы я знать, на что нужна вся эта иллюминация.
Пьеретто не ответил по своему обыкновению: «А ты на что нужен?», а проговорил:
– Хочешь, пойдем на холм?
– Далеко, – сказал я.
– Далеко, но зато как там пахнет, – сказал он.
Мы снова спустились по проспекту; на мосту мне стало холодно; потом быстрым шагом, чтобы поскорее оставить позади привычные места, мы стали подниматься по склону. Было сыро, темно, луна не показывалась; в воздухе мелькали светляки. Немного погодя мы замедлили шаг, запыхавшись. На ходу мы с Пьеретто говорили о себе; говорили с жаром и втягивали в разговор Ореста, вспоминали, как ходили по этим дорогам, разгоряченные вином или спором. Но все это не имело значения, все это было только поводом для того, чтобы идти, подниматься, мерить шагами холм. Мы шли мимо полей, оград, решеток вилл, вдыхали запах асфальта и леса.
– По-моему, пахнет так же, как от цветка в вазе, никакой разницы, – сказал Пьеретто.
Как ни странно, мы до сих пор никогда не поднимались на вершину холма, по крайней мере по этой дороге. Где-то должен был быть перевал, высшая точка косогора, откуда, как я себе представлял, взору, словно с балкона, открывается внешний мир – раскинувшиеся внизу равнины. С других точек холма, из Суперги, из Пино, мы днем уже смотрели на окрестности. Орест показывал нам пальцем на темнеющие вдали, за морем крутогоров, лесистые урочища – его родные места.
– Поздно очень, – сказал Орест. – Когда-то здесь было полно всяких заведений.
– В какое-то время они закрываются, – сказал Пьеретто. – Но те, кто уже там, кутят до утра.
– Подумаешь, – сказал я, – стоит подниматься летом на холм, чтобы развлекаться за закрытыми ставнями и дверьми.
– Там, наверное, есть сад, лужайки, – сказал Орест. – Спят, должно быть, в парке.
– Где-то и парки кончаются, – сказал я. – Начинаются леса и виноградники.
Орест что-то проворчал. Я сказал Пьеретто:
– Ты не знаешь сельской местности. Бродишь ночи напролет, а сельской местности не знаешь.
Пьеретто не ответил. Время от времени где-то лаяла собака.
– Хватит, дальше не пойдем, – сказал Орест на повороте дороги.
Пьеретто вышел из задумчивости.
– Тем более, – поспешно сказал он, – что зайцы и змеи притаились – боятся прохожих, а пахнет здесь бензином. Где теперь та сельская местность, которая вам по душе?
Он с ожесточением набросился на меня.
– Неужели ты думаешь, – произнес он безапелляционным тоном, – что, если кого-нибудь зарежут в лесу, все будет как в сказке? Как бы не так, и сверчки вокруг мертвого не умолкнут, и озеро крови будет не больше плевка.
Орест с отвращением сплюнул. Потом сказал:
– Осторожно, машина.
Медленно и бесшумно показался большой открытый бледно-зеленый автомобиль и послушно остановился как вкопанный, оставшись наполовину в тени деревьев. Мы растерянно уставились на него.
– Смотри-ка, фары погашены, – сказал Орест.
Я подумал, что в автомобиле какая-нибудь парочка и что лучше бы нам в эту минуту быть далеко отсюда, на перевале, и никого не встретить. Почему они не катят в Турин на своей роскошной машине, не оставят нас одних на раздолье? Орест, глядя в землю, сказал, что надо двигаться.
Я ожидал, что, приблизившись к машине, услышу шепот и шорох, а может, и смех, но вместо того увидел только мужчину за рулем – молодого человека, который сидел, откинувшись на спинку сиденья и запрокинув голову к небу.
– Он похож на мертвеца, – сказал Пьеретто.
Орест уже вышел из тени. Мы шли под стрекот сверчков – Орест впереди, Пьеретто рядом со мной; и, пока я сделал несколько шагов под деревьями, мне много чего пришло в голову. Пьеретто молчал. Напряжение стало невыносимым. Я остановился.
– Не может быть, – сказал я. – Он не спит.
– Чего ты боишься? – сказал Пьеретто.
– Ты видел его?
– Он спал.
Я сказал, что так не засыпают, да еще за рулем. У меня в ушах еще звучали слова ни с того ни с сего вспылившего Пьеретто.
– Хоть бы прошел кто-нибудь.
Мы обернулись и посмотрели на изгиб дороги, где чернели деревья. Над дорогой промелькнул светлячок, как огонек сигареты.
– Послушаем, поедет ли он дальше.
Пьеретто сказал, что, имея такую машину, можно в свое удовольствие смотреть на звезды. Я напряг слух.
– Может, он нас увидел.
– Посмотрим, откликнется он или нет, – сказал Орест и издал крик. Дикий, звериный, он вначале походил на рев быка, а кончился чем-то вроде пьяного хохота. Мы все прислушались. Опять залаяла собака; испуганные сверчки умолкли. Никакого ответа. Орест открыл рот, чтобы повторить крик, а Пьеретто сказал:
– Начали.
На этот раз мы заорали все вместе, протяжно, с повторами и завыванием. У меня по коже мурашки забегали при мысли о том, что от такого вопля, как от луча прожектора в ночи, нигде не укроешься – он разносится по склонам, слышится на глухих тропинках, проникает в темные буераки, норы, дупла, и от него все дрожит.
Снова остервенело залилась собака. Мы прислушивались, глядя на изгиб дороги. Я хотел было сказать: «Наверно, он умер от страха», как вдруг раздался звук захлопнувшейся дверцы машины. Орест сказал мне на ухо: «Летучка[17]17
«Летучка» – летучая бригада, мобильный отряд полиции.
[Закрыть]принеслась», – и мы замерли в ожидании, не спуская глаз с купы деревьев. Но ничего не произошло. Собака унялась, и повсюду под звездным небом снова слышался стрекот сверчков. Мы все смотрели на темную полоску у дороги.
– Подойдем, – сказал я, наконец. – Ведь нас трое.
II
Когда мы приблизились, он сидел на подножке машины, опустив голову и закрыв лицо руками. Он не пошевелился. Мы стояли поодаль и смотрели на него, как на опасного зверя.
– Рвет его, что ли? – сказал Пьеретто.
– Может быть, – сказал Орест.
Он подошел к неизвестному и положил ему руку на лоб, будто пробуя, нет ли у него жара. Тот уперся лбом в его ладонь, точно пес, играющий с хозяином. Они как бы отталкивали друг друга, и я расслышал, как они посмеиваются. Орест обернулся.
– Это Поли, – сказал он. – Я его знаю. У них вилла в наших местах.
Незнакомец, сидя, держал за руку Ореста и мотал головой, словно отряхивался, выходя из воды. Это был красивый молодой человек, постарше нас, с мутными, осоловелыми глазами. Не выпуская руки Ореста, он посмотрел на нас невидящим взглядом.
Тут Орест сказал:
– Ты ведь, кажется, был в Милане?
– Для тяги еще время не пришло, – сказал тот. – Ты на белок охотишься?
– Что ты, мы же не на Взгорьях, – проговорил Орест и высвободил руку. Потом оглядел автомобиль и сказал: – Вы сменили машину?
«Что он толкует с пьяным? – подумал я. Страх, который я испытывал вначале, перешел в раздражение. – Бросил бы его, и пусть себе валяется в канаве».
Этот тип глядел на нас. Он был похож на тех больных, которые, лежа в постели, смотрят в одну точку, подавленные и печальные. Никто из нас никогда не доходил до такого состояния. Однако он был загорелый и вообще на вид хоть куда, под стать своей машине. Мне стало стыдно, что мы так вопили.
– Отсюда не видно Турина? – сказал он, с живостью поднимаясь на ноги и оглядываясь вокруг. – Странно. Вы не видите Турина?
Если бы не его голос, слабый, сдавленный, хриплый, можно было бы подумать, что он совсем пришел в себя. Поглядев по сторонам, он сказал Оресту:
– Я здесь третью ночь. Здесь есть место, откуда виден Турин. Пойдемте туда? Это чудесное место!
Теперь мы стояли кружком, и Орест вдруг спросил его в упор:
– Ты удрал из дому?
– В Турине меня ждут, – сказал он. – Разбогатевшие люди, которых невозможно выносить. – Он посмотрел на нас, улыбаясь, как застенчивый ребенок. – До чего противны люди, которые все делают в перчатках. И детей, и миллионы.
Пьеретто косо посмотрел на него.
Поли достал сигареты и угостил нас всех. Сигареты были мягкие, раскрошившиеся. Мы закурили.
– Если бы они увидели меня с тобой и твоими приятелями, – сказал Поли, – они подняли бы меня на смех. А мне забавно оставлять с носом этих людей.
Пьеретто громко сказал:
– Немного же вам нужно, чтобы позабавиться.
Поли сказал:
– Я люблю пошутить. А вы не любите?
– Плохо говорить о разбогатевших людях, – сказал Пьеретто, – имеет право только тот, кто и сам сумел разбогатеть. Или умеет жить, не тратя ни гроша.
Поли с удрученным видом сказал:
– Вы так думаете?
Он произнес это таким озабоченным тоном, что даже Орест не сдержал улыбки. Внезапно Поли обнял нас за плечи, сгреб в кучу и, как бы беря в сообщники, еле слышно сказал:
– У меня есть на то другая причина.
– Какая же?
Поли опустил руки и вздохнул. Он смотрел на нас проникновенно и кротко, как будто даже изменившись в лице.
– Дело в том, что в эту ночь я чувствую себя как бог, – сказал он тихо.
Никто не засмеялся. Мы с минуту постояли молча, потом Орест предложил:
– Пойдемте посмотрим на Турин.
Мы прошли немного вниз, до уступа у поворота дороги, где полыхали отсветы Турина, и остановились на краю откоса. Поднимаясь в гору, мы не оборачивались. Поли, положив руку на плечо Ореста, смотрел на море огней. Отбросил сигарету и смотрел.
– Ну, что будем делать? – сказал Орест.
– До чего мал человек, – сказал Поли. – Улицы, дворы, гребни крыш. Отсюда кажется – море звезд. А когда ты там, этого не замечаешь.
Пьеретто отошел на несколько шагов. Мочась на кусты, он крикнул:
– Вы просто издеваетесь над нами, и больше ничего!
Поли спокойно сказал:
– Я люблю столкновения взглядов. Только в столкновениях чувствуешь себя сильнее, возвышаешься над самим собой. Без них жизнь пошла. Я не строю себе иллюзий.
– А кто их строит? – сказал Орест.
Поли поднял глаза и улыбнулся.
– Кто? Да все. Все те, кто спит в этих домах. Они видят сны, просыпаются, любятся, думают: «Я такой-то и такой-то», воображают, что имеют вес, а на самом деле…
– Что на самом деле? – сказал Пьеретто подходя.
Поли запнулся, потеряв нить мысли. Щелкнул пальцами, подыскивая слово.
– Ты говорил, что жизнь скучна, – сказал Орест.
– Какие мы сами, такая у нас и жизнь, – сказал Пьеретто.
Поли сказал:
– Давайте сядем.
Он совсем не выглядел пьяным. Я начал думать, что блуждающий взгляд так же обычен для этого человека и так же неотделим от него, как шелковая рубашка, манера пожимать руку, красивый автомобиль.
Мы немного поболтали, сидя на траве. Впрочем, я молчал, слушая стрекот сверчков. Поли как будто не обращал внимания на сарказмы Пьеретто: он объяснял ему, почему три ночи кряду не показывался в Турине и избегал всякого общества, называл гостиницы, видных людей, содержанок. И по мере того, как Пьеретто, по всей видимости, проникался к нему интересом и симпатией, я, наоборот, внутренне отдалялся от него, склоняясь к мнению, что он просто без царя в голове. Он снова сделался для меня таким же чуждым и безразличным, как в ту минуту, когда автомобиль остановился и я подумал, что в нем забавляется парочка.
Я вдруг сказал:
– Стоило уходить из Турина, чтобы без конца говорить о нем.
– Да, – сказал Орест, вскакивая на ноги. – Двинемся домой, завтра надо работать.
Поли поднялся, поднялся и Пьеретто.
– А ты что, не идешь? – сказали они мне.
Когда мы шли к автомобилю, я замедлил шаг и, немного отстав вместе с Орестом, спросил у него, кто такой этот Поли. Он сказал мне, что у них земли в его местах, большая вилла, целый холм. «Раньше он туда приезжал, и мы вместе охотились. Он и тогда уже был непутевым, но еще так не пил».
Он крикнул Поли:
– В этом году вы приедете в Греппо?
Поли прервал разговор с Пьеретто и обернулся.
– Папа засадил меня туда в прошлом году, не оставив машины, – сказал он не смущаясь. – Странные идеи приходят людям. Он хотел оторвать меня… От чего? Не знаю, приеду ли опять. Там было бы хорошо провести денек, но не больше. С кем-нибудь из приятелей и с пластинками.
Он любезно распахнул перед нами дверцы машины. Мне не хотелось садиться в нее, потому что теперь я понимал, что с ним мы не можем оставаться самими собой. Приходилось слушать его и принимать его взгляд на мир, отвечая ему в тон. Быть с ним вежливым значило служить ему зеркалом. Я не понимал, как мог Орест когда-то проводить с ним целые дни.
Поли сел за руль и, обернувшись, сказал:
– Значит, едем?
– Куда?
– В Греппо.
Орест вскинулся:
– Что мы, с ума сошли? Я хочу спать.
Я тоже возразил, что в такое время нелепо ехать бог знает куда.
– Еще не рассвело, – сказал Поли. – Сейчас без чего-то четыре. В пять будем там.
Мы оба закричали, что у нас есть дом.
– Отвези нас в город, – сказал Орест. – В Греппо съездим как-нибудь в другой раз.
Я шепнул ему:
– А он нас не угробит?
Орест повторил:
– Я хочу спать. Высади нас у Новых Ворот.
Мы поехали в Турин. Машина мчалась плавно и уверенно. Пьеретто, сидевший рядом с Поли, так и не раскрыл рта.
Мы ехали по освещенным, но пустынным проспектам. Орест сошел на улице Ниццы, у пассажа. Вылезая, он сказал Поли: «До свиданья». Через минуту высадили и меня у моего подъезда. Я попрощался и сказал Пьеретто: «Завтра увидимся». Машина, в которой они остались вдвоем, тронулась и унеслась.
III
Днем мы корпели над книгами, готовясь к экзаменам; в особенности Орест, который изучал медицину. Мы с Пьеретто учились на юридическом и усиленные занятия отложили на октябрь: ведь право схватывается с налету и не требует работы в лаборатории. А вот Орест вкалывал и даже не всегда ходил с нами гулять по вечерам. Но мы знали, где его найти в обед: у него дом был в деревне, и в Турине он снимал комнату, а столовался в траттории.
На следующий день после нашего ночного колобродства я пошел к нему. Он сидел в траттории и грыз яблоко, прислонившись спиной к стене и облокотись на портфель. Поздоровавшись, он спросил, видел ли я уже Пьеретто.
Было жарко. Мы, обмахиваясь, поговорили о нашем плане – отправиться на каникулы втроем в селение Ореста. Дом у него был просторный, мы бы там весело провели время. Но мы с Пьеретто хотели идти туда пешком с рюкзаком за плечами.
Орест сказал, что это ни к чему: нам и без того еще надоест деревенская глушь и жара.
– Почему ты спросил о Пьеретто?
– Неужели ты думаешь, – сказал Орест, – что он спал этой ночью?
– Может, он занимается?
– Возможно, – сказал Орест. – С Поли и его машиной. Разве ты не заметил, как они спелись?
Тут мы заговорили о прошлой ночи, о Поли, обо всем его странном поведении.
Орест сказал, что не надо удивляться. Они с Поли говорили друг другу «ты», хотя отец Поли был важной шишкой в Милане, командором и очень богатым человеком, владельцем огромного имения, куда никогда не приезжал. Поли вырос в этом имении, где проводил каждое лето с целой оравой мамок и нянек, с каретой и лошадьми, и только когда сменил короткие штанишки на брюки, смог поступать по-своему, выходить из усадьбы и знакомиться с людьми из округи. Два или три охотничьих сезона он вместе с другими ходил стрелять бекасов. Он был славный малый и с головой. Только твердости ему не хватало, это верно. За что ни возьмется бросит на середине, ничего не доводил до конца.
– Этих людей такими делает жизнь, которую они ведут, – сказал я. – Они становятся капризными, как женщины.
– Но ведь он все понимает, – сказал Орест. – Ты слышал, что он говорил о людях своего круга?
– Это он просто так говорил. Он был пьян.
Орест покачал головой и сказал, что Поли не был пьян – пьяные ведут себя не так.
– Может быть, три дня назад он действительно напился и набезобразил. Но теперь с ним что-то похуже. Пьяный вызывает у людей симпатию.
Оресту случалось отпускать такие неожиданные замечания.
– Он не нападал на людей своего круга. Он нападал на тех, кто нажил деньги, а жить не умеет, – сказал я. – Ты его друг. Ты бы должен был его знать.
– Ты же понимаешь, что это за дружба, – сказал Орест. – Вместе охотиться – все равно что вместе в школу ходить. Моему отцу это было лестно.
Он допил свой стакан, и мы ушли. Огибая здание, где помещалась траттория, на залитой солнцем улице, я заметил вскользь, что Пьеретто нахамил Поли.
– У него такая манера смеяться, что кажется, будто он плюет тебе в лицо. Он не придает этому значения, но люди обижаются.
– Кто его знает, – сказал Орест. – Я никогда не видел, чтобы Поли обижался.
Вечером ни Орест, ни Пьеретто не пришли на наше обычное место встречи. Я в тот год, когда оставался один, не знал, куда себя деть. Вернуться домой и сесть заниматься было бессмысленно; я слишком привык жить общей жизнью с Пьеретто, болтать с ним и шататься по улицам; в воздухе, в движении, в самой темноте было что-то такое, чего я не мог понять и от чего мне было не по себе. Меня всегда в таких случаях подмывало пристать к девушке, или завернуть в какой-нибудь подозрительный кабак, или же выйти на проспект и шагать, шагать до самого утра бог знает куда. Иногда я в нерешительности останавливался на углу и простаивал там чуть не час, злясь на самого себя.
Но в этот раз вышло не так плохо. Недавняя встреча с Поли избавила меня от излишней разборчивости. Я говорил себе, что всегда и везде есть счастливчики, которые, даже если это никчемные люди, дурее меня, наслаждаются жизнью больше, чем я, не гоняться же за ними. Мать и отец, сельские жители, обосновавшиеся в городе, не сознавая этого, внушили мне: сумасбродства бедняков тебе будут доступны, но сумасбродства богачей – никогда. Понятно, бедняки не значит голодранцы.
Я провел вечер в кино, но время от времени мои мысли возвращались к Поли, и это отвлекало меня и не давало спокойно смотреть картину. Когда я вышел, мне еще не хотелось спать, и я прошелся по безлюдным переулкам, вдыхая свежий воздух и глядя на звезды. Я родился и вырос в Турине, но в этот вечер я думал о выходивших прямо в поле улочках большого селения, где прошли молодые годы моих родителей. А вот Орест жил в таком селении и собирался вскоре вернуться туда. Вернуться навсегда. Ни к чему другому он не стремился. Он мог бы, если бы захотел, остаться в городе. Но какая разница?
Когда я входил в свой подъезд, меня кто-то окликнул. Это был Пьеретто, который, отделившись от стены противоположного здания, пересек улицу и подошел ко мне. Он был не прочь постоять, поболтать – спать ему еще не хотелось. Раньше он не показывался потому, что весь день был с Поли. Остаток ночи они колесили за городом; к утру оказались у озер, на солнцепеке. Поли стало плохо, и, вылезая из машины, он шмякнулся наземь, похоже было – солнечный удар. Потом оказалось, Поли нанюхался кокаина, у него было отравление. Пьеретто позвонил по телефону в ту гостиницу, где Поли остановился в Турине; ему кто-то ответил, чтобы он позвонил в Милан. «У меня на это нет денег!» – крикнул Пьеретто. Тогда один священник, который умел водить машину, сел за руль, и они отвезли Поли в Новару. Там один доктор привел его в чувство – дал ему какое-то лекарство, от которого его прошиб пот и вырвало; потом Пьеретто поругался со священником, который обвинял его в том, что он совратил своего товарища. Наконец Поли все уладил, заплатил доктору, заплатил за телефон и за завтрак, и они отвезли священника домой, рассуждая с ним по дороге о грехах и об аде.