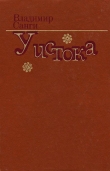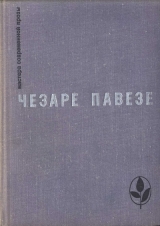
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Чезаре Павезе
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 32 страниц)
Никогда я не мог понять, хочет он сам со мной побыть или только из вежливости не уходит. Конечно, когда я ему рассказывал, какой в Генуе порт, как грузят суда, какие голоса у пароходных гудков, какая у матросов татуировка, сколько дней длится плавание, он слушал меня затаив дыхание.
А мальчишка хромой, думал я, и суждено ему всю жизнь впроголодь жить в деревне. Не сможет он ни в поле работать, ни корзины носить. Его и в солдаты не возьмут, значит, города ему не видать. Мне бы в нем хоть какое желание пробудить…
– А этот гудок на пароходе, – спросил он в тот день, – как сирена, что выла в Канелли, когда война была?
– А слышно было?
– Еще бы. Говорят, сирена сильней паровозного гудка. Ее все слышали. По ночам выходили смотреть, как бомбят Канелли. И я сирену слышал, видел самолеты…
– Да тебя тогда еще в люльке качали…
– Честное слово, помню.
Нуто, узнав, о чем я рассказываю мальчишке, вытянул губы так, словно сейчас кларнет приложит, и покачал головой.
– Это ты зря, – сказал он. – Это ты напрасно. Что ты ему в голову вбиваешь? Если ничего не переменится, жизнь у него будет собачья…
– Пусть хоть знает, что теряет.
– А зачем? Что ему за польза? Ну, будет знать, что на свете одним хорошо, а другим худо. Если у него голова на плечах, это он и так поймет. Пусть на своего отца поглядит да сходит на площадь в воскресенье, здесь у церкви такие, как он, хромые всегда попрошайничают. А внутри скамьи для богатых, на латунных дощечках их имена.
– Сильнее расшевелишь – лучше поймет, – сказал я.
– Только незачем слать его в Америку. Америка уже сюда пришла. Здесь у нас и нищие и миллионеры.
Я сказал, что Чинто надо бы обучить ремеслу, а для этого нужно, чтоб он вырвался из отцовских лап.
– Лучше бы он отца не знал, – сказал я. – Лучше уйти и самому искать выход. Если не будет жить среди людей, станет таким же, как его отец.
– Многое тут надо менять, – сказал Нуто.
Тогда я сказал ему, что Чинто – мальчик сообразительный, ему бы хорошо попасть в такое место, каким Мора была для нас.
– Мора была целым светом, – сказал я, – морским портом, Америкой. Всегда полно людей – кто работает, кто рассказывает… Сейчас Чинто ребенок, но он подрастет, станет думать о девушках. А знаешь, как много значит, когда встречаешь умных женщин? Таких, как Ирена или Сильвия?
Нуто промолчал. Я уже убедился, что он неохотно вспоминал те времена в усадьбе Мора. Сколько он мне рассказал о своих музыкантских годах, а разговор о тех годах, когда мы были мальчишками, он всегда стороной обходил. Или все по-своему поворачивал, начинал спорить. Теперь он молчал, выпятив губы, и поднял голову, лишь когда я заговорил об этих кострах на стерне.
– Конечно, от них польза, – сказал он резко. – Они пробуждают землю.
– Да что ты, Нуто, – сказал я, – даже Чинто в это не верит.
– А все же, – возразил он, – верно, что участки, где по краям жгли костры, приносят лучший урожай, и плоды там сочней и растут быстрей. Кто знает, может, жар пробуждает соки земли.
– Ну и ну! – сказал я. – Может, ты и в россказни про луну веришь?
– В луну, – ответил Нуто, – и не хочешь, а поверишь. Попробуй спили в полнолуние сосну – и в ней заведутся черви. Чан нужно замачивать, когда луна молодая. А возьми пересадку лозы: ни за что не привьется, если приняться за дело не в первые лунные ночи.
– Много мне довелось разных историй слышать, – сказал я, – а глупей этих не слыхал. К чему тогда ругать правительство и попов, если сам веришь в предрассудки, как наши бабушки?
Тогда Нуто очень спокойно объяснил мне, что предрассудком он считает только то, от чего людям вред. Если б кто-нибудь пользовался этой верой в костры и луну, чтоб обворовывать, держать в темноте крестьян, то такого негодяя надо бы расстрелять на площади. А прежде чем судить, мне надо опять стать крестьянином. Пусть такой старик, как Валино, и не слышал ни о чем другом, но уж в земле-то он знает толк.
Мы с ним долго и зло ругались, потом его позвали на лесопилку, а я спустился вниз, посмеиваясь. Чуть было не соблазнился и не повернул к Море, но жара показалась слишком сильной. Если взглянуть в сторону Канелли – ясный день сверкал всеми красками, – то увидишь все: и русло Бельбо, и холм Гаминелла напротив, и холм Сальто совсем под боком, и замок Нидо, краснеющий среди платанов на дальнем склоне. А кругом виноградники, выжженные, почти белесые склоны, река. Так мне вдруг захотелось снова на виноградник в Мору, к самому сбору урожая, и чтоб пришли дочери дядюшки Маттео с корзинами. Мора там, за теми деревьями по дороге в Канелли, на том же склоне, где усадьба Нидо.
Но я по мостику перешел на другой берег Бельбо и, шагая, думал о том, что нет на свете ничего лучше ухоженного виноградника, хорошо прополотого, с хорошо подвязанной, правильно повернутой лозой; и нет ничего лучше этого запаха разогретой августовским солнцем земли. Хорошо ухоженный виноградник – все равно что крепкое здоровье, что живое тело человека со своим дыханием и потом. И, еще раз вглядевшись в эти рощи, в эти заросли тростника, я припомнил названия всех здешних деревень и поселков, все, пусть бесполезные, пусть не дающие урожая места, у которых тоже есть своя красота. Лесок при винограднике – как хорошо на такой лесок взглянуть, знать, на каком дереве гнезда.
Есть, подумал я, что-то схожее с этим в радости, которую дают нам женщины… «Ну и дурак же ты, – сказал я себе, – двадцать лет как ждут тебя эти деревни». Тут я вспомнил, с какой досадой шагал я впервые по улицам Генуи, весь город обошел – хоть бы травинка где. Порт был, ничего не скажешь, были лица девушек, были магазины и банки, а вот камыши, а вот запах сухого хвороста, а виноградник – где они? Рассказы о луне и кострах я тоже когда-то знал. Только, видать, позабыл их.
X
Стоит мне только призадуматься – и вот уж нет конца-краю воспоминаниям, череде несбывшихся желаний, ошибок прошлого. Сколько раз мне казалось, что я уже прибился к берегу, что есть и друзья, и дом – стоит только назвать его моим именем и садик посадить. Я даже как-то решил: вот соберу деньжонок, женюсь и отошлю жену с сыном в деревню. Пусть там растет, как я рос. Но сына не было, о жене лучше вообще не говорить – что могут значить эти холмы для тех, кто вырос на побережье, кто ничего не знает ни про луну, ни про костры? Надо, чтоб все это было у тебя в крови, надо впитать это вместе с вином и полентой, и тогда ты сразу узнаешь свою землю и все, что ты, сам того не ведая, столько лет носил в себе, внезапно пробудится от скрипа телег, от взмаха бычьего хвоста, от вкуса похлебки, от голоса, который ночью раздастся на деревенской площади.
Чинто об этом не знает, как не знал об этом и я, когда был мальчишкой, и никто здесь, в деревне, об этом не знает, кроме, может, тех, кто уезжал, как я. Если уж я хочу, чтобы Чинто меня понял, хочу, чтобы в деревне все поняли меня, нужно говорить с ними о том, что творится на свете, говорить о своем или, может, лучше вообще ни о чем не говорить, носить в себе свою Америку, Геную, деньги, чтобы только на лице у меня было написано, что я человек бывалый и приехал не с пустыми карманами. Это нравится. Разумеется, только не Нуто – ему самому хочется понять меня.
Я встречал людей в гостинице, на рынке, по усадьбам. Ко мне приходили, про меня, как прежде, говорили: «тот, с Моры». Они хотели знать, что за дела я веду, не куплю ли гостиницу «Анжело», не куплю ли почтовый автобус. На площади меня представили приходскому священнику, который потолковал со мной об одной разваливающейся часовенке, секретарю мэрии, который отвел меня в сторонку и сказал, что у них еще должны храниться документы о моем рождении – можно бы поискать, если я хочу. Я ответил, что уже справлялся в Алессандрии, в приюте. Самым неназойливым был Кавалер, хоть он и знал все, что касалось прежнего расположения деревни и злодеяний бывшего подесты[32]32
Подеста – мэр во времена фашизма.
[Закрыть].
На дороге и в усадьбах я чувствовал себя лучше, но и там мне не верили. Как я мог кому-нибудь втолковать, что мне просто хотелось увидеть то, что я видел прежде: повозки, сеновал, чан для винограда, решетку, на которой жарят мясо, цветок цикория, платочек в синюю клетку, тыкву, из которой пьют, рукоять мотыги. И лица мне нравились такие, какие помнились всегда: цветущие девушки, старухи в морщинах; мне по душе были упрямые морды быков и голубятни на крышах.
Для меня не годы прошли, а просто лето сменялось осенью, зима – весной. И все, что я видел и слышал, нравилось мне тем больше, чем больше походило на прежнее, будь то рассказы о засухе, ярмарках, урожаях прежних времен, каких больше не бывает; мне хотелось, чтобы все было как прежде: бутыли с вином, похлебка, садовый инструмент, бревно на дворе усадьбы.
Тут Нуто говорил, что я не прав, что мне бы возмутиться тем, что здесь, на холмах, люди по-прежнему живут как скот, что война ни к чему не привела, что все осталось как было, только покойников прибавилось.
Говорили мы с ним и насчет Валино и его свояченицы. Спал он с ней – а что ему было делать? – но, впрочем, не в этом беда: в доме у них вообще творилось неладное. Нуто рассказал, что до самой реки слышны крики женщин, которых Валино почем зря хлещет ремнем, как хлестал он и Чинто. Нет, не из-за вина, вина у них мало; вся причина в нищете, в ярости от безысходной жизни.
Узнал я и о том, что сталось с Крестным и всей его родней. Мне рассказала об этом невестка некоего Кола, который хотел продать мне дом. Крестный скончался в Коссано, где они кое-как устроились на деньги, вырученные от продажи усадьбы, совсем уже стареньким, всего несколько лет тому назад. Умер на большой дороге, из дому его выбросили зятья. Младшая дочь вышла замуж почти девочкой, старшая, Анжолина, на год позже; взяли их два брата из Мадонна-делла-Ровере – лесной усадьбы. Там они и жили со стариком и детьми, выращивали виноград, ели поленту – больше у них ничего не было, – раз в месяц спускались в деревню хлеб испечь, уж очень далеко было ходить. Мужчины работали вовсю, доводили до изнеможения и волов и женщин; младшую в поле убило молнией; Анжолина родила семерых, а потом свалилась с опухолью под ребрами, три месяца мучилась, стонала – врач туда поднимался не чаще чем раз в год; умерла она даже без попа. Не стало дочерей, и некому в доме было кормить старика. Он стал бродяжничать, по ярмаркам ходить; еще за год до войны повстречал его Кола – борода белая, из нее солома торчит. Наконец и он умер где-то на току в усадьбе, куда зашел просить подаяние.
Значит, незачем мне ходить в Коссано, искать своих сестер неродных, спрашивать, помнят ли они меня. И теперь, вспоминая Анжолину, я вижу ее с перекошенным ртом, такой, какой мне запомнилась ее мать в свой смертный час.
Но однажды утром я пошел в Канелли – шагал вдоль полотна железной дороги. Сколько раз проделывал я этот путь, когда жил на Море! Миновал Сальто, миновал Нидо, увидел Мору, увидел почти доросшие до самой крыши липы, балкон барышень, застекленную веранду, нижний этаж дома, где жили мы. Услышал незнакомые голоса и побыстрей зашагал мимо.
В Канелли я пошел по длинной улице, которой не было в мои времена, и тотчас же узнал запахи – запах вермута, реки, виноградных выжимок. Улочки были все те же, все те же цветы на окнах, все те же лица, и те же вывески фотографов, и те же дома; оживленней всего на площади – новый бар, бензозаправочная колонка, мотоциклы, взметающие облака пыли. Но большой платан остался на месте. И видать, деньги здесь по-прежнему не переводились. Утро я провел в банке и на почте. Городишко маленький, но зато сколько вилл и замков на окрестных холмах. Я был прав: в мире знают про Канелли, здесь в мир распахнуто широкое окно. Стоя на мосту, я оглядел долину и низкие холмы, тянувшиеся в сторону Ниццы. Ничего не изменилось. Разве что еще один мальчик в прошлом году приехал сюда с отцом на тележке продавать виноград. Как знать, может, и для Чинто Канелли станет воротами в мир?
И все же здесь все переменилось. Мне Канелли нравится – люблю эту долину, холмы, берег реки. Мне нравится, что здесь конец всего, последнее прибежище, где еще сменяют друг друга не просто годы, а лето, осень, зима, весна. Пусть здешние промышленники производят шампанское разных сортов, возводят здания контор, строят машины, вагоны, склады – я и сам занимаюсь всем этим, – но дорога отсюда по-прежнему ведет во все концы земли. Я прошел этот путь, начав с Гаминеллы. Будь я мальчишкой, прошел бы его еще раз. Ну а дальше что? Нуто, который так никуда отсюда и не уходил, все еще хочет понять мир, все изменить, нарушить чередование времен года. А может, и нет: он верит россказням про луну. А я, не поверивший в луну, знаю, что в конечном счете нет ничего важнее смены времен года. Знаю, что Канелли и есть весь мир. Канелли и долина реки Бельбо. И время не властно над здешними холмами.
Под вечер я вышел на шоссе, которое проложили рядом с железной дорогой, потом по дороге прошел мимо Нидо, мимо Моры. В доме на Сальто я застал Нуто в фартуке, он строгал, посвистывая, но глядел хмуро.
– Что случилось?
– Дело такое – в Гаминелле кто-то обрабатывал новую делянку и нашел трупы двух шпионов фашистской республики, с раздавленными черепами, босые. Врач, следователь, мэр прибыли, чтоб опознать трупы, но кого там опознаешь через три года? Конечно, это были фашистские шпионы: партизан убивали в долине, расстреливали на площадях, вешали на балконах домов, вывозили в Германию.
– Чего ж тут расстраиваться? Дело известное, – сказал я.
XI
Несколько лет назад – здесь, у нас, уже шла война – мне пришлось пережить ночь, о которой я всегда вспоминаю, шагая вдоль колеи железной дороги. Я нюхом чуял все, что должно было случиться – войну, интернирование, секвестр имущества, – и старался все распродать, переехать в Мексику. Во Фресно я повидал достаточно нищих мексиканцев, чтобы знать, куда отправляюсь. Но то была самая близкая граница. Потом я передумал, поняв, что мексиканцам ни к чему мои ящики с бутылками спиртного. Тут началась война. Я дал захватить себя врасплох – наскучило все предугадывать, за всем гнаться, все начинать заново. А в прошлом году все равно пришлось все начать заново, но уже в Генуе…
Я знал тогда, что такая жизнь долго не продлится, и у меня пропала охота делать что-либо, работать, рисковать. Люди, к которым я было привык за десять лет, снова внушали мне страх и раздражение. Я разъезжал на грузовичке по федеральным дорогам, добирался до пустыни, до самой Юмы, до дремучих лесов. Мной владело страстное желание быть подальше от примелькавшихся лиц, подальше от всего, что я видел в долине Сан-Хоакин. Я уже знал – кончится война, и я непременно вернусь домой, жизнь, которую я вел, была временной и скверной.
Потом я бросил и свои разъезды по этой южной дороге. Страна оказалась слишком большой, здесь никогда никуда не доберешься. Да и я уж был не тот парень, который когда-то вместе с бригадой железнодорожников восемь месяцев добирался до Калифорнии. Слишком много ездить – все равно что на одном месте сидеть.
В тот вечер в открытом поле что-то стряслось с мотором. Я рассчитывал до темноты добраться к станции 37 и заночевать там. Было холодно, воздух был сух и пылен, поля пустынны. И то сказать – поля! Не поля – серая, поросшая колючим кактусом пустыня, не холмы – пригорки да столбы вдоль железной дороги, вот и все, куда глазом ни кинь. Повозился с мотором, вижу, ничего не поделаешь, нет у меня запасных частей.
Тут мне стало жутковато. За целый день повстречались лишь две машины: шли к побережью. В ту сторону, куда я направлялся, – ни одной. Я хотел пересечь земли графства не по федеральной дороге. Что ж, сказал я себе, теперь жди… Кто-нибудь да проедет. Но никто не проехал до следующего утра. Хорошо еще, были у меня с собой одеяла, чтоб укутаться. Ну а завтра что? – спрашивал я себя.
Времени не занимать, и я разглядел все камни вокруг, шпалы, сухой репейник, мясистые стебли двух кактусов в придорожном кювете. Щебень темнел от угольной пыли, как и все на свете камни, лежащие вблизи от железной дороги. Шуршал песок под порывами ветра, доносившего привкус соли. Холодно было, как зимой. Солнце уже зашло, равнина исчезла в сумерках.
Я знал, что здесь в норах таятся ядовитые ящерицы и сколопендры, знал, что здесь повсюду змеи. Завыли дикие собаки. Не в них опасность, но этот вой мне напомнил, что я на самом краю Америки, посреди пустыни, в трех часах езды на машине от ближайшей станции. И ночь впереди. Единственная примета цивилизации – железная дорога и столбы. Пусть бы хоть поезд прошел. Я уж не раз прислонялся к телеграфному столбу, словно мальчишка, слушал, как гудят провода, что тянулись с севера к побережью. Я взял карту, стал ее изучать.
Собаки по-прежнему выли, в сером море этой равнины звук, раздиравший воздух, как петушиный крик, внушал отвращение, и от него становилось еще тоскливее и холодней. К счастью, я захватил с собой бутылку виски. И курил, курил, только бы успокоиться. Когда совсем стемнело, я осветил приборы, фары включить я боялся. Хоть бы поезд прошел…
Мне приходили в голову различные истории, рассказы о людях, которые забирались в эти места, когда и дорог еще не было, а потом их находили где-нибудь в овраге – скелет да одежда, только и всего. Бандиты, жажда, солнечный удар, змеи. Легко было представить себе те времена, когда люди здесь убивали друг друга, когда люди падали на землю, чтоб уже не подняться. Тоненькая змейка железнодорожного полотна и шоссе – вот все, что было здесь от рук человеческих. Уйти в сторону от дороги, забраться в овраги, продираться сквозь кактусы под этим звездным небом – да возможно ли это?
Я вздрогнул и вскочил на ноги, когда неподалеку от меня чихнул пес, а где-то вдали покатился камень. Выключил свет, потом тотчас же снова включил его. Чтоб прогнать страх, вспомнил наваленный на повозку скарб, узлы, тюки, кастрюли; вспомнил лица мексиканцев. Должно быть, семья отправлялась на сезонные работы в Сан-Бернардино или еще выше, в горы. Я разглядел худенькие ноги детей, копыта мула, который едва плелся. Ветер трепал грязно-белые брюки шагавшего за повозкой мексиканца, мул вытягивал шею, с трудом тащил повозку. Проезжая мимо, я подумал, что эти бедняки, должно быть, заночуют в каком-нибудь овраге – конечно, им не добраться до станции 37, прежде чем стемнеет.
Вот взять хотя бы их, подумал я. Где у них дом? Ну как можно родиться и жить в такой стране, как эта? А все же люди приспосабливались, тянулись куда-то в поисках сезонной работы, жили жизнью, не дававшей им передышки, – полгода в подвалах, полгода в открытом поле. Этим даже не пришлось пройти через приют в Алессандрии, жизнь сама выкурила их из нор, бичевала то голодом, то постройкой железной дороги, то переворотами и войнами из-за нефти, и теперь они едва тащились вслед за своим мулом. Еще счастье, что мул есть. Были и такие, что из дому уходили босиком, даже без женщины. Я вышел из кабины на дорогу и застучал каблуками, только бы согреться. Равнину поглотила ночь, по ней скользили тени, дорога едва виднелась. А ледяной ветер все шуршал и шуршал, взметая песок; собаки умолкли; отовсюду доносились вздохи, отзвуки чьих-то голосов. Я достаточно выпил, чтобы больше ничего не бояться. Стоял, вдыхал в себя запахи высохшей травы, соленого ветра и вспоминал холмы Фресно.
Потом послышался шум поезда. Сначала будто конь тащил по ровным камешкам дороги повозку, но вот показались огни. Я понадеялся, что это чья-нибудь машина или, может, та самая повозка мексиканцев. Вскоре грохот заполнил равнину, засверкали искры. Что думают об этом змеи и скорпионы? Поезд словно навалился на меня, осветив огнями вагонных окон мой грузовичок, кактусы, какого-то перепуганного и прыжками спасавшегося зверька; поезд помчался дальше, грохоча, рассекая воздух, нанося мне пощечины. Я так его ждал, но теперь, когда снова стало темно, снова заскрипел песок, я сказал себе, что от этих людей нет покоя и в пустыне. Если завтра мне придется удирать, смываться, чтоб не попасть в лагерь для интернированных, рука полицейского обрушится на меня, как толчок паровоза. Это и была Америка.
Я вернулся в кабину, укрылся одеялом. Попытался задремать – так, словно я находился на углу виа Беллависта. Про себя я подумал: как бы ни были хитры калифорнийцы, а никто из них не смог бы сделать того, что сделали эти четверо мексиканцев в лохмотьях. Устроиться на ночлег с детьми и женщинами в этой пустыне, ставшей для них домом, где они, может, и со змеями умели разговаривать, – нет, калифорнийцам это не под силу. Нужно мне поехать в эту Мексику, говорил я себе, готов поспорить, мне эта страна подойдет.
Посреди ночи я внезапно проснулся от громкого лая. Вся равнина теперь походила на поле боя. Небо казалось кроваво-красным; дрожа от холода, весь разбитый, вылез я из кабины; из-за низких облаков выглянула полоска луны, совсем как ножевая рана, из которой на равнину сочилась кровь. Я долго стоял и глядел на нее. На этот раз мной овладел настоящий страх.
XII
Нуто не ошибся. С этими покойниками из Гаминеллы и впрямь беда. Поначалу врач, кассир, трое-четверо парней спортивного вида, потягивавших вермут в баре, стали говорить, что это настоящий скандал; стали спрашивать, скольких бедных итальянцев, честно исполнявших свой долг, зверски погубили красные. Потому что, вполголоса говорили на площади, именно красные без суда стреляют в затылок. Потом взялась за дело учительница – маленькая женщина в очках, сестра секретаря мэрии, владелица виноградников. Она повсюду кричала, что готова сама обшарить весь берег, найти других мертвецов, найти всех мертвецов, разрыть мотыгой могилы, где похоронены несчастные мальчики, только бы после этого засадили в тюрьму, а лучше всего повесили кого-нибудь из мерзавцев коммунистов, хоть того же Валерио[33]33
Валерио – партизанский полковник, казнивший Муссолини в апреле 1945 года.
[Закрыть], хоть того же Пайетту[34]34
Джанкарло Пайетта – член руководства ИКП.
[Закрыть], хоть того же партийного секретаря из Канелли.
Кое-кто возражал:
– Трудно обвинять коммунистов. Здесь партизанили автономные отряды.
– А что из того, – отвечали ему, – разве ты не помнишь того хромого, с шарфом, который реквизировал одеяла?
– А когда подожгли склад…
– Да какие там автономные отряды, кто тут только не перебывал… Помнишь того немца?..
Сынок хозяйки виллы завизжал:
– Это ровно ничего не значит, что автономные! Все партизаны – убийцы!
– А по-моему, – спокойно глядя на нас, сказал доктор, – виноват не тот или другой в отдельности. Вся обстановка была такая – партизанская война, полное беззаконие, кровопролитие. Эти двое, по всей вероятности, действительно шпионили… Но, – снова начал он, громко отчеканивая слова, чтобы пробиться сквозь спор, – кто создал первые отряды? Кто хотел гражданской войны? Кто провоцировал немцев и наших фашистов? Коммунисты. Всегда они. Они и должны отвечать. Они убийцы. Эту честь мы, итальянцы, им охотно уступаем…
Вывод доктора всем пришелся по душе. Тогда я сказал, что не согласен. Меня спросили почему.
– В тот год, – сказал я, – был я еще в Америке (ни слова в ответ). И в Америке был интернирован (ни слова в ответ). И в самой что ни на есть Америке газеты напечатали воззвание короля и Бадольо, которые велели итальянцам уходить в горы, начинать партизанскую войну, нападать на немцев и фашистов с тыла.
Усмешечки. Об этом никто не помнил. Спор разгорелся снова.
Когда я уходил, учительница кричала:
– Все они ублюдки! Им деньги наши нужны! Земля и деньги, как в России. А недовольных – в расход.
Нуто тоже спустился в деревню, чтоб послушать. Слушал и все больше мрачнел.
– Неужели, – спросил я его, – никто из парней не был в партизанах? Отчего они все словно воды в рот набрали? В Генуе партизаны даже газету издают…
– Из этих никто не партизанил, – сказал Нуто. – Все они повязали себе на шею трехцветный платок наутро после победы. Кое-кто служил в Ницце… А те, кто своей шкуры не жалел, не любят болтать.
Покойников опознать не удалось. Их на повозке отвезли в старую больницу; многие ходили на них взглянуть и возвращались, скривив рот. «Что ж, – говорили женщины в переулках, сидя у порога своего дома, – этого никому не миновать. Но хуже нет такой смерти». Малый рост и медальон со святым Януарием на шее у одного из них навели следователя на мысль, что это были южане. Их записали как «неизвестных» и на том закрыли следствие.
Но приходский священник ничего не закрыл и лишь теперь принялся за дело по-настоящему. Он тотчас призвал к себе мэра, старшину карабинеров, комитет глав семейств и настоятельниц монастырей. Мне обо всем рассказал Кавалер, он был не в ладах со священником, который, ничего ему не сказав, велел снять со скамьи латунную дощечку с его фамилией.
– Скамья, у которой, стоя на коленях, молилась моя мать! – рассказывал он. – Моя мать, принесшая церкви больше добра, чем десять таких, как он!..
Кавалер не осуждал партизан.
– Мальчики, – сказал он. – Мальчики, которым пришлось воевать. Когда я думаю, сколько их погибло…
Словом, поп решил лить воду на свою мельницу. Он еще не оправился как следует с того дня, когда поставили плиту в память партизан, повешенных перед казармой чернорубашечников. Для этого два года назад из Асти приезжал депутат-социалист. Попа на церемонии не было.
Зато теперь, на собрании в своем доме, он отвел душу. Все они отвели душу и обо всем договорились. За давностью нельзя было привлечь к суду никого из бывших партизан: «подрывных элементов» в деревне вообще не было, но они решили дать политический бой, да такой, чтоб до самой Альбы молва прокатилась. Сначала большая служба в церкви, потом торжественные похороны жертв, митинг и публичная анафема красным. Каяться и молиться. Мобилизовать всех.
– Не мне радоваться, – сказал Кавалер, вспоминая те времена. – Война, как говорят французы, – sale métier[35]35
Грязное ремесло (франц.).
[Закрыть]. Но этот священник спекулирует на мертвых, он бы и мать родную не пощадил.
Я зашел к Нуто, чтоб рассказать ему и об этом. Он почесал в затылке, уставился в землю и зло сплюнул.
– Так я и знал, – сказал он потом, – он уже раз попытался устроить такой спектакль с цыганами…
– Что за цыгане?
И он рассказал мне, что в сорок пятом отряд молодых партизан взял в плен двух цыган, которые много месяцев вели двойную игру: ходили в горы, выдавали расположение партизанских отрядов.
– Знаешь, в отрядах разный был народ, со всей Италии, иностранцы тоже. Были среди партизан и темные люди. Словом, в те времена все перемешалось. Ну вот, вместо того чтобы отвести их в штаб, они цыган схватили, посадили в колодец и заставили отвечать, сколько раз те наведывались в казарму к чернорубашечникам. А одному из них, у которого голос хороший, велели петь, чтобы спасти жизнь. Тот сидит в колодце связанный, поет как сумасшедший, изо всех сил поет. Он поет, а они их мотыгой по голове – так и прикончили обоих… Их трупы откопали два года тому назад, и поп тотчас же закатил молебен в церкви. По тем, кого чернорубашечники повесили, небось молебен не служил.
– По-моему, – сказал я, – лучше всего потребовать, чтобы он отслужил мессу за упокой души повешенных партизан. Откажется – осрамите его перед всем селением.
Нуто невесело усмехнулся: поп у нас такой, что согласится. А потом все равно все себе на пользу повернет.
Итак, в воскресенье устроили похороны. Местные власти, карабинеры, дамы с вуалями. Этот черт позвал и монахов в желтых капюшонах – глядеть жутко… А цветов нанесли!.. Учительница, та самая, у которой свои виноградники, разослала девочек рвать цветы по чужим садам. Священник в праздничном облачении, поблескивая очками, держал речь с паперти. Чего только не говорил! Времена, мол, дьявольские, душам угрожает опасность. Слишком много пролито крови, слишком много молодых людей еще прислушиваются к словам ненависти. Родина, семья, религия – все в опасности. Красный цвет, чудотворный цвет мучеников, стал знаменем антихриста, и во имя его вершилось и вершится множество преступлении. Надо и нам покаяться, очиститься, искупить содеянное зло – предать христианскому погребению этих двух неизвестных юношей, убитых столь зверски и покинувших земную юдоль, видит бог, без утешительного причастия. Каяться, молиться за них, воздвигнуть преграду из сердец. Он произнес какое-то слово по-латыни. Проучить этих людей без родины, этих насильников, этих безбожников. И не думайте, будто враг повержен: над многими итальянскими городами еще упорно развевается красное знамя…
Нельзя сказать, чтоб мне его речь слушать было так уж неприятно: сколько лет уже я не слушал, как священник, стоя на солнце посреди площади, с паперти доказывает свое. Подумать только, когда Виржилия брала нас к мессе, я верил, что голос священника все равно что гром, что безоблачное небо, что смена времен года. Что от этого голоса зависит урожай на полях, здоровье живых, спасение душ умерших. Теперь я убедился, что священник сам использует мертвых. Нет, лучше не стареть, лучше не знать мир.
Но вот уж Нуто эта речь крепко пришлась не по душе. На площади кое-кто из его друзей подмигивал ему, перекидывался с ним словечком. А Нуто переминался с ноги на ногу, страдал. Речь шла о покойниках, пусть фашистах, пусть давно скончавшихся, но тут уж ничего не попишешь – когда речь идет о покойниках, поп всегда возьмет верх. Я это знал, но знал это и Нуто.
XIII
В селении снова заговорили об этой истории. Поп-ловкач ковал железо, пока горячо: на следующий день после похорон отслужил мессу за упокой души этих умерших, за живущих, которым угрожала опасность, за тех, кто еще не появился на божий свет. Он советовал не записываться в политические партии, преследующие подрывные цели, не читать антихристианских непристойных газет, ездить в Канелли разве что по делам, а лучше и вовсе там не бывать, не засиживаться по трактирам; девушкам советовал удлинить платья. Послушать разговоры здешних бабенок и лавочников – выйдет, что кровь тут лилась, как сусло в давильне. Всех ограбили, у всех дома сожгли, у всех бабы понесли. А бывший фашистский подеста, сидя за столиком у гостиницы «Анжело», прямо сказал, что в прежние времена такого не бывало. Тогда вскочил с места шофер грузовика из Калоссо – парень решительный и твердый – и спросил у него, кто в эти прежние времена воровал удобрения и, к слову, куда делось краденое?
Я снова пошел к Нуто, увидел, как он, по-прежнему хмурясь, измеряет тележные оси. Жена в доме кормила грудью ребенка. Я в окно крикнул ему, что глупо все это принимать так близко к сердцу, сказал, что на политике никогда ничего не выгадаешь. Я всю дорогу это себе втолковывал, не знал только, как бы его получше вразумить. Нуто взглянул на меня, стукнул линейкой и резко спросил, а не хватит ли с меня. Чего я тут околачиваюсь, в этакой глуши?