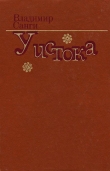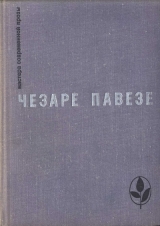
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Чезаре Павезе
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 32 страниц)
– Вам в ту пору надо было дело доводить до конца, – сказал я ему, – умный не станет зря ос дразнить.
Тут я услышал, как он крикнул жене:
– Комина, я пошел! – Схватил пиджак и спросил меня: – Выпить хочешь?
Я ждал. Он еще что-то сказал подмастерьям, работавшим под навесом, потом повернулся ко мне:
– Не могу больше. Уйдем-ка отсюда подальше.
Мы стали подниматься по склону Сальто. Поначалу молчали или говорили о том, какой в нынешнем году чудесный виноград. Шли между берегом и виноградником Нуто. Потом свернули с дороги и зашагали по крутой тропке. На повороте у виноградника нам повстречался Берта, старый Берта, который больше не выходил из своей усадьбы. Я остановился, хотел перекинуться с ним словечком, напомнить о себе – ни за что бы не поверил, что еще застану его в живых, таким вот беззубым, – но Нуто зашагал мимо, только сказал:
– Привет.
А меня Берта, конечно, не узнал.
Сюда, до усадьбы Спирита, я когда-то добирался. В ноябре мы приходили сюда воровать мушмулу. Я стал глядеть вниз – сохнущие без дождя виноградники, обрыв, красная крыша дома Нуто, река и лес. Нуто теперь шагал медленней, мы упрямо молчали.
– Плохо, – сказал наконец Нуто, – что все мы здесь невежды. Вся деревня в руках у этого попа.
– Ну и что? Почему ты ему не отвечаешь?
– Что мне ему, посреди церкви, что ли, отвечать? У нас речи произносят только в церкви. В другом месте станешь говорить, тебе не поверят… Непристойная, антихристианская печать. А они и в календарь не заглядывают…
– Да вырвись ты отсюда, – сказал я. – Послушай, что другие говорят, подыши другим воздухом. В Канелли все по-другому. Ты слышал, он и сам сказал, что в Канелли ад.
– Если бы за этим дело…
– А ты начни… Канелли – ворота в мир. За Канелли – Ницца-Монферрато. За Ниццей – Алессандрия. Одни вы никогда ничего не сделаете.
Нуто вздохнул и остановился. Я стоял рядом и глядел на долину.
– Если хочешь чего-нибудь добиться, – сказал я, – держи связь с миром. Разве нет партий, которые за вас, разве нет депутатов, которые вас защитят? Встречайтесь друг с другом, беседуйте. В Америке так и делают. Сила партий – в тысячах таких маленьких деревень, как ваша. Попы не действуют в одиночку, за ними целая армия других попов. Хорошо бы сюда еще разок заглянул тот депутат, что выступал у казармы чернорубашечников…
Мы сели на жухлую траву в тени высокого тростника, и Нуто объяснил мне, почему не едет депутат. Со дня освобождения, с радостного дня 25 апреля, дела здесь шли все хуже и хуже. В те дни, конечно, кое-что было сделано. Испольщики и сельские бедняки раньше и людей-то не видали, но в тот год партизанской войны мир сам пришел к ним, разбудил их. Здесь были люди отовсюду – южане, тосканцы, горожане, студенты, беженцы, рабочие. Даже немцы, даже фашисты кое на что сгодились – открыли глаза самым темным; каждый показал, кто он на самом деле: вот я, а вот ты, ты за то, чтоб с крестьянина шкуру драть, а я за то, чтобы и крестьянину улыбнулась судьба. А те, кто бросил оружие или не явился на призыв, показали правительству господ, что мало одного желания начать войну. Понятное дело, в такой буче и дурное было: и воровали, и убивали без причины, но это редко случалось, гораздо реже, чем в те времена, когда прежние насильники сами заставляли грабить на большой дороге или подыхать с голоду.
– Ну а потом? Как все пошло потом?
– Мы успокоились, поверили союзникам, поверили прежним насильникам, которые, переждав бурю, вынырнули из погребов, из вилл, из церквей и монастырей. Вот и дожили, – сказал Нуто. – Поп и в колокола-то звонит только потому, что партизаны их спасли, а вот выступает за фашистскую республику и ее шпионов. Да пусть их даже без вины расстреляли – не ему все это вешать на шею партизанам: они тысячами шли на гибель, чтобы спасти страну.
Покуда он говорил, я разглядывал холм Гаминелла; он был весь передо мной и казался огромным – не холм, а целая планета. Отсюда можно было различить овраги, леса, тропы, которых я никогда не замечал. Надо будет нам туда подняться как-нибудь. Это тоже часть мира. Я спросил у Нуто:
– Там, наверху, партизаны были?
– Партизаны были повсюду, – ответил он. – За ними охотились, как за дичью. А сколько их гибло! То стреляют на мосту, а через день они уже по ту сторону Бормиды. Ни минуты покоя, повсюду ловушки, шпионы…
– А ты партизанил? Был с ними?
Нуто проглотил слюну и покачал головой:
– Каждый что-нибудь делал. Только я сделал мало… Боялся, что выдаст шпион, и тогда дом сожгут…
Я разглядывал отсюда долину Бельбо. Липы, низкие строения Моры, поля – все казалось маленьким и чуждым. Я никогда не видел Мору отсюда, никогда не думал, что она такая неприметная.
– Вчера проходил мимо Моры, – сказал я. – Нет больше сосны у ворот…
– Ее велел срубить бухгалтер Николетто. Что за невежда!.. Велел срубить, чтобы нищие не останавливались в ее тени просить милостыню. Понимаешь? Мало ему, что он полдома проел, не хочет, чтоб бедняк мог постоять в тени с немым упреком…
– Как же они дошли до такого? У них ведь свой выезд был! Старик бы не допустил этого.
Нуто молчал, обрывая сухую траву.
– Да что Николетто! – сказал я. – А девушки? Стоит мне вспомнить, вся кровь закипает. Верно, они любили поразвлечься, а Сильвия как дура шла за первым встречным, но, покуда был жив старик, всегда все улаживалось. Хоть бы мачеха жива была… А младшая, Сантина, что с ней стало?
Нуто, должно быть, все еще думал о попе и шпионах, он снова скривил рот и проглотил слюну.
– Она жила в Канелли. Они с Николетто друг друга терпеть не могли. Там она фашистов развлекала. Это всякий знает. А потом в один прекрасный день ее не стало.
– Неужто? – спросил я. – А что она натворила? Санта, Тантина… Помню, шестилетней девочкой она была такая красивая.
– Видел бы ты ее, когда ей было двадцать. Сестры ей и в подметки не годились. Избаловали ее, дядюшка Маттео только ею и жил… Помнишь, как Ирена и Сильвия не хотели с мачехой выезжать, чтобы не стушеваться? А Санта была красивей их и мачехи.
– Но как же так? Что с ней стряслось? Известно, что она натворила?
Нуто ответил:
– Известно. Сучкой была.
– Да что ты?!
– Сучкой и шпионкой.
– Ее прикончили?
– Пойдем-ка лучше домой, – сказал Нуто. – Хотел я отвлечься, но и с тобой не вышло.
XIV
Должно быть, судьба такая. Я часто думал – сколько там людей было, а теперь в живых остались только я и Нуто, только мы уцелели. Как долго вынашивал я эту мечту (однажды утром в баре Сан-Дьего это желание овладело мной с такой силой, что я чуть не лишился рассудка!): выйду на дорогу, потом пойду мимо ограды, мимо сосны, пройду под сводом лип, услышу голоса, смех, кудахтанье кур, отворю калитку: «Вот я и здесь, вот я и вернулся». И сразу все ошалеют от изумления – и батраки, и женщины, и пес, и сам старик. И глаза дочерей – голубые и черные глаза – узнают меня с веранды. Не сбыться мечте. Я вернулся, появился здесь, я богат, живу теперь в гостинице «Анжело», беседую с Кавалером. Но где же лица, где голоса и руки тех, кто должен был коснуться меня, узнать? Их нет. Их давно уж нет. А то, что осталось, – все равно что сельская площадь на другой день после ярмарки, что виноградник после сбора урожая, что возвращение в трактир после того, как проводишь друга, который больше не хочет с тобой пить. Нуто – один он уцелел, но и он изменился, он, как и я, уже в годах. Чтоб уж все сразу выложить, скажу, что и я теперь другой – застань я на Море все, как было в ту первую зиму, в то первое лето, и во второе лето и зиму, день за днем все те годы, может, я бы и не знал, к чему все это теперь. Я слишком издалека пришел – я больше не принадлежал этому дому, я был уже не такой, как Чинто, мир меня изменил.
Летними вечерами мы допоздна сидели под сосной или во дворе на бревне и болтали – у изгороди останавливались прохожие, смеялись женщины, кто-нибудь выходил из хлева. Старики – управляющий Ланцоне, Серафина, а порой и сам дядюшка Маттео – обращались к нам с такой речью: «Да-да, ребята, да-да, девушки… растите быстрей, как наши деды говорили… Посмотрим, как вы управляться будете». В то время я даже не понимал, что это значит – расти, думал: расти – значит только набираться ума-разума, чтобы делать трудные дела, как, например, покупать быков, назначать цену за виноград, работать на молотилке. Я не знал, что расти – значит уходить, стареть, видеть, как люди умирают, застать Мору такой, какой я ее застал теперь. Про себя же я думал: «Да провалиться мне, если не уйду в Канелли. Если не выиграю на состязаниях. Если не куплю усадьбу. Если не стану ловчей Нуто». Потом я думал о коляске дядюшки Маттео и его дочерях. Думал о хозяйской веранде. О пианино в гостиной. О празднике святого Роха. Думал о чанах с вином и об амбарах, полных зерна. Словом, я подрастал.
В тот год, когда выпал град и Крестному пришлось продать дом и отправиться батрачить в Коссано, в тот год меня уже не раз посылали в Мору на поденную работу. Мне было тринадцать, и кое с чем я все же справлялся, даже немного денег приносил. Утром переходил на другой берег Бельбо, помогал женщинам и батракам – Чирино, Серафине – собирать орехи, помогал при сборе винограда, кукурузы, помогал управляться со скотиной. Мне нравилось, что двор здесь такой большой, и народу столько, и никто тебя не ищет. Еще хорошо, что усадьба у самой дороги, под холмом Сальто. Сколько новых лиц, а коляска какая, а лошадь, а занавески на окнах! В первый раз я увидел цветы, настоящие цветы, такие, как в церкви. У изгороди под липами был цветник – росли циннии, лилии, лесной чай, георгины; я понял, что цветы – все равно что плодовые деревья, только на стебле цветок вместо плода; цветы собирают, они нужны синьоре, дочерям, которые прогуливаются под зонтиками; в доме цветы ставят в вазы. Ирене тогда было около двадцати, а Сильвии – лет восемнадцать, изредка мне удавалось их видеть. Потом была еще Сантина, их сводная сестра, она родилась недавно. Эмилия, как услышит крик, бежала наверх качать ее люльку.
Вечером, вернувшись в Гаминеллу, я рассказывал всякую всячину Анжолине, Крестному, Джулии, если в тот день ее со мной не было. Крестный говорил: этот человек нас всех вместе может купить. Ланцоне у него хорошо живется. Дядюшка Маттео никогда не помрет на большой дороге. Тут уж можно поручиться. Даже град, опустошивший наш виноградник, пощадил другой берег Бельбо, и все усадьбы в долине и усадьба у Сальто лоснились, как гладкая спина вола.
– Мы разорены, – говорил Крестный, – как я теперь погашу ссуду?
Он был уже в преклонных годах и все боялся остаться без земли, без крыши над головой.
– А ты все продай, – говорила ему Анжолина, стиснув зубы, – где-нибудь пристроимся.
– Была бы твоя мать жива, – бормотал Крестный.
Я понимал, что то была последняя осень. Уходил на виноградник или к берегу и все боялся, что сейчас меня позовут, что кто-нибудь придет и выгонит меня. Потому что знал – я им никто.
Потом в это дело вмешался приходский священник – тот, что был здесь в те годы, старик с костлявыми пальцами. Он купил наш дом для кого-то, переговорил насчет ссуды, сам отправился в Коссано, пристроил девочек и Крестного. Когда приехала повозка за шкафом и тюфяками, я отправился в хлев отвязать козу. Но козы уже не было, ее тоже продали. Я плакал из-за того, что не было козы, а тут как раз приехал священник – большой серый зонт, ботинки заляпаны грязью. Он покосился на меня. Крестный ходил по двору, крутил усы.
– А ты, – сказал мне священник, – не будь девчонкой. Что для тебя этот дом? Ты молод, у тебя еще все впереди. Лучше расти на здоровье, чтоб отплатить этим людям за добро, которое они тебе сделали…
А я уже все знал. Знал и плакал. Девчонки сидели в доме и боялись выйти из-за священника. Мне он сказал:
– В усадьбе, куда пойдет Крестный, лишними будут и твои сестры. Тебе мы подыскали хороший дом. Скажи мне спасибо. Там ты получишь работу.
С первыми холодами я появился на Море. В последний раз переходя через Бельбо, я даже не оглянулся назад. На Мору я пришел, закинув за спину деревянные башмаки и свой узелок; в платке нес четыре гриба, которые Анжолина послала Серафине. Мы нашли их с Джулией на холме.
На Море меня с разрешения управляющего и Серафины принял батрак Чирино. Он тотчас же отвел меня в хлев, где стояли волы, корова, выездная лошадь за деревянной загородкой. Под навесом – заново покрытая лаком коляска. По стенам развешаны упряжь, хлыстики с кисточками. Чирино сказал, что я покуда буду спать на сеновале, а потом он положит мне тюфяк в амбаре, где мы будем жить с ним вместе. Там, в амбаре, в большой давильне и на кухне пол был не земляной, а цементный. На кухне стоял застекленный шкаф и в нем множество чашек, а над камином висели фестоны из глянцевой красной бумаги; Эмилия сказала, чтобы я их, упаси боже, не трогал. Серафина взглянула на мои вещи, спросила, собираюсь ли я еще расти, и сказала Эмилии, чтоб та на зиму подыскала мне пиджак. Первая моя работа была такая – наломать хворосту и кофе смолоть.
Это Эмилия сказала мне, что я похож на угря. В тот вечер мы сели к столу, когда уже было темно, при свете керосиновой лампы. На кухне собрались все – обе женщины, Чирино, управляющий Ланцоне, который сказал мне, что за столом застенчивость к месту, а вот за работой стесняться не к чему. Расспросили меня о Виржилии, Анжолине, о том, что их ждет в Коссано. Потом Эмилию позвали наверх, управляющий пошел в хлев, а я остался один с Чирино перед столом, на котором был хлеб, сыр, вино. Тогда я набрался смелости, а Чирино сказал мне, что на Море харчей на всех хватает.
Пришла зима, выпало много снега, замерзла речка, а мы жили в тепле, на кухне или в хлеву; очистить от снега двор или дорожку перед усадьбой, притащить вязанку дров, вымочить ивовые прутья для Чирино, воду принести – вот и все мои дела. А там играй с ребятами в шарики. Настало рождество, настал Новый год, настало крещенье. У нас жарили каштаны, открывали бочки с вином, два раза мы ели индейку, а один раз гуся. Синьора, дочери, дядюшка Маттео часто приказывали запрягать, ездили в Канелли, однажды они привезли оттуда миндальных пряников и дали попробовать Эмилии. По воскресеньям я с мальчиками из Сальто и с женщинами шел в церковь к мессе. Печь хлеб мы тоже ходили в деревню. Холм Гаминелла был весь в белом снегу. Я глядел на него сквозь сухие ветки деревьев на берегу Бельбо.
XV
Не знаю, куплю ли я здесь землю, буду ли говорить с дочерью Кола? Вряд ли. Другими стали теперь мои дни – телефон, отправка грузов, асфальт городских улиц. Но и до возвращения, бывало, выйдешь из бара, или сядешь в поезд, или просто вечером вернешься к себе, и вдруг воздух донесет до тебя знакомые запахи, и вспомнишь, какое сейчас время года, подумаешь – сейчас самая пора косить, подрезать лозу и обсыпать ее серой, мыть чаны, рубить тростник.
В Гаминелле я был никем, на Море обучился делу. Здесь никто и не вспоминал о пяти лирах из мэрии; через год я уже перестал думать о Коссано и зарабатывал свой хлеб. Поначалу было нелегко, земли Моры протянулись от долины Бельбо почти до самой середины холма, и я, привыкший к винограднику Гаминеллы, с которым Крестный управлялся один, терялся – столько здесь было скота, столько всего росло, столько встречалось новых лиц. Прежде мне не приходилось бывать в усадьбах, где работают батраки, я никогда не видывал столько возов зерна и кукурузы, столько корзин винограда. Мешками тут мерили только бобы и чечевицу, которые сеяли у дороги. Вместе с хозяевами нас было больше десяти едоков; виноград, зерно, орехи и на продажу возили, и оставляли про запас; у дядюшки Маттео был выезд; дочери играли на фортепьяно, то и дело ездили к портнихам в Канелли; к столу им подавала Эмилия.
Чирино научил меня, как обращаться с волами, как менять им подстилку.
– Ланцоне хочет, чтоб за волами ухаживали, как за невестами, – сказал он мне.
Он научил меня чистить волов скребницей, готовить для них пойло и корм, не жалеть сена. В день святого Роха их отводили на ярмарку, и управляющий не жаловался на выручку. Весной, когда на поля вывозили навоз, я шагал за телегой. В теплое время года на поле выходили до рассвета, а заводили скот в хлев, когда уже стемнеет и звезды покажутся на небе. У меня теперь был пиджак до колен; я не мерз. Когда солнце выглянет, приходили на поле Серафина, Эмилия, приносили вино, а то я и сам удирал в дом; управляющий распределял работу на день; в этот час на дороге появлялись первые прохожие, а в восемь утра раздавался первый гудок паровоза. Я косил траву, ворошил сено, таскал воду, готовил купорос, поливал огород. Когда работали поденщики, управляющий посылал меня приглядеть за ними: пусть не выпускают из рук мотыгу, пусть хорошенько обсыпают листья серой или купоросом, пусть не болтают, забравшись в глубь виноградника. А батраки просили меня, такого же, как они, батрака, чтоб я дал им спокойно покурить.
– Смотри, как надо делать, – говорил мне Чирино и, поплевав себе на руки, брался за мотыгу. – На тот год будешь и ты работать.
Покуда я еще не работал по-настоящему; женщины то и дело звали меня во двор, посылали за чем-нибудь, требовали на кухню, когда месили тесто или разжигали плиту, а я ко всему прислушивался, приглядывался к каждому входящему и уходящему. Чирино, такой же батрак, как я, принимал во внимание, что я еще мальчишка, и давал мне такие поручения, чтобы за мной могли присмотреть женщины. Сам он их обходил стороной – состарился, а семьи так и не завел; по воскресеньям закуривал крепкую тосканскую сигару; говорил, что ему и в деревню ходить неохота, лучше посидеть у изгороди, послушать, о чем толкуют прохожие. Иногда я удирал и подымался до дома Нуто на Сальто, где у его отца была мастерская. Здесь и тогда было полным-полно герани и, как теперь, повсюду лежали груды стружек. Кто бы ни проходил мимо, по пути в Канелли или обратно, останавливался в мастерской поболтать, а плотник тем временем орудовал рубанком, стамеской и толковал со всеми обо всем на свете: о Канелли, о прежних временах, о политике, о музыке, о деревенских сумасшедших или о том, что где творится. Когда меня за чем-нибудь посылали, я мог здесь побыть подольше и тогда, играя с ребятами, жадно слушал все разговоры, впитывал их в себя, словно взрослые и вели-то их меня ради. Отец Нуто выписывал газету.
В доме у Нуто дядюшку Маттео тоже хвалили; рассказывали о том времени, когда он был солдатом в Африке и все уже считали, что он убит, – и священник, и мать, и невеста, и пес, который день и ночь выл во дворе. Но однажды за деревьями пронесся вечерний поезд из Канелли, и пес вдруг бешено залаял, а мать сразу поняла, что возвращается Маттео. Давно это было – Мора тогда была еще простым крестьянским двором, девочки еще не родились. Дядюшка Маттео то пропадал в Канелли, то разъезжал по округе на двуколке, то шел на охоту. Был он озорной, но договориться с ним можно было всегда. Дела любил вести с прибаутками и не где-нибудь, а за обеденным столом. Он и сейчас по утрам съедал целый перец и запивал его добрым вином. Жену, родившую ему двух дочерей, он давно похоронил; вторая женщина пришла к нему в дом, родила ему еще дочь, а он хоть и состарился, а всегда шутил и всем заправлял.
Сам дядюшка Маттео никогда на земле не работал, дядюшка Маттео стал синьором, хоть и не учился и никогда не путешествовал. Если не считать Африки, то дальше Акви не забирался. Он был жаден до женщин – это и Чирино говорил, – как его дед и отец были жадны до земли и добра. Такая у них была кровь: в ней бродили соки земли и жадность ко всему земному – к вину, к зерну, к еде, к женщинам, к богатству. Дед еще сам землю мотыжил, а сыновья уже стали другими, хотели наслаждаться жизнью. Но и теперь дядюшка Маттео мог на глазок определить, сколько корзин даст виноградник, сколько мешков зерна соберут с поля, сколько удобрений нужно для луга.
Управляющий приносил ему счета, и они вдвоем запирались наверху, а Эмилия, подававшая им кофе, говорила, что дядюшка Маттео все счета знает на память и не позабудет ни одной тележки с зерном, ни одной корзины винограда, ни одного потерянного рабочего дня.
Я долго боялся подниматься по лестнице, ведущей на второй этаж. Эмилия то и дело туда ходила, она была племянницей управляющего и могла мне приказывать; когда в доме бывали гости, она прислуживала им в переднике. Порой Эмилия звала меня с веранды, кричала в окно, чтоб я поднялся, принес ей то или другое, сделал что-нибудь. Я норовил спрятаться подальше. Однажды мне велели принести в хозяйский дом ведро воды, так я его оставил у двери и удрал. Помню, утром нужно было что-то починить на веранде и меня позвали держать лестницу, на которой стоял рабочий. Я поднялся, прошел через полутемные комнаты, в которых было полным-полно мебели, журналов, цветов и все сверкало, как зеркало. Я ступал босиком по красным каменным плитам, а навстречу мне показалась синьора, черноволосая, с медальоном на шее. Она несла простыню и посмотрела на мои ноги.
Эмилия с террасы кричала:
– Эй, Угорь, иди сюда, Угорь!
– Милия меня зовет, – пробормотал я.
– Ну, ступай, ступай же быстрей, – ответила синьора.
На террасе сохли выстиранные простыни, здесь было много солнца, отсюда, если взглянуть в сторону Капелли, виден был замок Нидо. У перил стояла Ирена, она сушила свои золотые волосы, накинув на плечи полотенце. Эмилия, державшая лестницу, крикнула мне:
– Давай пошевеливайся!
Ирена ей что-то сказала, они рассмеялись. Я придерживал лестницу, но упорно глядел лишь на стенку и на каменный пол и, чтоб душу отвести, припоминал, что мы, мальчишки, рассказывали друг другу, прячась в тростнике.
XVI
От дома в Море к речке добраться легче, чем из Гаминеллы – там спуск к воде круче, да и пробираться нужно через заросли ежевики, сквозь кустарники и акации, растущие на берегу. А здесь берег песчаный, низкий зеленый камыш, а дальше, до самых пашен Моры, – лес. Случалось, в жаркие летние дни Чирино посылал меня обрезать виноградную лозу или за ивовыми прутьями. Тогда я давал знать своим приятелям, и они приходили к берегу кто с дырявой корзиной, кто с мешком; мы раздевались и ловили рыбу, играли, бегали по раскаленному солнцем песку. Здесь я хвастался тем, что меня прозвали Угрем. Николетто из зависти грозился обо всем рассказать Чирино и дразнил меня ублюдком. Николетто – сын одной из теток синьоры, зимой он жил в Альбе. Мы кидались камнями, но мне надо было остерегаться, чтобы не попасть в него, не то он вечером станет показывать на Море свои синяки. Бывало, управляющий или женщины, работая в поле, увидят нас, и тогда я должен был прятаться в кусты, бежать к усадьбе, на ходу подтягивая штаны. Ну что ж, отругает управляющий или даст подзатыльник – только и всего.
Все это не шло ни в какое сравнение с теперешней жизнью Чинто. Отец не спускал с него глаз, наблюдал за ним из виноградника, женщины то и дело звали его, ругались, что он торчит у Пиолы, посылали в дом – то отнести траву, то початки кукурузы, то шкурки кроликов.
В этом доме всегда во всем была нехватка. Хлеба они не ели, пили не вино, а водичку. Полента и чечевица, и чечевицы тоже не вдоволь. Я-то знаю, что значит работать мотыгой, разбрасывать удобрения в самые знойные часы, да еще голодным, да еще без питья. Знаю, что и нам не хватало этого виноградника, а мы ведь не отдавали половины урожая.
Валино ни с кем не разговаривал. Все надрывался, мотыжил, подрезал и подвязывал лозу, что-то чинил; чуть не с кулаками набрасывался на скотину, на ходу жевал поленту; приказания отдавал почти без слов – только глаза поднимет. Женщины все исполняли мигом, Чинто старался удрать. Вечер, время спать, а Чинто все нет – бродит где-то у реки; Валино хватал его за шиворот, а не его, так одну из женщин – кто первым под руку подвернется – и тут же, на пороге дома, хлестал ремнем. Достаточно было скупых рассказов Нуто, достаточно было взглянуть на всегда настороженное лицо Чинто, когда я встречал его на дороге, чтоб понять, какой теперь стала Гаминелла.
Да и пса он держал на цепи, а есть ему не давал, и пес по ночам чуял ежей, чуял летучих мышей и куниц, рвался, обезумев, с цепи и лаял, лаял на луну, которая, видно, казалась ему лепешкой поленты. Тогда Валино вставал с постели, яростно хлестал пса ремнем, пинал его ногами.
Однажды я уговорил Нуто отправиться в Гаминеллу, чтобы взглянуть на этот чан. Он поначалу и слышать не хотел:
– Я знаю, стоит мне с ним заговорить, и я его обзову голодранцем, скажу, что живет он хуже скота. А вправе я с ним так говорить? Польза-то какая? Пусть правительство прежде покончит с деньгами и с богатыми…
По дороге я спросил его, действительно ли он верит, что люди звереют от нищеты:
– Разве ты никогда не читал в газетах о миллионерах, которые пускают себе пулю в лоб или глушат тоску наркотиками? Есть пороки, на которые деньги нужны…
Он ответил мне: вот опять деньги, всегда деньги… Иметь или не иметь… Покуда существуют деньги, никто не спасется.
Когда мы подошли к дому, на порог вышла свояченица Розина, та, что с усиками, и сказала, что Валино пошел к колодцу. На этот раз он не заставил себя ждать, сам пришел, сказал женщине:
– Придержи-ка пса, – и ни на минуту не задержал нас во дворе. – Значит, – сказал он Нуто, – ты взглянешь на этот чан?
Я знал место, где стоял чан, помнил низкие своды давильни, трещины в кладке и паутину. Я сказал:
– Подожду вас в доме, – и наконец перешагнул этот порог.
Но и оглядеться не успел, как услышал плач и слабые стоны – так тихо стонут, когда уже нет сил кричать.
На дворе рвался с цепи пес. Лай, брань, глухой удар, пес завыл, получив свое.
Тем временем я все разглядел. Старуха в одной сорочке, из-под которой торчали грязные ноги, скособочившись, сидела в углу на тюфячке, уставившись на голую стену.
Тюфяк был весь в дырах, из них повылезала солома. Сморщенная старушка, лицо не больше кулака – как у плачущего в люльке младенца, над которым мать поет песни. Воняет затхлым, кислым, воняет мочой. Я понял, что стонет она день и ночь непрестанно, может, сама уже не понимая, что делает. Неподвижно глядела она на стену, стонала на одной ноте, не произнося ни слова.
Я услышал у себя за спиной шаги Розины, отступил немного, посмотрел на нее с немым вопросом: умирает, мол, старуха? Что с ней? Но она оставила без ответа мой вопрос, только сказала:
– Садитесь, если не боитесь запачкаться, – и поставила передо мной стул.
Старуха стонала, жалкая, как воробей с перебитым крылом. Я оглядел комнату – какой она показалась маленькой, незнакомой! Прежними были только что оконце, да жужжание мух, да трещина на печке.
На ящике у стены – тыква, два стакана, связка чесноку. Я почти сразу вышел, а Розина, как собака, пошла за мной следом. Когда мы дошли до смоковницы, я спросил у нее, что со старухой. Она ответила:
– Годы – заговаривается, молитвы бормочет.
– Что вы?! Разве она не жалуется на боль?
– В ее годы, – ответила женщина, – кругом одна боль. Что человек ни скажет – все одна жалоба. – Она взглянула на меня косо. – Старость каждого ждет. – Потом подошла к краю луга и завопила: «Чинто! Чинто!» – да так, словно ее режут, словно она помрет без него.
Чинто не появлялся.
Из хлева вышли Нуто и Валино.
– Скотина у вас хорошая, – сказал Нуто. – А своих кормов хватает?
– Да что ты, корма дает хозяйка.
– Значит, так, – сказал Нуто, – хозяева усадьбы кормят скотину, а не людей, которые работают на их земле.
Валино ждал.
– Ну, пошли, пошли, – сказал Нуто. – Мы торопимся. Значит, я пришлю вам смолы.
Спускаясь по тропке, он пробормотал, что найдутся и такие, кто готов угоститься вином даже у Валино.
– При такой жизни, как у него, – сказал он с яростью.
Мы помолчали. Я думал о старухе. Из тростника показался Чинто с пучком травы. Он шел нам навстречу, волоча ногу, и Нуто сказал:
– Надо уж совсем стыд потерять, чтобы такому мальчишке рассказывать всякие бредни, звать его куда-то.
– Ты говоришь – звать? Да ему где хочешь будет лучше, чем здесь.
Каждый раз, когда я встречал Чинто, мне хотелось подарить ему несколько лир, но я подавлял в себе этот порыв. Они бы его не порадовали, да и на что бы он их потратил? Мы остановились, и Нуто спросил его:
– Ты что, гадюку нашел?
Чинто вздохнул и сказал:
– Если найду, отрублю ей голову!
– Даже гадюка тебя не укусит, если не станешь ее дразнить, – сказал Нуто.
Тогда я вспомнил свое детство и сказал Чинто:
– Зайдешь в воскресенье в гостиницу «Анжело», и я подарю тебе хороший складной нож с пружинкой, чтоб лезвие выскакивало.
– Да? – сказал Чинто, широко раскрыв глаза.
– Уж раз говорю, значит, так. Ты никогда не бывал у Нуто в Сальто? Там бы тебе понравилось. Верстаки, рубанки, отвертки… Если тебя отец отпустит, я пристрою тебя учиться ремеслу.
Чинто пожал плечами.
– Что отец? – пробормотал он. – Я ему не скажу…
Когда Чинто ушел, Нуто сказал:
– Все я могу понять, но вот мальчишка родился калекой… Как ему жить?
XVII
Нуто припоминает, как впервые увидел меня на Море – тогда кололи кабана, женщины все разбежались, и только Сантина, которая недавно ходить научилась, появилась в ту самую минуту, когда кровь хлынула ручьем.
– Уведите девчонку! – крикнул управляющий, и мы с Нуто схватили ее и уволокли, хоть и досталось нам, она здорово нас ногами колотила. Раз к тому времени Сантина сама по двору бегала, значит, я уже провел на Море больше года и, конечно же, видел Нуто и прежде. Мне даже кажется, что впервые я повстречал его в ту осень, когда выпал большой град, в дни сбора кукурузы. Темнело, во дворе было много народу – батраки, мальчишки, соседи, женщины, – все пели, смеялись; сидя на кукурузной листве, сваленной в большую кучу, очищали желтые початки и кидали их под навес. Пахло сухостью и пылью. В тот вечер там был и Нуто. Когда Чирино и Серафина обходили всех со стаканами вина, он пил, как взрослый. Ему тогда было, должно быть, лет пятнадцать, по мне он казался мужчиной. В тот вечер все болтали, рассказывали разные истории, парни старались рассмешить девчонок. Нуто принес с собой гитару и играл на ней, вместо того чтоб очищать початки. Он и тогда уже хорошо играл. Под конец все стали танцевать и хвалили Нуто: «Вот молодец».
Но такое бывало каждый год, и, может, Нуто прав, когда говорит, что мы впервые повстречались при других обстоятельствах. Он уже помогал отцу в работе, я видел его за верстаком, только без передника. Правда, недолго он за этим верстаком простаивал. Чуть что, готов был удрать, а я уже знал: с ним пойдешь – время зря не потеряешь, каждый раз что-нибудь да приключится, или зайдет интересный разговор, или встретим кого-нибудь, а не то он отыщет диковинное гнездо, или покажет тебе зверька, какого ты никогда не видывал, или приведет в совсем новые места. Словом, с ним ты всегда в выигрыше, всегда будет о чем вспомнить. И нравилось мне бывать с Нуто еще и оттого, что мы с ним не ссорились и он со мной обращался как с другом. У него и тогда уже были цепкие круглые кошачьи глазища. Стоило ему про что рассказать, и под конец он всегда добавит: «Битый буду, если вру».