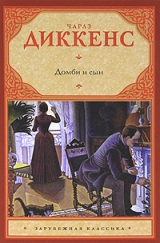
Текст книги "Домби и сын"
Автор книги: Чарльз Диккенс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 66 (всего у книги 70 страниц)
– Да.
– Перенесли силою своей доброты и великодушія. Перенесли меня! – говорила Алиса, закрывая рукою свое лицо. – Ваши женствениыя слова и взоры, ваши ангельскіе поступки сдѣлали меня человѣкомъ!
Гэрріетъ наклонилась надъ нею и старалась ее успокоить. Немного погодя, Алиса, продолжая закрывать рукою свое лицо, изъявила желаніе, чтобы позвали къ ней ея мать.
– Мать, скажи ей, что ты знаешь.
– Сегодня, моя лебедушка?
– Да, мать, – отвѣчала Алиса слабымъ, но вмѣстѣ торжественнымъ голосомъ, – сегодня!
Старуха, взволнованная, по-видимому, угрызеніемъ, безпокойствомъ или печалью, приковыляла къ постели по другую сторону отъ Гэрріетъ, стала на колѣни, чтобы привести свое чахлое лицо въ уровень съ одѣяломъ, и, протянувъ свою руку къ дочерниному плечу, начала:
– Дочка моя, красотка…
Великій Боже! Что это быль за крикъ, вырвавіиійся изъ груди старухи, когда она взглянула на развалину тѣла, лежавшаго на этомъ болѣзненном ь одрѣ!
– Перемѣнилась твоя красотка, матушка, давно перемѣнилась! – сказала Алиса, не обращая на нее своихъ глазъ. – Безполезно тужить объ этомъ теперь.
– Дочка моя, – продолжала старуха, – скоро оправится, встанетъ и пристыдитъ ихъ всѣхъ своими прекрасными глазами.
Алиса обратила грустную улыбку на Гэрріетъ, пожала ея руку, но не сказала ничего.
– Встанетъ она, говорю я, – повторяла старуха, дѣлая въ воздухѣ грозный жестъ своимъ кулакомъ, – и пристыдитъ ихъ всѣхъ своими прекрасными глазами… вотъ что! Пристыдитъ, говорю я, и всѣхъ ихъ… да!.. Оттолкнули мою дочку, отринули, вышвырнули, загнали; но есть y ней родство – охъ, какое родство! – и она могла бы имъ гордиться, если бы хотѣла! Да, славное родство! Тутъ не было пастора и обручальныхъ колецъ, но родство заключено, и не сломать, не уничтожить его злымъ людямъ! Покажите мнѣ м-съ Домби, и я вамъ укажу первую двоюродную сестрицу моей Алисы!
Жгучіе глаза больной, обращенные на Герріетъ, подтвердили истину этихъ словъ.
– Какъ? – кричала старуха, страшно мотая головой, которая хотѣла, какъ будто, выскочить изъ грязнаго туловища. – Я стара теперь, безобразна, видите ли, a бывали встарину праздники и на моей улицѣ! Состарили меня не годы, a всего больше эта проклятая жизнь и привычки. Но и я была молода, хороша была, и посмотрѣли бы вы, какъ ласкали меня въ старые годы! Разъ прибыли въ нашу сторону отецъ м-съ Домби и его братъ, веселые джентльмены; оба они умерли, Господь съ ними! охъ, какъ давно умерли! Братъ, который былъ отцомъ моей Алисы, умеръ прежде. Они заѣзжали къ намъ изъ Лондона, и нечего сказать, весь народъ любовался на нихъ, a они любовались на меня… вотъ какъ бывало въ старые годы!
Она приподняла немного свою голову и обратилась къ дочерниному лицу, какъ будто воспоминанія молодыхъ лѣтъ привели ее невольно къ воспоминанію о своей дочери.
– Они оба были похожи другъ на друга, какъ двѣ капли воды, – кричала старуха, – однихъ лѣтъ, одинаковаго нрава, и разницы между ними, если не ошибаюсь, былъ только одинъ годъ. О, если бы вы видѣли, какъ моя Алиса тогда сидѣла рядкомъ съ дочерью другого джентльмена – я это видѣла и никогда не забуду! Онѣ были точь въ точь, какъ родныя сестры, несмотря на разницу въ своихъ платьяхъ и привычкахъ. О, неужто прошло это сходство! Неужто только одна моя дочь измѣнилась и пропала!
– Всѣ мы, матушка, измѣняемся и пропадаемъ, каждая въ свою очередь, – сказала Алиса.
– Очередь! Зачѣмъ же такъ рано пришла очередь моей дочери, a не ея! Ея мать измѣнилась, это правда, и превратилась, съ позволенія сказать, въ такую же хрычовку, какъ я, прости Господи; но и она была красавицей встарину. Что такое я сдѣлала противъ нея? Неужто она д_у_р_и_л_а меньше, чѣмъ я? Не меньше и не лучше, a вотъ только моя, одна только моя дочка захворала и зачахла.
И вдругъ, испустивъ пронзительный крикъ, она бросилась въ ту комнату, откуда пришла, но немедлеино воротилась опять, подковыляла къ Гэрріетъ и сказала:
– Вотъ все, о чемъ Алиса просила меня сказать вамъ. Все до тла. Я провѣдала о ней въ одно лѣтнее время, когда слонялась по Уорвиксширу, гдѣ и она тогда проживала съ своей матерью, съ той хрычовкой, видите ли, которая все бѣлилась да румянилась. Все я провѣдала. Но такія родственницы, сказать по правдѣ, для меня не годились. Онѣ не дали мнѣ ни полушки. Если бы этакъ я заикнулась передъ ними на счетъ деньженокъ для моей Алисы, которая ей двоюродная сестра, онѣ, я думаю, придавили бы меня, какъ лягушку. Вотъ и дочка-то моя, сказать по правдѣ, горда, пожалуй, еще болыьше, чѣмъ она, – продолжала старуха, съ робостью прикасаясь къ лицу Алисы. – Теперь она присмирѣла, касатушка моя; но дайте-ка ей встать, она пристыдитъ ихъ своими прекрасными глазами и осрамитъ такъ, что имъ не собрать костей. Не правда ли, моя лебедка, ты вѣдь осрамишь ихъ?
Старуха захохотала, и этотъ хохотъ былъ гораздо отвратительнѣе, чѣмъ ея крикъ, и гораздо страшнѣе, чѣмъ взрывъ безсильнаго воя, которымъ онъ окончился. Она встала, вышла изъ комнаты и опять усѣлась на прежнее мѣсто, чтобы глазѣть на темноту ночную черезъ открытое окно.
Глаза Алисы во все это время были устремлены на Гэрріетъ, которую она продолжала держать за руку. Теперь она сказала:
– Мнѣ казалось, я буду нѣсколько спокойнѣе, когда вы узнали эту исторію. Она, думалось мнѣ, объяснитъ вамъ отчасти крайности разврата, который меня сгубилъ. Мнѣ слишкомъ часто толковали, что я нарушаю свои обязанности, и я, въ свою очередь, невольно утвердилась въ мысли, что другіе люди не исполнили своихъ обязанностей по отношенію ко мнѣ. Сѣмя какъ посѣяно, такъ и взошло. Дочери богатыхъ, но дурныхь матерей могутъ, въ свою очередь, сбиваться съ прямой дороги, но путь ихъ никогда не можетъ быть такъ гадокъ, какъ мой. Теперь все прошло. Все это представляется мнѣ какимъ-то сномъ, котораго теперь я не могу ни хорошенько вспомнить, ни отчетливо понять. И этотъ сонъ видѣлся мнѣ каждый день съ того времени, какъ вы начали сидѣть здѣсь и читать для меня. Пересказываю его вамъ, сколько могу помнить. Не потрудитесь ли вы еще почитать для меия?
Гэрріетъ тихонько отстранила свою руку, чтобы открыть книгу, но Алиса удержала ее опять.
– Вы не забудете моей матери? Я простила ей все, въ чемъ, по моему, она виновата. Я знаю, что она прощаеть меня и слишкомъ тужитъ обо мнѣ. Вы не забудете ея?
– Никогда, Алиса!
– Еще минуту. Положите мою голову такъ, чтобы я могла на вашемъ добромъ лицѣ видѣть слова, которыя вы станете читать.
Гэрріетъ исполнила ея желаніе и принялась читать, Она читала ей ту книгу, въ которой недужный, страждущій, удрученный человѣкъ всегда находитъ утѣшеніе и вѣчную отраду для изнуреннаго духа. Она читала, какъ одна женщина, слѣпая, хромая, прокаженная, оскверненная всякими недугами души и тѣла, получила прощеніе и такую награду, которой не отниметъ отъ нея никакая человѣческая сила.
– Завтра поутру, Алиса, – сказала Гэрріетъ, закрывая книгу, – я приду какъ можно раньше.
Свѣтлые глаза сомкнулись на минутку, но при этихъ словахъ открылись опять. Алиса съ набожнымъ благоговѣніемъ поцѣловала руку своей благодѣтельницы.
Тѣ же свѣтлые глаза слѣдили за нею къ дверямъ. Въ ихъ блескѣ и на спокойномъ лицѣ промелькнула прощальная улыбка.
Глаза сомкнулись и уже больше не открывались никогда. Она положила свою руку на грудь, произнесла священное имя Того, житіе котораго ей читали, и жизнь сбѣжала съ ея лица, подобно исчезающему свѣту.
На мѣстѣ, гдѣ была Алиса, лежалъ бездыханный трупъ.
Глава LIX
Часъ пробилъ
Опять перемѣны въ большомъ домѣ, на длинной скучной улицѣ, гдѣ Флоренса проводила свое одинокое дѣтство. Это все тотъ же огромный домъ, надежный оплотъ противъ непогоды и вѣтровъ, безъ проломовъ на кровлѣ, безъ разбитыхъ оконъ, безъ продавленныхъ стѣнъ, но тѣмъ не менѣе онъ – развалина, и крысы бѣгутъ изъ него.
Сначала м-ръ Таулисонъ и компанія никакъ не хотятъ вѣрить злой молвѣ, которая расиространяется вокрутъ нихъ. Кухарка говоритъ рѣшительно и прямо, что подорвать нашъ кредитъ, благодаря Бога, не такъ легко, какъ другихъ богачей, a м-ръ Таулисонъ положительно утверждаетъ, что, пожалуй, станутъ послѣ этого болтать, будто подорвался англійскій банкъ или взлетѣли на воздухъ всѣ сокровища лондонской башни. Но скоро приходитъ газета, и съ нею м-ръ Перчъ, въ сопровожденіи своей почтенной супруги, которая пришла на кухню покалякать и провести пріятный вечеръ.
Какъ скоро темное дѣло было приведено въ извѣстность, м-ръ Таулисонъ главнѣйшимъ образомъ безпокоился насчетъ убытка и полагалъ, что онъ круглымъ числомъ простирается, по крайней мѣрѣ, до сотни тысячъ фунтовъ. М-ръ Перчъ убѣжденъ, съ своей стороны, что, пожалуй, не покрыть его и сотнею тысячъ фунтовъ. Женщины, подъ предводительствомъ м-съ Перчъ и кухарки, часто съ благоговѣйнымъ удовольствіемъ повторяютъ: "Сотня тысячъ фунтовъ!" – какъ будто передъ ихъ глазами лежали самыя деньги. Горничная, не спуская глазъ съ м-ра Таулисона, изъявляетъ желаніе имѣть хотя бы сотую часть этого капитала, чтобы наградить имъ любимаго человѣка. М-ръ Таулисонъ, проникнутый, какъ извѣстно, непримиримою ненавистью къ иностранцамъ, держится того мнѣнія, что достанься эти деньги какому-нибудь сухопарому французу, онъ бы не зналъ, бестія, что съ ними дѣлать, развѣ только профинтилъ бы ихъ на усы и свою треклятую бороденку. При этомъ горькомъ сарказмѣ горничная хохочетъ до упаду и удаляется на свѣжій воздухъ.
Скоро, однако, она возвращается опять, ибо кухарка, издавна пользовавшаяся репутаціею расторопной и умной дамы, говоритъ, что теперь-то собственно имъ надо держаться другъ друга, – не такъ ли, Таулисонъ? – Вѣдь еще неизвѣстно, скоро ли имъ придется разойтись на всѣ четыре стороны.
– Мы видѣли, – продолжаетъ кухарка, – въ этомъ домѣ похороны, видѣли свадьбу и при насъ же скрылись эти бѣглянки. Пусть не говорятъ о насъ добрые люди, что мы не могли ужиться въ это несчастное время. Станемъ жить по-прежнему тише воды, ниже травы, не вынося соринки изъ этого дома, не такъ ли, Таулисонъ?
М-съ Перчъ приведена въ трогательное умиленіе этой рѣчью и открыто замѣчаетъ, что кухарка – настоящій ангелъ. М-ръ Таулисонъ отвѣчаетъ, что онъ, съ своей стороны, всего менѣе способенъ противорѣчить такимъ благороднымъ чувствамъ, и въ доказательство… онъ беретъ горничную за руку, шепчетъ ей нѣсколько словъ и, становясь съ этой юной леди среди комнаты, торжественно извѣщаетъ всю кухонную компанію, что онъ и она рѣшились, наконецъ, сочетаться законнымъ бракомъ и завести на Оксфордскомъ рынкѣ, въ травяномъ ряду, свою собственную лавку, куда въ свое время будутъ имѣть честь покорнѣйше просить всѣхъ своихъ старыхъ знакомыхъ. Это объявленіе принято съ превеликимь восторгомъ, и м-съ Перчъ, прозирая душою въ будущее, торжественно шепчетъ на ухо кухаркѣ: "Разведутъ дѣвченокъ!"
Фамильное несчастіе, само собою разумѣется, въ этихъ нижнихъ слояхъ безъ пиршества обойтись не можетъ. На этомъ основаніи кухарка изготовляетъ для ужина два горячихъ блюда, a м-ръ Таулисонъ, для той же гостепріимной цѣли, сочиняетъ раковый салатъ на огромномъ блюдѣ. Даже м-съ Пипчинъ, взволнованная этой рѣдкой оказіей, звонитъ отчаянной рукой съ высоты своего покоя и посылаетъ сказать, чтобы ей подогрѣли къ ужину сладенькій пирожокъ и прислали на подносѣ стаканъ крѣпкаго глинтвейну съ хересомъ пополамъ, такъ какъ она чувствуетъ себя нѣсколько нездоровой.
Поговариваютъ насчетъ м-ра Домби, но весьма немного. Главный предметъ разсужденія состоитъ собственно въ томъ, смекалъ ли этотъ джентльменъ, какъ идутъ дѣла, и давно ли началъ подозрѣвать, что ему не миновать банкротства. Кухарка выражаетъ свое мнѣніе такимъ образомъ:
– Я готова присягнуть, что онъ готовился къ этому цѣлые годы; и если сказать всю правду, его приказчикъ бѣжалъ именно тогда, когда ужъ ничего нельзя было поправить.
Обратились къ м-ру Перчу, и вышло, что м-ръ Перчъ такихъ же мыслей. Затѣмъ предстоялъ другой, не менѣе важный вопросъ: что станетъ дѣлать м-ръ Домби и выпутается ли кое-какъ изъ своей бѣды? Таулисонъ полагаетъ, что не выпутается, и основательно заключаетъ, что м-ръ Домби удалится въ какую-нибудь богадѣльню, устроенную для джентльменовъ.
– Вотъ что! – восклицаетъ кухарка жалобнымъ тономъ. – Тамъ, вѣроятно, y него будетъ маленькій садикъ, и онъ станетъ разводить весною сахарный горохъ!
– Именно такъ, – подтверждаетъ Таулисонъ, – притомъ, думать надо, его причислятъ къ разряду какихъ-нибудь братій.
– Всѣ мы – братія, – говоритъ м-ръ Перчъ, выпивая свою рюмку.
– Только ужъ никакъ не с_е_с_т_р_і_я, – остроумно замѣчаетъ м-съ Перчъ, поглядывая съ лукавымъ видомъ на всю веселую компанію.
– Вотъ какъ падаютъ сильные міра сего! – воскликнула кухарха съ трепетнымъ благоговѣніемъ.
– Гордецы падали всегда и будутъ падать: туда имъ и дорога! – съ негодованіемъ говоритъ горничная, невѣста м-ра Таулисона.
Нельзя было достойнымъ образомъ надивиться дружелюбію всей этой компаніи и тому твердому единодушію, съ какимъ она переносила ужасный ударъ судьбы. Но вдругъ неожиданно маленькая дѣвочка, ремесломъ судомойка, разразилась слѣдующими словами:
– A что, если намъ не заплатятъ жалованья?
При этой выходкѣ всѣ почтенные члены остались безъ языка, какъ будто невидимая сила поразила ихъ нѣмотою. Кухарка оправилась первая.
– Какъ тебѣ не стыдно, – сказала она, – г обижать благородную фамилію, которая тебя кормитъ и поитъ, такими безчестными подозрѣніями? Неужто, думаешь ты, найдутся на свѣтѣ окаянные люди, которые захотятъ отнять послѣдній кусокъ хлѣба y бѣдной прислуги? Стыдись, прощалыга ты этакая! Съ этакими чувствами, я не знаю, право, гдѣ ты отыщешь себѣ другое мѣсто.
М-ръ Таулисонъ тоже не зналъ, и никто не зналъ. Бѣдная дѣвочка, въ свою очередь, не смыслила ничего и принуждена была забиться въ темный уголокъ, осыпанная градомъ безпощадныхть упрековъ.
Черезъ нѣсколько дней какіе-то странные люди начинаютъ заходить въ этотъ домъ и назначаютъ одинъ другому свиданія въ большой столовой, какъ будто они здѣсь и жили. Между ними особенно бросается въ глаза джентльменъ іудейской породы, толстый и курчавый, съ массивными часами въ карманѣ. Онъ похаживаетъ и посвистываетъ въ ожиданіи другого джентльмена, y котораго за пазухой всегда перья и чернила, a между тѣмъ, для препровожденія времени, обращается къ м-ру Таулисону съ какимъ-нибудь вопросомъ, напримѣръ:
– Не знаете ли вы, какой видъ имѣли первоначально эти малиновыя занавѣси, когда ихъ только что купили? Вы вѣдь здѣсь – старый пѣтухъ.
И названіе стараго пѣтуха, неизвѣстно ради какой причины, навсегда утвердилось за камердинеромъ м-ра Домби.
Эти визиты и свиданія въ большой столовой день-ото-дня становятся все чаще и чаще, и каждый джентльменъ имѣетъ, по-видимому, въ своемъ карманѣ перья и чернила. Наконецъ, разносится слухъ, что дѣло идетъ о продажѣ съ аукціона, и тогда вламывается въ домъ цѣлая группа серьезныхъ джентльменовъ, сопутствуемая отрядомъ странныхъ людей въ странныхъ шапкахъ, которые начинаютъ стаскивать ковры, стучать мебелью и дѣлать своими туфлями тысячи разнородныхъ оттисковъ на лѣстницахъ и въ кориродѣ.
Между тѣмъ кухонный комитетъ постоянно засѣдаетъ въ своемъ нижнемъ департаментѣ и отъ нечего дѣлать кушаетъ и пьетъ отъ ранняго утра до поздняго вечера. Наконецъ, въ одно прекрасное утро, м-съ Пипчинъ потребовала къ себѣ всѣхъ членовъ и адресовалась къ нимъ такимъ образомъ:
– Вашъ хозяйнъ находится въ затруднительномъ положеніи. Это, конечно, вы знаете?
М-ръ Таулисонъ, какъ предсѣдатель комитета, даетъ за всѣхъ утвердительный отвѣтъ.
– Всѣмъ вамъ, каждому и каждой, не мѣшаетъ позаботиться о себѣ, – продолжаетъ перувіанская вдовица, окидывая собраніе своимъ сѣрымъ глазомъ и качая головой.
– Такъ же, какъ и вамъ, м-съ Пипчинъ! – восклицаетъ пронзительный голосъ изъ арріергарда.
– Это вы такъ думаете, безстыдница, вы? – кричитъ раздражительная Пипчинъ, приподнимаясь во весь ростъ, чтобы яснѣе равглядѣть дерзкую грубіянку.
– Я, м-съ Пипчинъ, я, съ вашего позволенія! – храбро отвѣчаетъ кухарка, выступая впередъ.
– Ну, такъ вы можете убираться, и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше. Надѣюсь, я не увижу больше вашей гадкой фигуры.
Съ этими словами храбрая вдовица вынимаетъ изъ сундука полотняный мѣшокъ, отсчитываетъ деньги и говоритъ, что она можетъ получить свое жалованье вплоть до этого дня и еще впередъ за цѣлый даровой мѣсяцъ. Кухарка расписывается въ домовой книгѣ, и съ послѣднимъ почеркомъ пера ключница бросаетъ ей деньги. Эту хозяйственную формальность м-съ Пипчинъ повторяетъ со всѣми членами кухонной компаніи до тѣхъ поръ, пока всѣ и каждый сполна получили свое жалованье, съ прибавкой даровой мѣсячной награды.
– Можете теперь идти на всѣ четыре стороны, – говоритъ м-съ Пипчинъ, – a y кого нѣтъ мѣста, тотъ можетъ прожить здѣсь еще недѣлю, больше или меньше. A вы, негодница, сейчасъ же долой со двора, – заключаетъ раздражительная Пипчинъ, обращаясь къ кухаркѣ.
– Иду, матушка Пипчинъ, можете быть спокойны, – отвѣчаетъ кухарка. – Счастливо оставаться и кушать на сонъ грядущій сладкіе пирожки съ горячимъ глинтвейномъ.
– Пошла вонъ! – кричитъ м-съ Пипчинъ, топая ногой.
Кухарка удаляется съ видомъ высокаго достоинства, который приводитъ въ отчаяніе старуху Пипчинъ, и черезъ минуту присоединяется въ нижнемъ департаментѣ къ остальнымъ членамъ комитета.
Тогда м-ръ Таулисонъ говоритъ, что теперь, прежде всего, не мѣшаетъ что-нибудь перекусить и пропустить за галстукъ, a потомъ онъ будетъ имѣть удовольствіе предложить нѣкоторые совѣты, необходимые, по его мнѣнію, для всѣхъ сочленовъ благородной компаніи. Выпили, перекусили, еще выпили и еще закусили, и когда, наконецъ, эта предварительная статья была приведена къ желанному концу, м-ръ Таулисонъ излагаетъ свои мнѣнія такимъ образомъ:
– Служба наша оканчивается съ этимъ днемъ. Всѣ мы, каждый и каждая, можемъ отъ чистаго сердца говорить, что во все время своего нахожденія въ этомъ домѣ мы служили вѣрой и правдой, несмотря на безтолковыя и безсмысленнуя распоряженія взбалмошной бабы, какова м-съ Пипчинъ…
Общее негодованіе. Нѣкоторые изъ почтенныхъ сочленовъ перемигиваготся и смѣются. Горничная аплодируетъ.
– Много лѣтъ мы жили дружелюбно и единодушно, не выставляясь впередъ и не выскакивая другъ передъ другомъ, и если бы хозяинъ этого несчастнаго дома соблаговолилъ когда-нибудь удостоить своимъ вниманіемъ наше общее согласіе, нѣтъ никакого сомнѣнія, каждый и каждая изъ насъ удостоились бы не такой награды, какую, словно голоднымъ псамъ, бросила жадная старуха Пипчинъ.
Общіе вздохи. Судомойка обнаруживаетъ безсмысленное удивленіе. Горничная всхлипываетъ.
Кухарка приходитъ въ сильнѣйшее волненіе и, озирая быстрымъ взоромъ почтенное собраніе, неоднократно повторяетъ: "Слушайте! слушайте!" м-съ Перчъ, упоенная и упитанная по горло, проливаетъ горькія слезы. – Таулисонъ продолжаетъ:
– Итакъ, мое мнѣніе и мой душевный, искренній совѣтъ состоятъ собственно въ томъ, что, вслѣдствіе обиды, нанесенной всѣмъ намъ въ лицѣ почтенной изготовительницы хозяйскихъ блюдъ, мы всѣ, безъ малѣйшаго изъятія, должны удалиться из ь этого неблагодарнаго дома сейчасъ же и куда бы то ни было. Идемъ, бѣжимъ отсюда безъ оглядки, отряхивая прахъ отъ ногъ нашихъ, и пусть узнаетъ свѣтъ, что бѣдные слуги, тамъ, гдѣ нужно, не менѣе господъ умѣютъ поддерживать свое достоинство, если требуютъ этого честь и совѣсть!
– Вотъ что значитъ быть благороднымъ человѣкомъ! – восклицаетъ горничная, отирая слезы. – О Таулисонъ, милашка Таулисонъ, какъ я люблю тебя, мой розанъ!
– Я, съ своей стороны, особенно должна благодарить васъ, м-ръ Таулисонъ, – говоритъ кухарка съ видомъ высокаго достоинства, – Надѣюсь, впрочемь, кромѣ комплиментовъ мнѣ, y васъ были и другія побужденія говорить съ такимъ благороднымъ одушевленіемъ.
– Само собою разумѣется, – отвѣчаетъ Таулисонъ, – были и другія. Признаться, если сказать всю правду, такъ по моему, не совсѣмъ-то благородное дѣло оставаться въ такомъ домѣ, гдѣ идетъ продажа съ публичнаго торгу.
– Именно такъ, душечка Таулисонъ, – подхватываетъ горничная. – По моему, жить среди этой суматохи, значитъ, рѣшительно не имѣть никакой амбиціи. Мало ли какого народу тутъ насмотришься? И все такіе грубіяны, такіе нахалы! Не далѣе какъ сегодня поутру одинъ сорванецъ вздумалъ было меня поцѣловать!
– Какъ?! – заревѣлъ во все горло м-ръ Таулисонъ. – Гдѣ этотъ нахалъ, гдѣ онъ? Да я расшибу его въ дребезги, да я…
И, не докончивъ фразы, м-ръ Таулисонъ стремительно вскочилъ съ своего мѣста и бросился вонъ съ очевиднымъ намѣреніемъ казнить обидчика, но дамы, къ счастью, во время ухватили его за фалды, успокоили, уговорили, заключая весьма основательно, что гораздо приличнѣе совсѣмъ убраться изъ этого скандалезнаго дома, чѣмъ заводить въ немъ непріятныя сцены. М-съ Перчъ, представляя это обстоятельство въ новомъ свѣтѣ, осторожно намекаетъ, что даже, въ нѣкоторомъ родѣ, деликатность къ самому м-ру Домби, постоянно запертому въ своемъ кабинетѣ, требуетъ, чтобы они немедленно удалились.
– Ну, скажите, на что это будетъ похоже, говоритъ м-съ Перчь, – если онъ какъ-нибудь провѣдаетъ, что и бѣдные слуги перестали его уважать?
Всѣ согласились, что это точно будетъ ни на что не похоже, и кухарка была такъ растрогана этой сентенціей, что въ порывѣ душевнаго умиленія нѣсколько разъ обняла и поцѣловала дорогую м-съ Перчъ. Итакъ рѣшено – единодушно и единогласно – выбираться сейчасъ же, чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше. Чемоданы увязаны, сундуки уложены, телѣги наняты, навьючены, и къ вечеру этого достопамятнаго дня въ знаменитой кухнѣ не остался ни одинъ изъ членовъ дружелюбнаго сейма.
Огроменъ домъ м-ра Домби, крѣпокъ и надеженъ, но тѣмъ не менѣе онъ – развалина, и крысы бѣгутъ изъ него.
Странные люди въ странныхъ шапкахъ гремятъ и шумятъ по всѣмъ комнатамъ, перебирая и опрокидывая мебель; джентльмены съ перьями и чернилами важно бесѣдуютъ другъ съ другомъ и дѣлаютъ подробную опись. Они распоряжаются всѣмъ и хозяйничаютъ такъ, какъ никогда бы не хозяйничали y себя дома. Они сидятъ на такихъ мѣстахъ, которыя никѣмъ и никогда не предназначались для сидѣнья; пьютъ и ѣдятъ трактирныя порціи на такихъ предметахъ мебели, которые никогда не предназначались для обѣденныхъ столовъ, и это присвоеніе страннаго употребленія дорогихъ вещей, по-видимому, доставляетъ имъ душевное наслажденіе. Изъ перестановокъ мебели сооружаются самыя хаотическія комбинаціи. Наконецъ, въ довершеніе эффекта, вывѣшено съ балкона огромное печатное объявленіе, и такими же добавочными прелестями украшены всѣ половинки наружныхъ дверей.
Потомъ, во весь день, стоятъ передъ домомъ длинные ряды каретъ, шарабановъ, колясокъ, кабріолетовъ, и цѣлыя стада жадныхъ вампировъ снуютъ и бѣгаютъ по всѣмъ комнатамъ, стучатъ по зеркаламъ щиколками своихъ пальцевъ, выбиваютъ нестройныя октавы на фортепьяно, вырисовываютъ мокрыми пальцами на картинахъ, дышатъ на черенки лучшихъ столовыхъ ножей, взбиваютъ грязными кулаками бархатныя подушки на креслахъ и диванахъ, тормошатъ пуховыя постели, отпираютъ и запираютъ шкафы и комоды, взвѣшиваютъ серебряные ножи и вилки, вглядываются въ самыя нити драпри и полотенъ, – и все бракуютъ, все отбрасываютъ прочь. Нѣтъ въ цѣломъ домѣ ни одного неприкосновеннаго и неприступнаго мѣста. Слюнявые незнакомцы, пропитанные табакомъ и пылью, заглядываютъ подъ кухонныя рѣшетки съ такимъ же любопытствомь, какъ и подъ атласныя одѣяла. Дюжіе джентльмены въ истертыхъ шляпахъ самодовольно выглядываютъ изъ оконъ спаленъ и перебрасываются презабавными шуточками съ своими пріятелями на улицѣ. Спокойныя, разсчетливыя головы, съ каталогами въ рукахъ, удаляются въ уборныя комнаты, чтобы дѣлать на стѣнахъ математическія замѣтки кончиками своихъ карандашей. Два оцѣнщика пробираются даже черезъ трубу на самую кровлю дома и любуются окрестными видами. Возня и стукотня, сумятица и гвалтъ продолжаются нѣсколько дней сряду. "Превосходная, новѣйшая хозяйственная мебель" – и прочее подвергается осмотру.
Затѣмъ учреждается въ парадной гостиной родъ палисадника изъ столовъ и кушетокъ, и на испанскихъ обѣденныхъ столахъ изъ краснаго дерева, перевернутыхъ вверхъ ногами, воздвигается кафедра аукціонера. Его обступаютъ толпища жадныхъ вампировъ, слюнявые незнакомцы, пропитанные табакомъ и пылью, дюжіе джентльмены въ истертыхъ шляпахъ и широкихъ шароварахъ. Все это садится гдѣ ни попало, – на косякахъ, тюфякахъ, комодахъ, письменныхъ столахъ и даже на каминныхъ полкахъ. Начинается торгъ. Комнаты душны, шумны, пыльны весь день, к при этой духотѣ, тѣснотѣ, быстротѣ говора и движеній, весь день неутомимо работаютъ голова и плечи, голосъ и молотокъ аукціонера. Странные люди въ странныхъ шапкахъ, подъ хмѣлькомъ и съ красными носами, бросаютъ жребій, кричатъ, толкаютъ одинъ другого и опять бросаютъ по мановенію неугомоннаго молотка. Иногда по всей комнатѣ раздается смѣшанный гвалтъ и хохотъ. Такъ продолжается во весь день и въ слѣдующіе три дня. Превосходная, новѣйшая, хозяйственная мебель и прочее – продается съ аукціона.
Затѣмъ появляются опять шарабаны, коляски, кабріолеты и за ними длинный рядъ фуръ и телѣгъ съ цѣлымъ полчищемъ носильщиковъ, навьюченныхъ узлами. Весь день странные люди въ странныхъ шапкахъ развязываютъ и привязываютъ, винтятъ и развинчиваютъ, отдыхаютъ цѣлыми дюжинами на ступеняхъ лѣстницы, согбенные подъ тяжелымъ грузомъ, или сваливаютъ съ своихъ плечъ на фуры и телѣги цѣлыя громады изъ краснаго и чернаго дерева всякаго рода и вида. Здѣсь цѣлый рынокъ всевозможныхъ ломовыхъ колесницъ отъ огромныхъ фуръ до мелкихъ двухколесныхъ таратаекъ и тачекъ. Постельку маленькаго Павла увезли на ослѣ, впряженномъ въ одноколку. Около недѣли, превосходная, новѣйшая, хозяйственная мебель и прочее – развозится по мѣстамъ.
Наконецъ, все разъѣхалось, и все увезено. Остались около дома разорванныя бумаги каталоговъ и счетовъ, грязные клочки сѣна и соломы и цѣлая батарея оловянныхъ кружекъ на дворѣ и въ коридорахъ. Нашествіе окончилось, и огромный домъ м-ра Домби превратился въ развалину, и крысы бѣгутъ изъ него.
Апартаменты м-съ Пипчинъ, вмѣстѣ съ запертыми комнатами въ нижнемъ этажѣ, гдѣ всегда опущены сторы, пощажены отъ общаго опустошенія. Въ продолженіе этой суматохи м-съ Пипчинъ пребывала въ своей комнатѣ, спокойная и важная, или по временамъ заходила на аукціонъ посмотрѣть распродажу и похлопотать для себя насчетъ какого-нибудь спокойнаго креслица. М-съ Пипчинъ – большая охотница до спокойныхъ креселъ, и теперь, когда къ ней приходитъ м-съ Чиккъ, она засѣдаетъ на своей собственности.
– Каковъ мой братъ, м-съ Пипчинъ?
– A я-то почему знаю? Онъ никогда не изволитъ разговаривать со мной. Ему приносятъ ѣсть и пить въ ту комнату, что подлѣ кабинета, и онъ кушаетъ, когда тамъ никого нѣтъ. Иной разъ онъ и выходитъ, да никому не говоритъ. Нечего меня объ этомъ спрашивать. Я знаю о немъ не больше того южнаго чучела, которое ожгло свой ротъ холоднымъ габеръ-супомъ съ изюмомъ и коринкой.
Такъ отвѣтствовала язвительная м-съ Пипчинъ, проникнутая, очевидно, сильнѣйшимъ негодованіемъ противъ домовладыки.
– Да что же это такое? – говоритъ м-съ Чиккъ. – До которыхъ поръ это продолжится, желала бы я знать? Если братъ не сдѣлаетъ усилія, что изъ него выйдетъ? Ну, какъ вы думаете, м-съ Пипчинъ, что-таки изъ него выйдетъ?
– Что выйдетъ, то и выйдетъ; намъ какое дѣло?
– И добро бы еще онъ не видѣлъ примѣровъ на своемъ вѣку, – продолжаетъ м-съ Чиккъ, припрыгивая на своемъ стулѣ. – A то, вѣдь, если сказать правду, почти всѣ бѣды въ его семействѣ произошли именно оттого, что не умѣли въ свое время дѣлать усилій. Пора бы образумиться. Бѣда, право, совсѣмъ бѣда!
– Ахти вы, Господь съ вами, м-съ Чиккъ! – восклицаетъ м-съ Пипчинъ, дергая себя за носъ. – На всякое чиханье не наздравствуешься, говоритъ пословица, и вотъ ужъ тутъ-то, по-моему, бѣды нѣтъ никакой. Потерялъ свою мебель: – экая важность! Бывали добрые люди и до него, которые разставались съ своимъ имѣніемъ, да не тужили, не запирались въ свою берлогу.
– Мой братъ, скажу, я вамъ, престранный человѣкъ! – продолжаетъ м-съ Чиккъ съ глубокимъ вздохомъ, – то есть, онъ такой въ своемъ родѣ оригиналъ, какіе едва ли еще найдутся на бѣломъ свѣтѣ. Вообразите, м-съ Пипчинъ, кто бы могъ повѣрить!.. да это, право, такая исторія, что даже страшно и разсказывать.
– Ну, и не разсказывайте, если страшно.
– Да нѣтъ, мнѣ все-таки хочется съ вами подѣлиться. Вотъ видите ли, когда онъ получилъ извѣстіе о замужествѣ и бѣгствѣ этой своей чудовищной дочери… ну, еще, слава Богу, я могу утѣшать себя, по крайней мѣрѣ, тѣмъ, что никогда не ошибалась въ этой дѣвченкѣ. Не выйдетъ изъ нея пути, говорила я, не выйдетъ и не выйдетъ. Что дѣлать? не хотѣли меня слушать… Такъ вотъ, говорю я, кто бы могъ повѣрить, что мой-то любезнѣйшій братецъ вздумалъ послѣ этой штуки отнестись ко мнѣ, да еще съ угрозами! Я, говоритъ, думалъ, что она живетъ въ твоемъ домѣ, что ты, говоритъ, за нею смотришь, что это, говоритъ, было твое дѣло! Каково? Признаться, я вся задрожала и едва собралась съ духомъ. "Павелъ, говорю я, любезный братецъ, или я просто съ ума сошла, или я вовсе не понимаю, какимъ это способомъ дѣла твои пришли въ такое состояніе". Вотъ только я и сказала. A онъ-то? Кто бы могъ повѣрить, что онъ подскочилъ ко мнѣ, какъ сумасшедшій, и сказалъ напрямикъ, чтобы я не смѣла показывать ему глазъ, покамѣстъ онъ самъ не позоветъ! Каково?
– Жаль, – возражаетъ м-съ Пипчинъ, – что ему не привелось имѣть дѣла съ перувіанскими рудниками, они бы повытрясли эту спесь изъ его головы!
– Вотъ такъ-то! – продолжаетъ м-съ Чиккъ, не обращая ни малѣйшаго вниманія на замѣчанія м-съ Пипчинъ. – Чѣмъ же все это кончится, желаю я знать? Что станетъ дѣлать мой братъ? Разумѣется, онъ долженъ же что-нибудь дѣлать. Нѣтъ никакой надобности запиратьея въ своихъ комнатахъ и жить медвѣдемъ. Дѣла не придутъ къ нему сами. Никакъ нѣтъ. Ну, такъ онъ самъ долженъ къ нимъ идти. Хорошо. Такъ зачѣмъ онъ не идетъ? Онъ знаетъ куда идти, я полагаю, такъ какъ онъ всю жизнь былъ дѣловымъ человѣкомъ. Очень хорошо. Такъ почему же онъ не идетъ? Вотъ что я желаю знать.
Молчаніе. М-съ Чиккъ, очевидно, удивляется этой могучей цѣпи умозаключеній, которую она съ такимъ искусствомъ выковала.
– И притомъ, слыханое ли дѣло – оставаться y себя взаперти во время всѣхъ этихъ страшныхъ непріятностей? Упрямство непостижимое! Какъ будто ужъ ему некуда было головы преклонить! Ахъ ты, Боже ты мой, Боже, да онъ могъ идти прямо въ нашъ домъ! Онъ знаетъ, я полагаю, что онъ y насъ, какъ y себя. М-ръ Чиккъ, признаться, даже надоѣлъ мнѣ, да и сама я говорила собственными устами: "Павелъ, любезный братецъ, ты не думай, что мы ужъ какіе-нибудь этакъ… вотъ ты теперь въ крайности, ну, и приходи къ намъ, такъ-таки и приходи. Развѣ ты полагаешь, что мы такъ себѣ, какъ и всѣ люди? Никакъ нѣтъ. Мы всегда твои родственники, и домъ нашъ къ твоимъ услугамъ! " – Такъ нѣтъ, прости Господи, сидитъ себѣ, какъ байбакъ, и хоть бы словечкомъ заикнулся! Ну, a если предположить, что домъ вздумаютъ отдать внаймы, тогда что?… Что тогда, м-съ Пипчинъ? Вѣдь ему нельзя будетъ здѣсь оставаться. Никакъ нѣтъ. Иначе его поневолѣ выживутъ, заставятъ уйти, и онъ долженъ будетъ уйти. Такъ зачѣмъ ужъ лучше онъ не идетъ теперь, чѣмъ тогда? Не придумаю, право не придумаю. Какъ же вы думаете, м-съ Пипчинъ, чѣмъ все это кончится?








