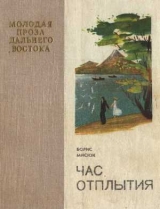
Текст книги "Час отплытия"
Автор книги: Борис Мисюк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц)
Любить корявую, как зыбь.
Как все двенадцать баллов, правду.
Короче, жить не для парада,
А просто – жить…
Транзистор стоял на лазаретной, крашенной белилами тумбочке и громким треском грубо нарушал покой медсанчасти. Правда, кроме нас с Юрой, тут не было ни души. Темно-мышиного цвета больничный халат, полы которого все обычно задевают на ходу пятками, ему был по колено, а на обеих икрах сияли белизной бинты. Говорить нам мешал транзистор. В нем сидел, похоже, сам бог-творец и производил утреннюю поверку звезд и созвездий:
– «Альтаир»… «Андромеда»… «Возничий»…
«Звезды» моментально откликались и рапортовали градусы координат, центнеры уловов, тонны воды и топлива.
Тоскливый диалог бога-творца с капитаном «Персея» мы слушали в унылом молчании. Я, как прощения, ждал встречи «Весны» с «Персеем», Томы и Саши, Ромео и Джульетты, а она снова отодвинулась вдаль, в будущее. Юра же, видно, думал совсем о другом.
– Ты замет когда-нибудь видал? Бывал на сейнерах? – с непонятной горячностью заговорил он, когда бог, покончив с «Персеем», выкликнул «Сириуса».
Я помотал головой.
– Эх, до чего ж азартное дело рыбалка! Бегаешь, бегаешь по зыбайлу, полсуток тебя штивает, а то и больше, дело прошлое, и вот наконец косяк нашел. Хоп его! – Юра округлил ладонями воображаемый косяк. – Ну а вообще рыбалка – в радость. Как с удочкой на речке. Правда, и такая ж темная: крючок забросил и жди приключений, рыбка плавает по дну…
– Море, получается, насквозь надо видеть?
– Ясно, надо! – Юра понял меня буквально. – Да мозги, видно, у наших умников салом заплыли, как у нерпы, никак до эхолотов не доберутся. А вот на Балтике, говорят, есть уже аппараты – чуть не каждую рыбку видишь в отдельности, когда она в трал входит.
– А начальник экспедиции мудрый малый, – продолжал Юра, закурив. – Рыбак! Сразу видать, за милю! А мой шеф, ревизор, «травил» как-то на днях; не-е-кому здесь руководить, поря-а-док наводить. Критиковать, дело прошлое, мы все асы, но как до дела – тут мухи в руках у нас топчутся. А сам бы на его месте только пузыри б пускал. Шахрая вон, как терпуг акулы, боится, а ведь не матрос – второй помощник…
Я спросил, кивнув на бинты:
– Что с ногами? Давай наконец рассказывай, а то мне бежать надо, я ведь теперь на дневной. Сейчас перекур, бочку из трюма ждем.
– Да что рассказывать, ты ж слыхал, говоришь.
– Не ломайся, Юраха.
– Ну, дело прошлое… ты кокшу знаешь, Маринку?
– Конечно! – Я сразу вспомнил рослую и красивую повариху с ожиданием счастья в глазах, которая в первый день кормила нас печеной селедкой.
– Ну вот она, – Юра щелкнул окурок в раскрытый иллюминатор, – уже наша вахта кончилась, дело прошлое, я домой собирался – сиганула за борт. Вроде. Романиха ее допекла, я так слыхал потом. Мы как раз с шефом на мостике стояли, на левом крыле, замеряли на сдачу вахты температуру, силу ветра. Слышим – девки визжат. Глянь, а она уже плавает. Бот, кричу, майнай. А сам – вниз. Вот, – Юра показал ладони с запекшимися до синевы мозолями, с побагровевшей кожей, – руки пожег о релинги трапа. К борту подлетаю, дело прошлое, сапоги, ватник с себя рванул и – туда. Вода – как из холодильника. Поймал я ее за робу, за воротник (она в свитере была) и тащу на себе. Она поначалу бульки пускала, а после, видать, и хвост набок, сознание потеряла. Тяжело тащить неживое, да еще она, ты ж знаешь, девка здоровая, дело прошлое, килограммов на семьдесят пять. Волоку, а сам маты гну. Бот, бот где, думаю, так вашу растак! Уже к самому борту подгреб, дело прошлое, задубенел весь, челюсть – каменная. А это чадо, – Юра кивнул вверх, где тремя палубами выше жил ревизор, – так бота и не смайнал. Капитану звонить стал, разрешения испрашивать. Ну, а пока Шахрай расчухался, парни штормтрап сбросили и нас выволокли на палубу. Да, а там, внизу, было темно (четыре, полпятого – ночь), я искал за что уцепиться, трос нашел от пневмокранцев да ногами, дело прошлое, в нем заплелся, как осьминог. А трос-то ржавый, рванье одно, ну и вот, – Юра показал глазами на бинты. – Пусть мой дорогой шеф теперь без меня вахту тащит.
– Ну ладно, я бегу. Юра. Чего тебе принести? В обед загляну.
– Чтива притащи! Любого.
– Добро. Выздоравливай!
Спускаюсь в цех, бригада моя, гляжу, в прежнем положении, на соломенных мешках с китайской солью сидит. Курят, «травят», ждут бочку из трюма. Оказывается, лебедчика нет, его забрали на вахту вместо Юры.
– Садись, Сева! – Валентин, наш бугор, хлопнул ладонью по мешку рядом с собой. – До обеда, один хрен, делов не будет. Валяй, Гоша, дальше!
– Ага, так про шо я балакав? – продолжил Гоша, рыжий звонкоголосый хлопчина, забравшийся с правого берега Днепра на Тихий океан, чтобы «заробить на хату».
Так бы и просидели мы на мешках до обеда, если б Валентин вдруг не вспомнил:
– Слушай, Сева, да ты ж крановщиком работал, ежли моя память не барахлит!
– Отличная память, – подтвердил я.
– И молчит! – Он посмотрел на бригаду и весело-сердито скомандовал мне: – А ну-ка марш на лебедки!
– Так они же паровые! – пытался я сопротивляться судьбе, которая с этого момента была решена – я стал матросом-лебедчиком.
Поверьте мне, прекрасней специальности нет на рыбном флоте! Всегда на палубе, на крепком, как добро заваренный чай, морском воздухе, всегда видишь весь мир вокруг.
Я встал за рычаги. Чуть утопил их вниз, и лебедки загрохотали, как два трактора. Я вздернул рычаги вверх, и трактора взревели, бешено вертя барабаны уже в противоположную сторону. Пока ты не привык к грохоту паровых лебедок, он кажется оглушительным и страшным, приковывает и поглощает внимание. Нужно сразу пересилить себя и постараться забыть о нем… Затравленно озираясь на громыхающие барабаны, я забыл о гаке и шкентелях. А когда наконец вспомнил и взглянул вверх, было поздно: массивный, кованый гак легкой пташкой вознесся в небо и закрутился вокруг центральной оттяжки. В ужасе я резко нажал на рычаги, мои трактора заглохли.
– Нормально, – спокойно сказал Валентин, чуть улыбаясь одними глазами. Похлопал по лопаткам и добавил: – Ас лебедчик будешь, поверь мне.
И я поверил и стал работать. На обед я шел качаясь. А после обеда – что за странная любовь с первого взгляда – мне не терпелось вновь встретиться с лебедками. Они празднично грохотали в моей хмельной от радости голове, а руки горели, не руки, а какие-то совершенно самостоятельные и сильные существа, вдруг осознавшие свою независимость и силу. Почему же раньше, на кране, я не чувствовал всего этого?
– Где, – кричу, – наш герой?
И замечаю, что в приемной врач не один – в углу у стола сидит Маринка. Она в цветастом байковом халате, с распущенными волосами, с обнаженной для укола левой рукой. Глаза – точно у вспугнутой лани.
– Привет, Мариша! – бодро, чтоб скрыть смущение, здороваюсь я.
Она кивает мне, пытаясь улыбнуться.
В палате-каюте, которая солидно называется «Мужской стационар», остро пахнет карболкой, йодом, эфиром. Я фыркнул, и Юрка тут же проснулся, сел на койке и, как котяра, выгнул спину.
– Ох и лодырь, – говорю. – Будешь теперь сутками спать?
– А где они? – спрашивает лодырь, зевая.
– Кто «где»?
– Да сам же сказал; с утками спать.
– Ну и балаболка! – смеюсь я. – Держи вот книжку. Точь-в-точь про такого же шалопая, как ты.
Вручаю ему «Над пропастью во ржи» Сэлинджера, из судовой библиотеки. Юра любит книги и, обожая в «чтиве» пружины сюжета, не пропускает и пейзажей.
– Падай, – он хлопает по стерильному пододеяльнику возле себя, – покурим.
– Нет, Юраша, – я показываю на свою робу, – куда в такой шкуре? Да и мне уже, наверно, пора. Поздравь меня: отныне я лебедчик.
– Правда? – радуется он вместе со мной. – Ари-стокр-а-ат. Так с тебя, дело прошлое, пузырек!
– Ладно, Юраха, вечером забегу. Пошел я. Дрыхни.
Да, солнце и в полдень уже не греет в этих широтах. Передернув плечами, я бодро зашагал к лебедкам. Скользкая от тузлука и чешуи стальная палуба блестит под солнцем, как лед. Лохматые тучки, видно, уже беременные снегом. Магаданские мальчишки, наверно, коньки точат. А на Кавказе начинается бархатный сезон. Велика мать Россия! А до чего превосходная сейчас пора в Подмосковье… На палубе возле трюма – пушистый ворох высушенной ветром чешуи. С шелестом ворошу ее сапогами и представляю осенний лес: живую мозаику осени: солнечные березы, осины, а сосны с елями – как стражи в черно-зеленых мундирах.
Пронзительный свист доносится из трюма. И я становлюсь за рычаги, и мои трактора грохочут. Гак ныряет вниз, в чрево парохода. Снова свист – стоп. Крик «Вира»! И я вместе с лебедками тяну вверх строп-сетку с дюжиной бочек. Шкентели – как струны. Строп степенно, как кит, всплывает из трюма и движется на левый борт. Правая рука – вниз, и один трактор глохнет. Опускаю строп на палубу и откатываю бочки с селедкой в сторону, а пустую сетку подаю в трюм за новой партией. Там, в гулкой глубине, на десяток метров ниже палубы, парни из моей бригады расстилают сетку, накатывают на нее бочки и ставят. Я жду.
Надо мной, горланя, проносятся чайки, слева по борту закатывается багровый шар, и свежая киноварь расплескалась по бугристому морю, по облакам, по белым надстройкам «Весны».
Если солнце красно к вечеру, моряку бояться нечего.
Подходит Насиров, бригадир заступающей смены. Ростом он ниже Валентина, но тоже крепко обит, коренаст и, в отличие от нашего доброго бугра, резок в движениях, угрюм и напорист.
– Много еще?
– Да нет, – говорю, – стропов пять-шесть.
– Кончайте! Нам трюм нужен, будем забивать готовой продукцией! – в черных восточных глазах проблескивает холодная улыбка. – Задел приготовили?
Сдавая смену, бригада должна оставлять задел – несколько десятков бочек с вложенными в них полиэтиленовыми вкладышами, чтобы работа по посолу рыбы не прерывалась. Валя Иванов всегда строго следит за этим. Иной раз мы увлечемся: к концу смены взвинчивается темп – хочется «добить» сотню или просто забондарить лишний десяток бочек. Но он снимает одного или двоих с процесса – мы обычно ворчим – и сам вместе с ними готовит задел. Насиров нередко «забывает» о нем. Романиха благоволит Насирову. Он бегает к ней за советами и внимательно выслушивает ее ЦУ, без которых может прекрасно обойтись. Он ходит в передовиках, его недавно снимал для газеты корреспондент. «На память, Насиров, подпиши, – приставал к нему наш Гоша, – я нею тараканов травить буду, над койкой повешу – ни один не пробежить».
– Мы-то для вас всегда готовим, – отвечаю я Насирову, – чем объяснить, что вам на задел так часто не хватает времени?
– Не твое дело! – бросает он и уходит.
Но мне сегодня нелегко испортить настроение.
Сменившись и поужинав, иду в носовую надстройку, к Юрке. Он в халате сидит на койке, читает Сэлинджера и явно ждет меня: на тумбочке стоит тарелка из-под супа, нетронутая котлета, кружка компота и мензурка с прозрачной жидкостью.
– Я дока расколол, – говорит Юрка. – Док – старый мариман. Для поднятия, говорит, тонуса. Чистоган, медицинский.
Мы опорожнили мензурку, залили огонь холодным компотом, закусили котлетой, а после этого целый час усердно накачивали табачным дымом «мужской стационар», и я слушал историю о том, как ревнивая Баба-Яга – Романиха сживала со свету Аленушку – Маринку.
Жалость, гнев, обида, жажда борьбы за справедливость клокотали и пенились во мне, когда я покинул лазарет и вышел под черное, в проколах звезд небо. На миг оно показалось мне душным бархатным колпаком, нахлобученным на пустыню палубы. Я стоял у трапа, ведущего в небо, а точнее, на верхнюю палубу носовой надстройки, еще просто стоял и смотрел, но уже понял, что сейчас поднимусь по нему, пройду под желтками плафонов узкого коридора и тихонько постучу в дверь.
– Да! Войдите! – раздалось звонкое, хотя изнутри голоса всегда звучат глухо и о них говорят «как из бочки».
И я вошел уже с невольной улыбкой, подумав: вот настоящее, человеческое.
– Добрый вечер, мой друг Том, – сказал я, может быть, с излишней нежностью.
– Здравствуйте, Сева, – просто ответила она.
Было довольно поздно, я извинился, но Тома едва уловимым движением какого-то мускула лица словно сказала: какая ерунда. Ее обычная реакция на формальность, условность.
– Был тут, внизу, у Юрки, – я не мог молчать, смущенный улыбкой, праздничностью всего ее облика. – Мы говорили… Ты знаешь, конечно… этот случай прошлой ночью… Там, в лазарете. Маринка и мой Юрка… Он столько всего мне рассказал об этом. Не могу в себя прийти…
– А я к Саше в Магадан еду, – с детским эгоизмом выпалила она. – Вот!
Господи, как светилось ее лицо, как сияли глаза, когда она протянула мне листок радиограммы.
«Жду Магадане гостинице «Центральной» люблю».
О, как ликующе гудели
Лебедки, волны, пароход,
В глазах качались мачты, стрелы.
Вертелся бочек хоровод…
«Весна» по самые мачты забита рыбой – бочками с готовой продукцией. Больше их ставить некуда. Уже несколько дней у всех на устах слово «перегруз». И вот наконец нынешней ночью, пока мы спали, плавбаза вошла в бухту Рассвет и заякорилась. Под утро меня разбудили крики и беготня матросов по палубе, резкий металлический скрежет, зычный глас старпома по спикеру:
– На корме! Крепите швартов! Так стоять будем! Выбирайте прижимной! На баке! Шевелись!
Что-то огромное навалилось на наш борт, затмило свет в иллюминаторе. Я встал, быстро умылся, нырнул в робу и вышел на палубу.
У борта стоял теплоход-перегрузчик с неожиданным названием «Оленёк». С другого борта был остров. Под сине-белыми снежными тучами, под лимонной рекой рассвета громоздились сопки – сваленные в кучу египетские пирамиды, но увеличенные в несколько раз. В глубине бухты меж сопок светлым клинышком виднелся распадок. В распадке пенилась на перекатах маленькая горная речка. Она впадала в море, и здесь, в ее устье приютились одноэтажные деревянные постройки – с десяток домиков, навесы для бочек с рыбой, крытый причал для катера-жучка и несколько барж-плашкоутов. Это была рыббаза одного из приморских комбинатов.
После завтрака объявили всем лебедчикам собраться на мостике. Впервые за три месяца я поднялся в эту морскую святыню.
В просторной – от борта до борта – и насквозь высветленной благодаря огромным лобовым стеклам рулевой рубке стояла лазаретная тишина, сияли надраенной медью и никелем приборы, рукоятки, детали. Капитан и вахтенный штурман были одеты по форме.
Я спросил, зачем вызывали лебедчиков, и вахтенный молча кивнул на дверь штурманской. Она была открыта, я вошел и увидел сидящего на диване старпома с развернутым на коленях журналом. Вблизи «страшный помощник» оказался добродушным с виду конопатым увальнем моих лет, а то и моложе. Ему по должности и традиции полагалось быть суровым, и он нахмурил лоб и строго спросил:
– Фамилия?
Я назвался. Старпом, склонив голову, как ученик, записывал в журнал, а в двери показался капитан и внимательно принялся меня разглядывать. Старпом продолжал анкетные вопросы, я отвечал, а сам, поборов смущение, тоже в упор начал изучать Шахрая. Властный, чуть ироничный взгляд, волевая нижняя челюсть, неестественно прямые, будто вздернутые плечи – он тянулся, чтобы казаться выше.
– «Весна»! Говорит «Оленек»! – рявкнула басом рация. Капитан дернулся как ужаленный и исчез за дверью. Через мгновение там что-то щелкнуло.
– «Весна» на связи! – резко выкрикнул Шахрай.
Бас тут же утратил начальственные нотки.
– А, это Геннадий Алексеевич у микрофона? Доброе утро. Говорит капитан «Оленька». Прием!
– Спите долго! – Шахрай на миг прислушался, словно ожидая эха. – Почему у вас трюма до сих пор закрыты?! У меня уже стропа с бочкой стоят! Прием!
«Оленек» начал оправдываться, но тут в штурманскую вошли лебедчики, и увалень старпом встал с дивана, кашлянул, нагоняя на себя суровость, и словно продиктовал, как учитель классу;
– Шкентеля не рвать! Больше шестнадцати бочек на стропе не поднимать! Гав не ловить! Расписывайтесь!
Он отодвинул, на край штурманского стола журнал, и мы, торопливо, передавая друг другу шариковый карандаш, расписались за технику безопасности. Я вспомнил первый день на «Весне» и подумал; такая уж здесь традиция. Но тут же понял разницу; Романиха инструктировала новичков, старпом – специалистов.
Перегруз намечено было вести сразу на три точки, то есть из трех наших трюмов в три трюма перегрузчика. Одновременно нужны были, выходит, шесть лебедчиков. Расставляя нас по трюмам, старпом записывал в журнал: Байрамов А. – «Весна» IV, Волнов В. – «Оленек» III. Я обрадовался «Оленьку», потому что хотел попробовать электрические лебедки. Так значит, третий трюм «Оленька», повторил я про себя. Отлично. Он напротив четвертого нашего, и я буду работать в паре с Алимуратом Байрамовым, асом лебедчиком. Это прекрасно!
Старпом продолжал записывать: «Весна» III – «Оленек» II… Каллиграфический школьный почерк у такого морского слона… И вдруг – я едва не подпрыгнул – он написал «Оленек» и вернулся карандашом назад, чтобы уверенно поставить две продолговатые упрямые точки над «ё». Его веснушки-конопушки засветились изнутри, так мне показалось в тот момент. И я вспомнил, что мне рассказывали про старпома. Говорили, что Романиха кричала на него «тюлень», а Шахрай называл Димой, уважал и даже побаивался.
Зыбь в бухте как будто небольшая, но «Оленька» с его пустыми трюмами раскачивает, как пластмассового утенка. Его мачты и стрелы, ни на миг не останавливаясь, скользят по утреннему небу, шкентеля, соединяющие мои и Алика лебедки, надраиваются и струнно звенят, когда строп с шестнадцатью бочками (каждая – сто сорок килограммов) плывет с борта на борт. Правда, Алик мгновенно реагирует, то придерживая, то потравливая шкентель в ту самую секунду, когда вот-вот, кажется, последует страшный рывок или, наоборот, строп заденет фальшборт во время крена. И как он успевает, черт, восхищаюсь я, следить за всем сразу: за грузом, двумя своими шкентелями, двумя барабанами лебедок (чтоб не ослаб разматывающийся трос, не свернулся колышкой) и в придачу еще за моим шкентелем и стрелой, которая выписывает вензеля по небу…
– Обед! – крикнул Алик через два борта и поднял над головой скрещенные руки: крест, шабаш, кончай работу.
Я был поражен: до чего стремительно пронеслось время! Выключил лебедку, расслабился, ощутив напряжение, которого во время работы абсолютно не чувствовал, и вдруг увидел, что сопки острова заметно порыжели. Хотя чему там рыжеть? Похоже, сплошь кедровый стланик. Но, видно, скрытая жизнь есть везде и всегда.
В столовой хвост до самой двери – вся моя бригада в очереди. Выхожу снова на палубу, на корму. Кто-то сидел уже тут: на бухту капронового троса положен кусок доски, а сверху мешок из-под соли. Сажусь, закуриваю. Море ослепительно сверкает, дробя солнце тысячью зеркал. В тени, у борта, поигрывают друг с дружкой перламутрово-зеленые волны. Изредка покажется на поверхности безухая собачья морда сивуча или нерпы. Неожиданное чувство – нежность. Мне вдруг захотелось погладить по голове собаку, даже ладонь потеплела. Одна из нерп вынырнула близко-близко, я встал, перегнулся через фальшборт и успел заглянуть в черные пытливые глаза-маслины. Нерпа громко фыркнула и в страхе спешно нырнула, блеснув упитанной левиафановой спиной. Как будто я хотел ей зла!..
Обидевшись на нерпу, иду в нос, в лазарет.
– Салют героям! – Я застаю Юру в койке. – Опять с утками спишь?
Но он сегодня не расположен шутить, лежит задумчивый, невеселый, глаза – в подволок, на груди – раскрытая книжка.
– Болят? – я киваю на ноги его, – торчащие за краем одеяла.
– Нет, – и досадливая гримаса – спрашиваешь, мол, о всякой ерунде. – Эх, Севка! – вздыхает Юра и резко поднимается с подушки, садится. – Какие гады!..
– Кто?!
– Все! – Черные молнии в глазах, сверкнув, пропадают. – Не все, конечно, но… е-е-сть.
И прорычав это «есть», умолкает.
– Ну давай выкладывай! – бодро говорю я.
– Да что выкладывать? Списывают Марину. Романиха сказала помполиту, что она по пьянке за борт упала.
– Ну и что? Ты думаешь, он послушается вздорную бабу? Не верю.
– Верь не верь, а приказ уже накатали. Усек?
– А она знает? – кивнул я на переборку, за которой находился женский стационар.
– Угу, – снова помрачнел Юра и добавил: – У нее воспаление легких.
– Зайдем? – я опять показал на переборку.
Юра с готовностью встал, обнажив свои волосатые забинтованные жерди, всунув их в расплюснутые байковые тапки, влез в халат.
– Мариша, не спишь? – заглянул он в приоткрытую дверь.
Мы вошли. Маринка была одна. Она лежала на спине, закинув руки за голову, до шеи укрытая простыней.
– Как самочувствие? – спросил я.
– Да помирать не собираюсь! – в ее голосе была лихорадочная бодрость.
– Ишь, – Юра взглянул на меня, – раздухарилась наша пацанка! А ну…
Он положил ей на лоб громадную ладонь, даже не ладонь, а попросту медвежью лапу, и закачал лохматой черной башкой.
В этот момент в коридоре лазарета послышались шаги и звуки голосов. Я поспешно сказал:
– Маринка, ты умница, молодчина, держись только так и не ниже. Мы сегодня идем сражаться за тебя. К помпе.
Вошла санитарка, держа в руках судки с обедом. Белая – от крашенных перекисью волос до сапог на белых змейках. «Докова супружница», – щекотнул мое ухо Юркин шепот. Я вспомнил о своем обеде, пожелал лазаретным узникам приятного аппетита и, выходя, взглянул на Маринку еще раз и встретил теплый взгляд.
– Мне срочно за рыбой надо, – хрипел транзистор голосом Шахрая, – а перегрузчик трюма открывает три часа, тальмана ищет…
«Дневной капитанский час», – отметил я, проходя мимо приемной лазарета, где док, как всегда, курил после обеда и подслушивал «богов».
В столовой уже было пусто. Зато мне не хватило компоту: кто смел, тот два съел, гав не лови, не раскрывай коробку… За первым столом, возле раздатки, сидели камбузницы, обедали и вполголоса болтали. Проглотив борщ, я грызанул холодную котлету, губы тут же покрылись парафином.
– Девчонки! – я развернулся в их сторону. – Привет вам из лазарета.
Они разом замолкли, как по команде, испуганно воззрились на меня.
– А мы у ней вчерась были, – сказала одна из них так, точно оправдывалась, и поджала губы.
– То вчерась, – передразнил я, – а нынче у нее воспаление легких. Знаете?
Они молчали, и я подумал, что они уже все знают – и про болезнь Маринки, и про списание, и про слова Романихи.
– Выручать Маринку надо, – сказал я, – Романиха хочет ее списать за «пьянку». Кто с ней живет? Давайте сходим к помполиту.
Молчание.
– Она вот из ейной каюты, – наконец произнесла деваха, кокетничая, и ткнула пальцем в подружку.
– Ну я, – разжала та две тонкие резинки губ. – А че говорить лада?
Я разозлился.
– Вот ты запнешься за порог на камбузе да нос расшибешь, а про тебя набрешут, что ты пила и не закусывала, да еще выгонят с работы, как это тебе понравится?
Невинный овечий взгляд был мне ответом. Лишь раза два сморгнуло это «чадо», как сказал бы Юрка.
– Да, а Марина, можешь поверить мне, тебя б не бросила, утерла б нос и заступилась.
Слова мои ее не смутили. Она еще разок затяжно моргнула и задала вопрос:
– Дак када нада ити?
– После смены, конечно, – сказал я уже в тарелку, дожевывая котлету с парафином, – после ужина.
Выходя из столовой, затылком почувствовал сверляще любопытные взгляды, невольно «услыхал» мысли камбузниц: так вот он какой, Маринкин хахаль, ишь, а мы и не знали, вот потайная-то…
Боже, до чего ароматный воздух на палубе! Это после противной котлеты и камбузных запахов. Газированный воздух!
– Ну как? – Алик Байрамов уже возле своих лебедок. Донник от бочки положил на цилиндр (он горячий, под паром) и сидит перекуривает.
– Отлично! – Я щурюсь на солнце, потом гляжу в его горячие дагестанские глаза, черные, а такие добрые – по доброте голубым не уступят – и улыбка в них совершенно детская, хотя Алику тридцать лет.
– Мне что? – говорю я и тоже улыбаюсь. – Всего одним шкентелем работать – сплошной перекур. Да еще и электрическая, – я похлопываю по мятому, ржавому кожуху лебедки, – зудит себе потихоньку, никакого пара, никакого грома.
– Э-э, – морщится Алик, – не люблю электрические, – и обеими руками гладит паровой цилиндр, на котором сидит. – Старый друг!..
Гуськом к штормтрапу потянулась моя бригада.
Пора, обед кончился. Алик поднимается, достает из кармана фуфайки зеленые брезентовые рукавицы.
– По коньям?! – улыбается.
И вот снова в воздухе плывет строп за стропом. Рычажок контроллера – на себя, и все, жди, когда барабан смотает метров двадцать шкентеля, подтянет строп. Третья скорость – последняя на электролебедке, большего из нее не выжмешь. Если б еще не бросало на зыби, то и Алик бы заскучал, а так я тяну ровно, а он все время корректирует ход стропа. Наблюдать за ним, если ты знаешь что к чему, истинное наслаждение. Вот «Оленек» валко кренится к «Весне», а строп как раз проплывает над коробом рыбоприемного бункера. Стрелы судов сходятся быстрее, чем выбирает шкентель моя лебедка, а это значит, что бочки сейчас неминуемо зацепят бункер, сомнут его. Я вижу, как чуть-чуть, почти неуловимо дрогнула правая рука Алика, и строп в дюйме от короба застывает, как приземляющийся орел, пойманный в объектив и запечатленный классным фотографом. Волна зыби прошла под «Оленьком», он стремительно валится на другой борт, а строп норовит вознестись под облака, но глаз горца-охотника зорко следит за орлом, вновь чуть вздрагивают руки, короткой пулеметной очередью отзывается его лебедка, и строп-орел зависает в небе и плавно скользит вниз. Тут уже мои владения – бочки вышли на жерло трюма, я перевожу рычажок на «майна», и груз исчезает в утробе судна. Пока оттуда не послышится свист, я майнаю. А к концу смены могу уже и без свиста работать: приходят чувства дистанции, времени, рабочего ритма и что-то еще. Благодаря этому у тебя вырастают крылья, и вот уже ты способен, кажется, взмыть… Но – стоп! Если ты воспаришь, знай – вслед за чудесной способностью интуиции явится та самая небрежность, что ведет к беде. И вот что главное – угрожает она не тебе, лебедчику, а людям в трюме, твоим товарищам.
Зыбь не плещет в борт, не вздымает белые султаны, не рассыпается жемчугами, она выгибается круглой и гладкой китовой спиной, медленно ныряет под судно, то поднимая его, то опуская. Весьма нежно. Но этого хватает для того, чтобы раскачать строп в трюме, превратить его в мячик на резинке, двухтонный мячик.
– Полундра! – кричит лебедчик в трюм, когда груз на шкентеле только приближается к жерлу.
– Полундра!! – орет он, видя, что строп из-за качки пошел «гулять» от борта к борту или, еще хуже, по кругу.
– Полундра!!! – вопит лебедчик, заметив «плохую» бочку на снижающемся стропе, бочку, неустойчиво поставленную на сетку там, в трюме плавбазы, или мокрую от тузлука и выскользнувшую из своего шестнадцатирядья во время подъема.
Двухтонный мячик на резинке, не видимый тобой, мотается по трюму, норовя сбить уже стоящие там бочки, врезаться в борт, зацепить и сорвать доску обшивки или стальной трап на трюмной переборке. Смертоносный летающий мячик…
Ты стоишь наверху, на верхней палубе, а печенкой чувствуешь, как оно там, в трюме, в гулкой глубине, и гак – будто кончик твоих нервов.
Путь – катать бочки по трюмам и лишь потом становиться к лебедке – единственно верный путь, что называется, от господа бога.
Я сказал; гак – кончик твоих нервов. Это так, поуправлять им в полной мере можно только на паровых лебедках. Почему? Да просто потому, что они бесхитростнее электрических. Ты оживаешь, работая на них, руки ощущают пульс лебедки, живой трепет пара. И этот пульс, как все живое, вызывает в тебе ответный звук, взаимность. Здесь же, на электролебедке, ты – почти безучастный нажиматель кнопок: щелкнул рукояткой контроллера, и в нем защелкали десятки релюшек, контакторов, затрещали, заныли под током, одни катушки намагнитились, другие размагнитились, и вот, наконец, противно гудя, лебедка набирает скорость. Рукоятку – на «нуль», и снова трещат челюсти контроллера, клацают зубы контактов и, наконец, тормозят электромотор.
Нет, зовите меня как угодно – консерватором, мракобесом, но мои симпатии останутся там, на «Весне», на стороне живых паровых лебедок. Теперь я понял, почему не испытывал хмельной радости великана – обладателя всемогущих рук, когда работал на кране, а сразу почувствовал это, став за рычаги паровых «скорострельных» лебедок. Меж ними такая разница, как между юношеской и стариковской любовью.
Вираю пустую сетку из трюма, она застроплена одной гашей, вторым концом болтается, и поэтому приходится поднимать ее под самый блок. Алик в это время набивает, то есть выбирает, натягивает свои шкентеля. Я слежу. Как только исчезает слабина, перевожу рукоятку на «майна», на третью скорость, и для меня на полминуты, пока сетка доплывает до Аликиного блока, наступает перекур.
С утра островной катер-жучок пошел в Магадан. Он подходил к борту «Весны» и взял пассажиров, в том числе и Тому. Отсюда пять часов ходу до бухты Нагаева. Так что они уже встретились. Понятно, я ревную к Сашке, завидую ему. Но это – так, без всяких.
Сетка нырнула в трюм плавбазы. Стопорю лебедку и успеваю додумать свою мысль: молодец, Томка, дождалась своего счастья.
Еще до ужина я заглянул на минуту в лазарет. У Юры сидел усатый матрос-лебедчик, который заменил его на вахте и которого, в свою очередь, заменил я.
На тумбочке лежали луковицы и яблоки. Это усатый получил с материка ко дню рождения.
– Садись! – широким жестом пригласил именинник. – Скажи хоть, как мои лебедушки там без меня?
– Спасибо, хлопцы, по не могу; к помпе сейчас идти. Он знает, – я кивнул на Юру.
– Ага! – подхватился он, захлестывая пояс халата. – Я тоже с вами гребу туда.
– Куда? – я увидел, что повязка у него осталась лишь на правой ноге, а на икре левой бугрились красно-синие пересекающиеся шрамы. – Людей пугать. Лежи, успеешь еще, без тебя пока справимся. Скажи лучше, где доктор?
– А только вот слышали! – кивнул он на усача, словно призывая его в свидетели. – Вот сейчас с супружницей в коридоре аукался.
– Точно, минут пять тому, – подтвердил усатый. – А ты лежи, лежи, наскачешься еще, какие твои года…
Юрка послушно расслабился, снова сел на койку и порекомендовал, будто для собственного успокоения:
– Док – старый мариман, он пойдет, пойдет, – и мотнул черной шевелюрой на переборку, на «женский стационар», – за нее пойдет. Она девка что надо!..
В столовой я подсел к матросам, изложил план похода, и двое без всяких уговоров согласились идти защищать повариху, которая пользовалась, надо сказать, самой бескорыстной любовью у экипажа «Весны» – за вкусный харч, за то, что была свой парень.







