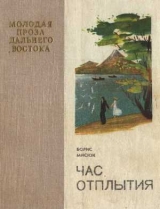
Текст книги "Час отплытия"
Автор книги: Борис Мисюк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц)
Узкая боковушка за кассами напоминала траншею: справа высилась глухая стена, слева, под самый потолок, простиралась коричневая штора, отделяющая кассы, а в глубине, у глухого простенка, стоял, как нездешний, залитый синими чернилами канцелярский стол, на нем – молочная бутылка и веер грязных бумаг на скрепке. Безжалостные лампы дневного света наголо высвечивали траншею. Суета и гул вокзала казались отсюда инопланетными. На лавке сидела женщина в черной шинели и простых сапогах. Облокотившись на стол, она спала. Из-под черной ушанки видна была уходящая в воротник шинели коса – мягкие рыжие волосы с проседью. Она устала от поездов, пассажиров и этого неуютного, больничного света. Воинственно влетев сюда. Севка теперь топтался на месте, смотрел на дежурную и добрел лицом. Потом повернулся и на цыпочках пошел к двери.
– Чё ты хотел? – догнал у выхода ее голос.
Голос был теплый. Он напомнил мать. Севка забыл из-за этого, зачем пришел, и мгновение медлил, не оборачиваясь. Потом подошел к столу и еще с минуту не мог рта раскрыть; глаза у женщины были светло-голубые…
…Солнце в лужах, куча умытого щебня (с год как завезли для ремонта двора), однорукий клен – вторую сломало бурей, воробьи орут в кроне, голубое после дождя небо, запах озона, невольно заставляющий раздувать ноздри. Радость скорого полета полнит грудь. Мама. Голубоглазая, простоволосая. Лучики у глаз в последний момент сливаются в горькие складки – мама плачет…
– Чё тебе, паренек?
Будто раздвинулись шторы и стены, мертвый неоновый свет ожил, стал солнечным…
Через три часа дежурная с Севкой-хвостом металась по перрону от одного вагона к другому, уговаривая проводников, ругаясь, упрашивая, чуть не плача. Бесполезно. Закончилась чемоданная суетня, «одна минута до отправления» была объявлена, как показалось Севке, час назад, тормоза пассажирского зашипели. Женщина в сердцах махнула рукой, но вдруг рванулась к мужчине в железнодорожном кителе, едва не обняв его. Это был начальник поезда.
– Миленький, родненький, – запричитала она, держа его за рукав кителя, – возьми сынка! Христом прошу, подвези. Ему всего-то до Георгиу-Деж…
Поезд шевельнулся, тихо звякнув сцеплением, и пошел. Севка стоял на подножке, рядом с начальником поезда, держал под мышкой завернутый в газету полусъеденный батон и едва не ревел.
А дежурная стояла на перроне, поправляла рыжую прядь, выбившуюся из-под черной шапки, и улыбалась ему.
Вагон оказался купейным. В нем были места, но проводник велел сидеть на откидном стуле в конце коридора. И Севка просидел так всю ночь, глядя меж раздвинутых плюшевых занавесок на небесные и земные огни.
…Севка вскочил, громко трахнув откидным стулом. Глаза блестели, табачный дым окутывал его. Рождалось стихотворение о поэте:
Мне кажется, тысячелетья
Тому назад
Он богом был на этом свете,
Пока набат
Не возвестил, что людям нужен
Совсем не бог.
И вот обходчиком он служит
Людских тревог…
На стук вышел в коридор сонный проводник и отматерил, как водится, за непорядок пассажира, к тому же еще и безбилетного, взятого за-ради Христа, что называется. Севка с видимой радостью выслушал его и щедро улыбнулся.
– Ладно, давай закурить, – снизошел проводник.
В купейном вагоне, даже в коридоре, было жарко, несмотря на двадцатиградусный мороз за окном. Севка ладонью стер со лба пот, улыбнулся, вспомнив о товарняке, где холод и крошечная розовобокая «буржуйка» заставляют быстрее течь кровь в жилах, работать остервенело и радостно.
– Ты только послушай… Как тебя зовут?.. Леша, ты только послушай, чем человек занимался до 19 лет! Лил воду, фонтанировал!..
Сгустились сумерки. И звезды
На клумбе неба расцвели.
Благоухает медом воздух,
И льется песня с губ Земли.
И та, что в небе всех затмила.
Покинув бархатную синь.
Сошла к земле, услышав: «Милая,
Ты светишь в капельке росы?»
Глубоко презирая сейчас себя за эти стихи, Севка декламировал их все же вдохновенно, но с тонкой шаржевой издевкой над собой, что Леша непременно, по его мнению, должен был оценить. Но проводник крутнул пальцем у виска, зевнул, едва не вывернув челюсть, и сказал:
– Ты шо, кореш, чокнутый?
Севка покраснел, а проводник, почесав густую макушку, ушел к себе в служебку. Севка увидел в оконном стекле свое отражение – это был законченный портрет дурня, и они улыбнулись друг другу. В этот момент, визгнув на роликах, снова приоткрылась дверь служебки, и проводник Леша позвал:
– Ну ты, Пушкин, заходь!
До Георгиу-Деж оставалось часа два, и Севка всласть проспал их на мягкой Лешиной койке. Хотя минут десять, пока не уснул, разорванная цепь мыслей звенела и извивалась в горячем мозгу, силясь замкнуться. О боже, чего только не прошло за эти десять минут по Севкиным извилинам!
Он побывал даже в Ясной Поляне. Перед ним промелькнули картины: саженные сосны в старинном парке простирают кроны, словно крылья вечности, над сырой землей и цепочкой экскурсантов, идущих чуть заметной в зелени тропкой; они болтают, смеются, но эта суета не достигает вершин, она остается на уровне голов, стелется по траве; у могилы Льва Толстого все смолкает; Севка поднял с земли несколько желудей и, вернувшись домой, посадил их под окном.
И уже совсем засыпая под мягкую музыку колес пассажирского (колеса товарняка в сравнении с ней – негритянский джаз), Севка успел подумать, что комфорт, при всех его минусах, обладает замечательной способностью освобождать мысль для полета.
В Георгиу-Деж пассажирский прибыл на рассвете. Часа через два под мартовским солнцем закапало с крыш, запахло огурцами и молоком – так разложил Севка весенний аромат на составные. А воробьи посходили с ума и подняли такой галдеж и возню на проводах и крыше киоска, что Севка едва не оглох. В это самое время прибыл с грохотом и лязгом коричневый, мокрый от росы поезд, в центре которого лучились незабвенные цифры 840–11438.
Максимыч обнял Севку, деранул щетиной его гладко выбритые (еще в Пензе) щеки и пошел молоть на своем белорусско-украинском:
– Георгиу-Деж… Я вже еду й гадаю: Георгиу-Деж – де ж це мой дорогой Сева запропав? Как ото ёму догонять мене из триклятой Пензы, черты б ея загребли? Дивлюся: раз зостанавлюемся – час стоим, другой раз – знов час, а табе нема й нема…
Севка сидел на нарах и сладко курил. Вагон, оказывается, влез прямо в его сердце, без спроса, со всеми потрохами: громом колес, шорохом ерзающих в клетке ящиков, подслеповатым окошком-форточкой, «буржуйкой», запахом угля, который пропитал всю «каюту», полупустой бочкой, где слышно плещется вода, невольно напоминая о том, что под свитером Севки – тельняшка. Севка уже решил: по возвращении во Владивосток он идет морячить на СРТ, на средний рыболовный траулер, в 9–10-месячный рейс.
– Взавтра будем в Ирмино, Сева. – Старик обвел «каюту» грустно-веселым взглядом: лавка, закрома, дверь, доски крепления, даже сам теплый воздух вагона – все было делом их рук. – Взавтра разломають увесь наш колхоз, здадим усе тыщу чотыреста семьдесят четыре ящика и – домой, до хаты.
Севка кивнул, подумав: «Вот и Максимыч теперь тут же, в сердце».
Севка не выспался в пассажирском и теперь быстро заснул, вытянувшись на холодном картоне нар. Максимыч подоткнул под его бока одеяло и, взнуздав уши веревками очкор, взялся за пензенские газеты. Там писали про пиво, производство которого надо увеличить за счет сокращения выпуска водки, про мир во Вьетнаме и меры ООН по охране природы. Газеты всегда очень развлекали Максимыча, но сейчас он почему-то остался равнодушным и загрустил.
Часов в шесть вечера (было еще светло) поезд затормозил на станции Переездное. Севка спал, как пахарь после работы, и не слышал разговора Максимыча с рабочими-вагонниками. Старик сначала справился, что за станция, долго ли стоять. Потом опустился на землю, увидел меж вагонов речку и пролез под сцеплением на другую сторону состава, чтобы всласть полюбоваться раскованным по весне Донцом.
Он стоял на теплой украинской земле, с удовольствием втягивал носом ее ласковый запах, смотрел, как закатные солнечные блики от воды скользят по противоположному отлогому склону берега, и ему чудилось воркующее журчание речки. Кудрявый лес рос на том берегу, а в лесу стояла красивая зеленая беседка. Старик думал о том, что хорошо бы продать хату «ув Арсеньеве» и поселиться здесь в теплом краю с тучной землей, где «дуб растеть», с близкой речкой и станцией. Он уже стал было расспрашивать пожилого рабочего, почем тут коровы и хаты. А один молодой, черноголовый сказал вдруг, что в Донце совсем нету рыбы, и Максимыч расстроился.
Окончательно нарушив буколику грохотом, на соседний путь прибыл встречный товарняк. Шагов за двадцать от Максимыча остановилась платформа, груженная какими-то ящиками. Старик подошел и любопытствующим хозяйским оком оглядел клейма на них. Они стояли на платформе в два ряда, и один ящик с внутренней стороны был взломан. В проломе видна была бумага – промасленная вощанка. Максимыч подобрал брошенный вагонниками стальной шкворень и, поднявшись на цыпочки, шевельнул бумагу в проломе. Круглый раструб мясорубки блеснул матовым серебром.
Там, в далеком Арсеньеве, был большой спрос на мясорубки, угодившие почему-то в дефицит. Даже в доброй, хозяйственной хате Максимыча мясорубка была уже так ветха и разболтана, что котлеты приходилось домалывать зубами. Глаза старика на миг зажглись, но он лишь сглотнул слюну и подумал: «Не, державное добро ня наше. Була б кругом отакая зямля, а мясо з мясорубкою нарастуть. В онуков зубки молоденьки, а нам з старухою вже небогато треба…» И вслух проворчал: «Треба ня треба, а так собе дорожче…»
В этот момент остро зашипели тормоза его состава, и Максимыч ринулся в просвет сцепления. Сердце-воробей угомонилось только в вагоне. А состав еще с полчаса проторчал на Переездном. И Максимыч снова сполз по трапу и походил по жирной, богатющей земле, проводил солнышко, утонувшее в верховьях Донца, поразмыслил о том, что «добре було б на отакий зямле сробить хату, а коло хаты – ставок з рыбкой та садок вишневый…»
Когда наконец поезд тронулся, Максимыч подшуровал печку, забрался на нары, бережно перенеся к стенке Севкины ноги в башмаках, и до полночи не спал, соображая, отчего ж это так всю жизнь: зубы были – мяса не было, мясо есть – зубов не стало. «Не, – решил старик, уже зарываясь в черную пашню сна, – нема того человека чи бога, шо б усем по зубам и мясо давав, а по розуму – силу, нема, и усе тут. И будем горевать…»
А поезд натужно пер в гору, последнюю гору перед станцией назначения. Севка съехал на край лежанки, рука свесилась, и он проснулся.
Раскаленный уголек провалился сквозь колосники в поддувало и озарил «каюту». Перед глазами на картоне пульсировали две черные строчки какой-то давнишней записи. Сколько начатых и незаконченных стихотворений только вот здесь, на нарах, подумал Севка, сколько мелькнувших и тут же, как этот уголек, угасших мыслей, недодуманных, незавершенных. Жить вполсилы, черт-те чем заниматься (кем работал? Пожарником. Жуть!) – и это на пороге двадцатилетия… Сладко слышать, когда тебя называют поэтом, но если это незаслуженно…
И если эта устремленность вызвана всего лишь на-всего едким и вкрадчивым голоском тщеславия, который жжет и поддразнивает и тычет тебя носом в самые таинственные и тщательно упрятанные уголки твоей души, где копошится то, чего ты сам страшишься и осуждаешь и хотел бы выдавить из себя? Можно же, наверное, быть «скобарём» и в литературе?
Стало быть, надо себя ломать и чистить, вышелушивать из себя плебейскую мелочь, обосновывая в себе крупные начала, чтобы иметь право носить звание не только человека, но и поэта, в чьих словах – совесть народная.
Резко тряхнуло на стыке. Словно целая комета рассыпалась в поддувале. «Жить с напряженьем и праздником в сердце», – успел прочитать Севка строчки на «подушке». Он найдет настоящее дело, будет работать в полную силу, чтобы затем и слово его обрело мощь, необходимую для одоления цели. А цель стоящая – научиться поэтическим словом корчевать в дремучих душах замшелые пни, сеять в них добро и красоту.
А талант? С этим сложнее. Говорят: или его нет, или он есть. Может статься и так, что его нет или он замешен чем-то другим, не тем, и нет в тебе «искры божьей». И будешь ты тогда в стране Поэзии только приобщенным… Невеселая перспективочка!
Но молодость берет свое. А Севка был молод и многого еще не знал о себе и о молодости. Где-то подспудно все уже было решено, все уже созрело и уже был лишним этот робкий и бережный к себе опыт самоанализа.
Как знать, может быть, на исходе этого незамысловатого путешествия он обрел себя, открыл в себе еще одну грань, которой суждено было стать главной во всей его жизни?
Севка снова ушел в сновидения…
– Вставай! Вставай, Сева! – теребит за плечо Максимыч. – Вставай, милай, щас повязуть вже до места.
Севка свесил ноги с нар, разогнул замерзшую спину. И вдруг резко, напугав Максимыча, кинулся шарить в головах, нашел карандаш и быстро-быстро начал записывать…
Дорасти до детства
Тридцать лет – это возраст вершины,
Тридцать лет – это время дерзаний,
Тридцать лет – это время ошибок.
За которые нет наказаний…
Ю. Кукин


Саша поет, перебирая струны гитары с потемневшей, в царапинах и трещинах декой.
Саша ходит на судах-рефрижераторах за тихоокеанской треской и сельдью, минтаем и скумбрией. Раньше жил «на западе» (так называют дальневосточники всю европейскую часть Союза), работал на. Черном море.
– Я больше был в рейсах, чем на берегу, – говорит он, кладя гитару на подоконник. – Черное море, ясно, не океан, но там снуешь, как челнок, по расписанию. Крымско-Кавказская линия, или, как ее одесситы прозвали, – «крымско-колымская», – ни в море, считай, ни дома. – Вот я взял отпуск за два года и – ну, говорю себе, путешествовать будем! Друзей моих раскидало после мореходки по всем морям-портам… Короче, побывал в Ленинграде (с Аничкова моста часа три не сходил), в Мурманске северное сияние посмотрел, бродил с парнями по знаменитой Соломбале в Архангельске, слушал концерты Магомаева и Кристалинской в Москве. Сам написал две песни, – Саша, пряча смущение, кивнул гитаре, как другу, – это уже по пути сюда, на Дальний, на Камчатку. Отличный парняга в Петропавловске живет. Чуть не остался у него… Короче, только здесь, во Владивостоке, остановился – понял, что излечился наконец от тоски по Афалине…
Он замолк.
– А кто это? – не удержался я.
– Первая моя любовь, – Саша сказал это светло, и все же чувствовалось – тяжелый вздох, подавленный и готовый вырваться, засел в его груди. – Потом когда-нибудь расскажу… Может быть… Короче, я на Черном ведь из-за нее остался, меня там больше ничего не держало. Вот так… Ну, а здесь уже вдохнул океан, увидел, как туман валами ходит по сопкам, сам по ним полазил – да и возвращаться не стал…
* * *
Уже вечерело, а я спал от безделья, когда Саша вернулся из «конторы», как называл он управление рефрижераторного флота. В отделе кадров пусто, резерва никакого, и потому ему дали лишь десять дней отгулов. А он второй год без отпуска. Пришел чуточку выпивши, в глазах – покорность, и принес большую бутылку портвейна, завернутую в газету.
– Вставай, Сумитомо, – невесело сказал он, придумав мне прозвище по названию популярной здесь марки японского подъемного крана, потому что вчера, когда мы знакомились, я назвался крановщиком. – Вставай, мой друг Сумитомо, сейчас «гудеть» будем, плясать будем, а смерть придет – помирать будем. Вставай. Нельзя спать на закате… Так мама моя говорила…
Саша совсем не похож на суровых рыбаков, живущих в межрейсовой гостинице. Наверное, океан не успел еще просолить его так, как их. Лицо Саши отливает более светлой бронзой. Такие лица бывают у спортсменов. Молодость и мужество нивелируют возраст, и восемнадцатилетнего уже не назовешь мальчишкой, а в двадцать восемь он еще молод для «дяди».
Я поднялся. В окне царил печальный, особенный, дальневосточный закат. Закаты здесь – совершенно космических спектров. И только черные пятна туч над ними да огни по сопкам говорят, что ты на Земле.
Мы выпили портвейну, закурили, и Саша стал рассказывать о своей жизни «на западе», о том, как в школе смеялись над его детской привычкой писать букву «ё» непременно с точками, тогда как обычно все перестают это делать еще в начальных классах. Он же упорно ставил точки, и его стали считать дурачком.
Может быть, именно благодаря этому Саша ушел после восьмого класса в мореходное училище.
– Однажды Афалина… – он уронил голову в ладони, – мы сидели с ней за одной партой. – Он взглянул на меня, но тут же, словно боясь пропустить новые кадры на экране, уперся взглядом в лиловеющий квадрат окна. – Мы писали диктант: «Перепёлка вьётся над ручьём, в чёрно-зелёных вётлах щёлкает соловей». Слово в слово помню… Она написала раньше меня, заглянула в мою тетрадь и – я аж покраснел, думал, нашла ошибку, – быстро поставила две точки над «соловьем». И засмеялась… Нет, даже не засмеялась, а улыбнулась…
За окном ночь уже мерцает россыпями далеких точек-светляков. Это ожили сопки на другом берегу залива. А беззвездное небо кажется залитым густыми «чернилами» вспугнутого гигантского кальмара. Саша продолжал:
– Всю жизнь я ставил над «ё» точки. – Он откинулся на спинку стула и скептически хмыкнул, словно насмехаясь над собой. – И вот до двадцати шести своих не знал, не ведал, что тут, на другом конце света, тоже есть одна живая душа…
Мы допили вино, и Саша потянулся за гитарой. С минуту тренькал, настраивая. Потом заиграл мелодию, напоминающую старинный задумчивый романс, – одну из тех, что слагают не композиторы, а простые люди, далекие сердцем от больших современных городов. Такие мелодии нигде еще не записаны и известны лишь гитаристам-любителям, ревниво оберегающим их от вездесущего магнитофона, как хранят в заповедниках цветы и травы от копыт и подметок.
Попробуй разберись, что нас свело,
Какой-то случай или чья-то воля.
Куда фортуна поверяет весло,
О том узнаешь, друг, ты только в море, —
пел Саша, перебирая струны.
По асфальту дождь дает леща,
Крыши звонко под дождем трещат.
Плачет, льется, хлюпает вода…
Ну, куда ж ты без плаща, куда?
Через неделю я увидел ту, которую Саша назвал «живой душой».
Я вошел без стука.
За столом, опустив голову, сидела девочка – черный бант в светло-русых волосах, широкие, но все равно беззащитные, детские плечи. Она посмотрела на меня. Я назвал свое имя.
– Тома, – ответила она так, словно мы были знакомы сто лет, и протянула мне ладошку.
Я предложил зажечь свет. Она нехотя согласилась. Зажмурившись, она смущенно улыбалась.
Я мог бы долго смотреть на нее. Бывают такие удивительные лица – в них есть что-то неуловимо родное. И глаза…
– Закат-то какой неземной… Может, выключим свет? – говорю я.
– Включим-выключим, идем-сидим, любим-не любим, – раздался сердитый голосок. – Все вы такие!
Я спросил;
– Саша, а сколько лет этому сердитому ребенку?
Мне показалось – пятнадцать. Показалось. Это я понимал и ожидал услышать что-нибудь вроде: «Да уже семнадцать стукнуло». Саша открыл рот, но, как в кинокомедии, слова зазвучали с другой стороны:
– Двадцать пять!
В голосе был вызов, детский, отчаянный.
– А язык. Тома, вы тоже умеете показывать?
– Она «заводная», – с улыбкой предупредил Саша, – может и глаза выцарапать.
– Могу! – уже не на шутку зло парировала Тома. – Твои! Лживые! Змеиные! Предательские!..
Она в упор смотрела в растерянные глаза Саши. В ее резкости чувствовались уже созревшие слезы. Сашу – теперь мне было ясно – она любила той удивительной, самоотверженной любовью, которая редко бывает взаимной.
Мне хотелось немедленно сделать что-нибудь приятное ей, и я поймал себя на том, что злюсь на Сашу вместе с ней, злюсь на пшеничный пласт его спортивной прически, на гитару, – которую он взял зачем-то в руки, на зеленые глаза, ставшие сейчас грустными и далекими, злюсь за то, что он любит какую-то мистическую Афалину и не может этого скрыть.
– В Москве, Тома, есть девушка, – нарушил я тяжелое молчание, – она чем-то похожа на вас. Она…
Мне было очень грустно возвращать к жизни тот теперь бесконечно далекий февральский вечер в нашей комнатке на Таганке, когда потолок, казалось, придавил нас черным сводом – тысячей причин, приведших к разлуке, причин, наполовину от нас не зависящих.
Я подошел к окну. Закат уже погас, и темные деревья в сквере зашумели, заволновались под ночным ветром.
Саша стоял, опершись на гриф гитары, как на шпагу или трость. Тома сидела и, полуобернувшись ко мне, напряженно ждала продолжения.
– Она… была моей женой, – сказал я и вдруг ни с того ни с сего продекламировал: – И до тех пор, пока ты не пройдешь через это, – умри и стань!..
– …ты только печальный гость на темной земле, – в унисон продолжила Тома не поднимая глаз.
Скрыв удивление (эти стихи Гёте редко кто знает), я спросил:
– Вы, Тома, студентка?
Молчание.
– Простите меня за любопытство, где вы занимаетесь?
– Я работаю. На пароходе! Уборщицей!
«Это правда?» – взглядом спросил я у Саши. И он кивком подтвердил: «Правда». Потом шумно и очень красноречиво вздохнул, точно сказал «надоело это все», и бросил гитару на койку.
– Ну и что ж вы не договариваете? – быстро сказала Тома, демонстративно отвернувшись от Саши. Нервная улыбка не портила ее лица. – Вы разлюбили или она вас?
В ее тонком задиристом голоске сквозило желание причинить боль, почувствовать рядом кого-нибудь, кому так же, как ей, тяжело и больно.
Я стоял у окна, чувствуя на себе ее напряженный взгляд, и смотрел на первые капли, расплющенные ветром о стекло. Вот так же тогда я стоял в нашей комнате, только за окном свистела пурга.
Я непроизвольно нащупал в кармане плоский теплый ключик от комнаты на Таганке. А там, тогда, рядом с ним лежал массивный, с двойной бородкой, ключ от моей московской тюрьмы – квартиры знакомого, который укатил с женой в Крым и любезно предоставил мне крышу вместе с пухлой рукописью – я должен был ее «чуть-чуть подработать». На это у меня уходило все свободное время. А днем дома я не мог работать, потому что бывший муж Наташи регулярно наведывался туда, «чтобы не потерять прописки», да не один, а с собутыльниками. Все было страшно плохо. И было изумительно прекрасно. Мы встречались почти тайком. Оба усталые, измученные и счастливые. А потом…
Я встряхнулся и увидел: у фасада гостиницы выхваченный светом одинокого фонаря уже скакал по щербатому асфальту длинноногий дождь. И я ответил Томе словами Маяковского:
– Любовная лодка разбилась о быт.
– А почему вы не боролись с ним? – она словно ждала моего голоса, чтобы задать уже готовый вопрос.
– Устал бороться, Тома, – сознался я и посмотрел в ее раскосые глаза. Но они тут же перепрыгнули на Сашу.
– Бабы вы оба! – выпалила Тома.
Саша улыбнулся, но не ей, а своим, далеким мыслям и отчасти мне, словно извиняясь за ее выходки.
– Неправда, Тома. – Я отошел от окна и остановился у стола, рядом с ней. – Просто строить трудней именно свое, чем…
– Вы Иисус Христос, да? – глядя на свои пальцы, теребящие скатерть, бросила она.
– Нет, – мягко возразил я, – думаю, еще…
– А этот Иудушка, – она кивнула в сторону Саши, который по-прежнему грустно смотрел на мокрое черное стекло, – он… спит со мной, а любит другую!!!
Последнее слово она выкрикнула уже вместе с прорвавшимся рыданием, но в нем прозвучали и незаурядный по силе гнев, и страшная, незаслуженная обида.
– Тома! – Саша выпрямился.
А девушка, судорожно прижав кулачки к щекам, вскочила, метнулась к двери.
Убежала, умчалась…
Саша снял с вешалки плащ и, не справившись с ним до конца, сорвался с места и тоже исчез за дверью.
Пусто и даже как-то звонко стало в нашей комнате – ни голосов, ни взглядов, ни запахов. Словно задернули занавес и включили свет в театре. И только за окном, как за кулисами, лопотал дождь да мурлыкал, замирая, мотор случайной машины.








