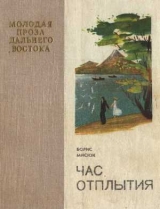
Текст книги "Час отплытия"
Автор книги: Борис Мисюк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)
Меня как током пронзило. Дорасти до детства… Да ведь совсем недавно, на «Весне», и я думал о том же, почти теми же словами!..
Лет шестьдесят назад Александр Грин писал о «детских пламенных» глазах женщин… И увидел он их такими в городах грез – в Гель-Гью, в Зурбагане. И пройдитесь сейчас по городу, любому из городов – по Москве, Риму, Владивостоку или Сан-Франциско, и поймете, как безумные скорости нашего века, дела, заботы, суета глубокими бороздами ложатся на лица, гасят пламя в «детских пламенных» глазах женщин. И мужчин, разумеется, тоже. Почитайте современных поэтов – все, во всяком случае настоящие, утверждают чистоту помыслов, сожалеют об утраченном умении удивляться, мечтают, короче говоря, дорасти до собственного детства…
…Сашка ставит в остывший чайник третью бутылку шампанского. Но в комнате уже почти тепло, мы обжили ее.
Вдруг я неожиданно для себя воскликнул:
– Идея! А ну-ка, Саня, продиктуй-ка Маринке свой диктант.
Маринка сделала кругло-удивленные глаза.
– Перепёлка вьётся над ручьём… – диктует Сашка. Мы с Томкой заглядываем Марине под руку.
– Стоп! – кричу я. – Хватит! – и чмокаю Маринку в щеку.
Она ничего не понимает, но смеется вместе с нами. Трижды, исправно расставлены над «ё» продолговатые точки, мы тычем в них пальцами и закатываемся:
– Сво-о-ой, свой парень!..
До позднего вечера мы веселимся в гостинице. Наши пальто давно сняты и свалены на койке. Мы пляшем под гитару и слушаем Сашкины песни, которые он привез с моря. Мы говорим о родстве, о братстве тех, кто ставит точки над «ё», о том, что должна существовать особая телепатия, что ли, у таких людей. И я рассказываю, как Тома спасла меня «из-под бочки со стропа», когда я подыхал, переживая свое «умри и стань».
– Умирать легче, – завожу я излюбленную свою пластинку, – ей-богу, ребята, легче, чем оживать! Воскресаешь в судорогах, в муках, почти родовых. А умереть… Вот у Астафьева… «Пастух и пастушка» читали? «Успение» помните? Герой просто погас, как лампада с выгоревшим маслом, с улыбкой умер…
– А я верю, – в наступившем молчании звучит упрямый голос Томы, – верю в то, что наступит век новой революции в науках, – кажется, ей не хватает воздуха, – и родится много-премного гениев – писателей, музыкантов, ученых, правителей. Да! – глаза ее вспыхивают. – Эта эра Нового Открытия будет в миллион раз талантливей и прекрасней нашей эры! Это будет Открытие… не атомов, не дробления мира, а… наоборот! …слияния! …синтеза!
«Боже, что за глаза у нее», – успел подумать я.
– Откроют, например… – и она обводит нас взглядом, точно соединяя, и выпаливает: – Синтез душ!
В этот краткий миг я все же успел войти в контакт с ее взглядом и понял сейчас, что слова «синтез душ» пришли к ней в самую последнюю секунду, может быть, как раз в ту, когда ее глаза на миг встретились с моими.
1973–1975
Час отплытия
Сыну Виктору

I

Маленькие гладкие волны, играя под пасмурным неподвижным небом матовыми бликами, казалось, неслись куда-то с бешеной скоростью. Витька-Витос завороженно смотрел на них и размышлял: если можно себе представить такие странности, как ожившие вдруг бриллианты, изумруды и всякие другие драгоценные камни, их бег и стремительные прыжки, – это и будет море, волны морские – в разное время дня, года, на разных широтах…
Но тут мысли его совершали крутой, неожиданный поворот. Это часто бывает, когда смотришь на море. А особенно, если тебе предстоит решить для себя что-то важное.
Решил – сделал. Вот так жить надо. Так теперь и будет. Все! Заметано, как боцман говорит. А то ведь три года (и враз загорелись уши) думал-раздумывал, ехать к отцу или нет, «решал»… Мамкино любимое слово. «Летом уезжаем, Витька. Совсем, слышишь! Я решила: к тете во Львов». Назавтра уже это решение забыто и вместо переезда намечается отпуск на Рижском взморье. Затем взамен отпуска планируются шубы, костюмы, какие-то гарнитуры, «как у Любарских», а отпуск – решено – на следующий год проводится в лесу под Харьковом: ягоды, грибы, цветы и, главное, воздух…
Витос глядел на белые скалы чукотского залива Креста, на серебристую равнину тундры с далекими голубыми холмами и думал: главное воздух, а здесь он холодный и вкусный, как студень, его можно резать ножиком и есть, глотать кусками. А грибы и ягодки-цветочки от меня не уйдут. Надо так и написать мамке. И про эту гору, похожую очертаниями на лежащего моржа. Отец сказал, она называется Линглингэй. А это еще ничего. Тутошные названия вообще звучат не шибко музыкально: гыр-гвын-ткын. Письмо передам с отцом, и дней через десять-двенадцать, когда плавбаза «Удача» придет в Находку, оно полетит на запад, к мамке. И она поймет, почему я остался тут, а заодно перестанет, может быть, ревновать к отцу… Он говорит: «На траулере работа гораздо тяжелей». А я и хочу тяжелей. Я решил. Надо проверить себя до упора.
Витос хмыкнул, тряхнул головой, улыбнулся: батино словечко. Он сидел на рострах (это такая надстройка для лебедок), оседлав мешок с солью, и выполнял ответственное задание боцмана – делал гашу, то есть петлю на конце стального троса. И по привычке «беседовал» с матерью.
Этот тросик, мамочка, толщиной почти что в руку, и чтоб его согнуть, надо хорошо пообедать.
Витос неловко орудовал свайкой – железным Г-образным шкворнем, втискивал его острием между упругих прядей троса, раздвигая их, и в желобок свайки, в щель проталкивал свободные концы прядей, встопорщенные и колючие, неподдающиеся. Витос-матрос учился такелажному делу. Нехитрый инструмент свайка вот уже третий раз срывается, вспрыгивает из рукавиц, воробьем вылетает, когда спружинит трос. Ищи ее потом под лебедками, среди соли, мешков, железа. За два месяца руки Витоса из бледных щупальцев – так сказал отец – превратились в руки мужчины. Порезы, ссадины, мозоли, не знающие зеленки и вазелина, до локтей усеяли их, кожа зашершавилась, потрескалась и потемнела…
Солнце шло с залива и, как межпланетный корабль на посадку, заходило на белое поле тундры, обрызгав щербатые зубы скал и купола холмов разведенным вишневым соком. Отец как-то угощал его таким соком. Вместо витаминов, говорил. Витамины в море и в этих краях – дефицит. Витос частенько видел, как в матросской столовой во время обеда многие достают из карманов то луковицу, то чесночину и делятся только с самыми близкими товарищами, с друзьями. Отец как-то тоже сунул ему в карман робы целую пригоршню чеснока, но Витос не стал его есть, а раздал матросам и плотнику дяде Грине, с которым обедал за одним столом. Стол отца был сзади, за спиной Витоса, и парень часто ощущал на себе взгляд отца. В тот раз он тоже почувствовал, как грустные глаза внимательно смотрят в его измазанный мазутом затылок (коснулся троса, пролезая под лебедкой), и торопливо, точно черт дернул за руку, достал чеснок и демонстративно высыпал на стол. Дядя Гриня взял головку последним, отщипнул зубок и оказал:
– Спрячь, тут этим делом сорить не надо, грызи поманеньку и не будешь зубами маяться. Он от зубов крепко помогает.
– А я не люблю чеснок, – громко ответил Витос. – Он вонючий.
– Шо с земли, Витя, то не воняет, то пахнет, – возразил плотник.
– Эт, Гриня, точняк! – отозвался боцман из-за батиного стола. – Вонь, она от человечков идеть.
Почему взрослые (в свои восемнадцать он по детской привычке делил мир на взрослых и себя), почему они так часто ругаются между собой? Человечков – это такая странная фамилия у старпома. Боцман схватился с ним в полседьмого утра, когда матросы в ожидании завтрака перекуривали у дверей столовой. Их подняли в пять на отшвартовку судна-перегрузчика, и вот, закончив работу с тяжелыми, мокрыми швартовами на промороженной палубе, они отогревались и мирно беседовали в коридоре, светлом, теплом, ужасно уютном после обжигающего ветра. Старпом, совершая, как обычно, утренний обход, остановился возле боцмана и молча указал пальцем в белой вязаной перчатке на мусорные бачки. Они еще с вечера, видно, были полны с горой. На бумагах и хлебных огрызках окурки уже не держались и падали на затоптанный, потертый пластик палубы, когда-то зеленый, а теперь бесцветный. Белый палец старпома смотрел как раз на эти белые окурки. За бачками обязана следить уборщица, но сегодня она, наверное, проспала.
– Вынести! – чуть сузил красивые глаза Эдуард Эдуардович, видя, что боцман не хочет замечать его протянутого пальца. Сказал и сделал было шаг прочь.
– Матросы у меня все при деле, – ответствовал боцман, – а коли уборщицы не желають работать, нехай за них работають ихние хахали.
Сказано это было с прямым и коротким, как боцманский нож, намеком: про то, что старпом вокруг Лизки «круги вьет», знали все. Эдуард Эдуардович на миг застыл (даже вроде воздух в коридоре сжался и волной отразился от широких плеч старпома), но, не обернувшись, зашагал дальше – тень его то растягивалась, то сбегалась под редкой цепью коридорных плафонов. Матросы, выдержав каменную, напускную тупость на медных лицах, заулыбались, когда прямая, высокая фигура старпома исчезла за дальним поворотом коридора. А дядя Антон, старый рыбак, дорабатывающий на базе последние до пенсии годы, нежно прикрыл ладонью серебристую с прозеленью бороду, похожую на пучок морской травы, и с всегдашним шебутным выражением в цыгански-лукавых глазах съязвил:
– Вот кому не спится в ночь глухую!..
Пацан-хулиган, подумал про него Витос, не в первый раз уже поражаясь этому седому бесшабашному человеку, большую половину немалых лет своих прожившему в море, бездомному и бездумно легкому на подъем: пароходы и рыбачьи «конторы», по собственному его выражению, дядя Антон менял чаще, чем робу.
– О! Он и на помин легкий… Витос улыбнулся, заметив спускающегося с мостика дядю Антона, который отстоял свою дневную четырехчасовую вахту и следовал полным ходом в столовую команды на заслуженный чай.
Проходя мимо ростров, он поднимет шапку, блеснув густым серебром полубокса, и крикнет: «Привет племяшу!», а минуя камбуз, обязательно ущипнет кокшу Жанку, отпустит что-нибудь стыдное насчет «филейной части» и в ответ получит неизменное: «Старый хрен! Жизнь прожил – ума не нажил». Три-четыре часа между чаем и ужином Антон Богданович проиграет в «козла» за журнальным столиком в красном уголке, после ужина посмотрит кинофильм в столовой, часто по третьему и четвертому разу, особенно если кинокомедия. До ночной вахты останется один час, и он его проспит или «протравит» в каюте с мужиками. С ноля до четырех утра – опять рулевая рубка, ходовая вахта у штурвала, а если база в дрейфе или на якоре, то просто у телефона, изредка звонящего по всяким служебным надобностям из цеха или машинного отделения. Скучает ночами матрос на стояночных вахтах. Днем у него обычно бывает «капитанская» приборка – тряпка, швабра и мыльный раствор в деле, да и все судовое начальство на ногах – «стой там, иди сюда», говорит дядя Антон. А ночью как-то поднялся Витос на мостик, и старый матрос так был рад этому, что целый час водил «племяша» по затемненной рубке, показывал машинный телеграф, измеритель силы ветра – анемометр, табло пожарной сигнализации с цветными огоньками в квадратиках и кружочках – каждый кружочек с номером, обозначающим каюту или другое помещение судна. Даже штурвал дал повертеть, показал шевельнувшуюся картушку гирокомпаса и пытался на пальцах объяснить принцип его работы. Витос не перебивал, хотя теорию гироскопа отлично знал из школьной физики.
Вот так ночь за ночью и пройдут для матроса 1-го класса А. Б. Герасименко последние три года так называемой трудовой деятельности, насмешливо думал Витос, покидая мостик. Чем же, интересно, он будет на пенсии заниматься? Лодочкой, удочкой, водочкой? Не-ет, нет! Я никогда таким не буду! Прожить такую жизнь – значит просто отбыть свое на земле…
– Но ты уже начал с того же, – возразил Спорщик. – Он матрос и ты матрос. Ну, а в восемнадцать лет, откуда ты знаешь, может, и ему виделись неоткрытые земли и мировые революции…
– Ох и зануда ты, спорщик, – одними губами прошептал Витос. – Хоть бы здесь, на рострах, оставил в покое…
Свайка снова сорвалась, но на этот раз не улетела, а просто описала короткую, молниеносную дугу и больно ударила по носку кирзового сапога. Гримаса, отчаянный плевок под ноги, мстительный удар по свайке – и новая гримаса боли и обиды.
Усевшись на место, верхом на мешок. Витос как с личным врагом стал расправляться с непокорной гашей. Продернув очередную прядь, он остановился, прикинул взглядом: заплетенная стальная коса показалась ему достаточно длинной. Но, чтобы убедить себя окончательно, Витос руками попробовал гашу на разрыв, точно это был бумажный шпагат, а не дюймовый стальной трос.
– Заметано! – с видимым удовольствием сказал он вслух. Отыскал под ногами зубило и бондарный молоток и только было пристроился рубить хвосты прядей, как услыхал прямо над собой:
– Да шо ж ты, голубь, надумал? Свою ж работу спортишь.
Витос застыл с поднятым в руке молотком, потом, раскрыв рот, покосился на ноги-кнехты, словно вросшие в палубу.
– От глянь, – кивнул боцман в сторону трюма, над которым поднимался тяжелый строп с дюжиной бочек. – Вот и прикинь теперь, смогеть твоя гаша выдюжить тот строп разов, к примеру, сто, а? Сдается мне, Витя, не смогеть, на десятом разе распустится, шо косичка у дивчины.
Боцман присел на корточки, голыми руками взял трос и свайку, ловко вплел по разу каждую прядь, обтянул, а потом обстучал молотком, так что не осталось ни малейших зазоров, и хотел уже делать новый стежок. Витос, завороженный неспешными, но до чего же точными, экономными движениями боцманских рук, вдруг очнулся и запротестовал:
– Василь Денисыч, я сам, давайте, я умею.
– Погляди, погляди еще, сынок.
Боцман плел в охотку, с наслаждением мастера. Трудно было оторвать взгляд от заразительной этой работы. И Витос в восхищении следил за тяжелыми, набрякшими кистями боцманских рук, споро и прямо-таки красиво работающих. И эта простая вроде работа только что коробилась в его собственных неумелых руках, позволяющих свайке откалывать цирковые номера.
– Чай пил? – Василь Денисыч поднялся и одернул всхолмившийся на пруди ватник.
Витос отрицательно помотал головой.
– Бросай. Завтра время будеть. Пойдем.
– А я не пью чай, – вырвалось у Витоса, – я компот люблю, – добавил он для натуральности. И это, в общем-то, было, правдой, но сейчас, после нескольких часов сидения на рострах, ему вдруг очень захотелось горячего чаю, да отрабатывать задний ход было не в его правилах.
Боцман спустился на палубу – уплыла вниз, колыхаясь над скоб-трапом, его каракулевая кубанка с синим верхом, перекрещенным пурпурным крестом. И Витос остался один. Он целый час еще возился с непослушной свайкой, на совесть доделывая клятую гашу. Матросская работа – все-таки отупляет, решил он, покидая ростры.
II
13 августа
Чудеса! Мое заветное, или, как пишут в старинных книгах, феральное, число опять совпало с историческими событиями в моей жизни. Кроме маленького Рени, где я родился, Львова и Харькова, где живут мамкины тетки, да еще Одессы, откуда вчера вечером вылетел мой ИЛ-18, я увидел сегодня сразу семь городов – Киев, Челябинск, Новосибирск, Читу, Хабаровск, Артем и Находку! В Артеме после восемнадцати летных часов самолет приземлился в последний раз, и я вступил на приморскую землю. Отец встречал меня, и мы сначала по-мужски пожали друг другу руки, а потом обнялись. Три года я не видел своего отца. Какой же он маленький и лысый! Три года назад он еще казался мне большим, а теперь я смотрю на него сверху. Тетя Тома, его жена, и то как будто выше его. Их десятилетний разбойник Серега загорает где-то в пионерлагере, а маленькая дочка Маринка уже спит. Здесь одиннадцать часов вечера. Это значит у нас – минус семь – четыре часа дня. Вылетел я из Одессы вчера в семь вечера, летел навстречу солнцу, потерял, то есть совсем не заметил ночь, в бешеном гуле быстро пронесся и день, спрессованный скоростью полета, и вот вместо обеда я попал на ужин, следы которого и заметает сейчас отец со своей женой.
Все, больше писать не могу. Бросает в сон.
14 августа
Проснулся – шторы задвинуты, но солнце бьет сквозь них напролом. Отдернул, и оно ворвалось ослепительной рекой, залило комнату, и я увидел, что я не дома. В душе, как флаг на ветру, затрепетал праздник, я вскочил с дивана и неожиданно почувствовал какую-то пустоту, неясный холодок внутри. И понял – это кончилось детство и вместе с ним кончилась юность. Ведь я прилетел на Дальний Восток работать!
Продолжаю уже поздно вечером. Утром отец не дал дописать, вошел и начал тормошить. Да и было уже не утро – двенадцатый час.
По-быстрому сделав зарядку и перекусив, пошел с отцом в город. Чудесный и, во всяком случае, ужасно необычный город – Находка, настоящая находка для человечества. Идешь, идешь среди домов обыкновенной вроде улицей, и вдруг прямо на дорогу выдвигается коричневая скала, совершенно дикий утес, который «мохом оброс», а еще – травой, цветами, деревьями. Это с одной стороны улицы, а с другой – обрыв и синяя бухта, а на горизонте чуть виднеются таинственные голубые берега и горы, «далекие, как сон». Мы свернули с дороги и зашли в скверик: клумба, обложенная побеленными камушками, песчаные дорожки, скамейка, каменный парапет. Оттуда виден весь залив. А называется он тоже очень необыкновенно – Находка.
Отец подошел и положил мне руку на плечо. Это здорово, когда у тебя есть отец, который вот так иногда, в хорошую, может, даже лучшую минуту жизни кладет на твое плечо тяжелую теплую руку. И не маленьким сразу чувствуешь себя от этого. Нет, просто – хорошо. Но я подумал о том, что целых четырнадцать лет из моих восемнадцати его не было рядом. Хорошая минута пропала, испарилась в облака. Он сказал:
– Эх, сынище, и заживем мы с тобой в море-океане!..
И тогда я ответил ему жутко ледяным тоном:
– А я в море, может быть, и не собираюсь. Посмотрю вот на него с горки и обратно поеду, на наш голубой Дунай.
Отец ничего не сказал. Рука его дрогнула и стала невесомой. Потом он убрал ее и медленно пошел вдоль парапета. Остановился метров через двадцать и так грустно-грустно стал смотреть вниз по склону обрыва, где узенькими, беспорядочно разбросанными террасками росли маленькие елочки, тонкие дубки и что-то вроде наших акаций. Ниже шла каменная стенка забора, ограждавшего причалы порта, смехотворная, казалось сверху, стенка, которую ничего не стоит, разбежавшись отсюда, с горы, перескочить, как детсадовский заборчик. Пароходы, стоящие у пирса, были большие, настоящие океанские суда, каких на Дунае не увидишь. И краны, сотни журавлей, клевали носами и, кружась на одной ноге, таскали из их трюмов авоськи с мешками, ящиками, бочонками, медленно так, спокойно, деловито. Здесь, над портом, на вершине горы стояла тишина, чуть звенящая, как где-нибудь на кукурузном поле или в дунайских плавнях. И только воздух, пронизанный солнцем, был здесь другой, голубой и подсоленный на вкус. Чувствовалось, что это дыхание океана, Тихого океана, о котором я столько лет мечтал.
– Пойдем, отец, – сказал я, проходя мимо него, и он сразу двинулся за мной. Я шел и чувствовал затылком его печальный, укоряющий взгляд.
– А где сопки? – спросил я равнодушно.
– А вот ты по ней шагаешь, сынок, – ответил отец.
И действительно, остановившись, я увидел, что мы идем по самой вершине горы-сопки, а дорога-улица скатывается по обоим склонам к домам города, впустившего эту сопку прямо в центр, как великанскую клумбу. Куда ни поверни голову, сколько видит глаз, переходят, плавно переливаются одна в другую, будто застывшие океанские волны, величественные сопки. На ближних растут нормальные зеленые деревья, а далекие покрыты манящим голубым лесом. Мне ужасно захотелось попасть туда сейчас же, и я сказал отцу;
– Сходим вон в тот лес?
– А почему?
– Что почему?
– Почему бы не сходить?
И мы оба рассмеялись. Мгновенно передо мной пронеслись картинки: мы бежим с отцом по густой траве, по цветам над Дунаем и по очереди кидаем с обрыва камешки в реку. Я совсем вроде малыш, а он здоровенный, сильный и красивый, совсем не лысый. Он кинул без очереди (хотел попасть в плывущую по течению корягу), и я кричу ему; «Сто ты свыляес, ну, папка!» А он в ответ: «Где?» Я показываю пальцем на бульку-всплеск; «Вон где, вон!» – «Почему?» – кричит он. «Сто поцему?» – я останавливаюсь. Он закатывается от хохота и бежит к кустам, с разбегу падает в кусты, и оттуда доносится мамкин писклявый голос: «Испачкаешь! Помнешь! Слон! Я же в костюме! Ай-ай, спасай, сыночек!» Когда я подбегаю, они целуются, а мамкина вышивка, натянутая на фанерное кольцо (она с ней никогда не расставалась), откатилась в сторону.
Будто сейчас услышал свое «сто поцему» и ясно-преясно увидел, как прямо передо мной катится с горки вышивка-колесо. А ведь это было ужасно давно. А может, и не было никогда?..
Только мы спустились вниз, к домам, как у обочины, прямо возле нас, остановилось такси. За рулем сидела женщина. Отец рванулся на мостовую, к ее окошку.
– Нам срочно, вот так надо, – он показал «по горло», – на перевал.
– Срочно садитесь, – в тон ему ответила шоферша и улыбнулась.
– Вашу руку, сеньора, – серьезно ответил отец и, когда она, словно показывая поворот, выбросила в окошко руку, поймал ее кисть и, элегантно изогнувшись, поцеловал.
И всю дорогу, а мы ехали минут двадцать, они любезничали про то да про се и меня пытались втянуть. Вообще отец у меня абсолютно не старый, вот что я понял там, в такси. Он моложе мамки на целое поколение! Жуть.
Заехали мы в дикие горы, то есть в сопки, и остановились. Дорога пролегала в седловине, и нас окружали купола вершин, заросшие негустым, но кудрявым и пахучим лесом.
Тропинок никаких нигде не оказалось, и мы взобрались прямо по склону почти на четвереньках, цепляясь за кусты то с гладкими, то с колючими веточками, оставляющими в ладонях занозы.
На самом куполе сопки была поляна, вся в желтых, белых и голубых цветах. Здесь здорово пахло сухими солнечными настоями из трав, жужжали, возясь в цветах, шмели, перепархивали с места на место огромные, с воробья, бабочки, отливающие синью каленой стали, реликтовые, сказал отец, махаоны водятся только здесь, на Дальнем Востоке. Действительно, я таких на Дунае не видел. Далеко-далеко, за десятками таких же крутолобых сопок, синел океан – словно там, на горизонте, кто-то поставил стоймя декорацию ультрамаринового цвета.
– Здравствуй, Тихий океан, – прошептал я, но отец услышал и сказал, что это еще только Японское море, а океан дальше, за невидимыми японскими островами.
Потом мы вошли в лес. Солнце пронизывало его до травы, но земля под ногами была мягко-упругая и дышала влажной свежестью. Хоть и древняя, но ужасно молодая, подумал я, неистоптанная земля здесь, и как хорошо, что я приехал на Дальний Восток. Большинство парней из нашего класса бросились на штурм институтов. Они боялись растрясти по жизни бесценный школьный багаж. Отец же боялся как раз обратного. Он писал мне: парта – отличная, удобная штука, вроде ползунков, но не пятнадцать же лет безвылазно в них сидеть. И еще: море, пароход – это тоже парта, только не для детей, а для настоящих мужчин. Мамка рвала эти письма и ругала отца болтуном, совратителем, подлецом, а бабушка ей вторила, бубня: сломал, мол, жизнь матери, а теперь норовит и ребенку испортить будущее.
Не ругайся они так неистово, я бы, может, еще и передумал. Ну а потом, позже, когда ручьями полились слезы и мне самому до слез стало жаль покидать их, вот тогда-то я и задумал то, зачем я здесь.
Сейчас, когда я, пристроившись в углу дивана, пишу дневник, отец со своей женой сидят за столом и пичкают Маринку салатом со сметаной. Тетя Тома иногда взглядывает в мою сторону. До чего же у нее молодое, прямо юное лицо. Бедная мамка по сравнению с ней старуха, а ведь разница всего в четыре года (мамка про нее сразу, говорит, все узнала). О, вот опять на меня смотрит.
Знала бы она мои планы! Четырнадцать лет отец отдал ей. Сережке и этой малой писклявке. Хватит, наверное. Теперь он должник перед нами, вернее, перед мамой. Мне думается, она тоже могла бы помолодеть с ним.
Ладно, всему свое время. Вернусь к тайге. На южном склоне мы наткнулись на здоровущую сосну. Старую, видно, престарую: ствол у нее, как у пальмы, оброс седыми волосами. Сторона, обращенная к морю, атаковалась, я понял, штормовыми ветрами: даже если смотреть снизу, вдоль ствола, сквозь нее просвечивало небо. Противоположная сторона кроны была дремучей, а самая нижняя лапа, росшая перпендикулярно к стволу, простиралась над подлеском на добрый десяток метров. Далекая вершина сосны ловила нездешний, заоблачный, наверное, ветер и с царственной медлительностью раскачивалась там, будто говорила деревьям, неподвижно стоящим внизу: вы, мол, покрепче держитесь за землю, вращайтесь вместе с ней, как вам велел Коперник, ну а я послежу маленько за движением небесных, космических сфер, по-раз-мыш-ляю… Мне хотелось скорей нарушить колдовскую тишину, и я обрадовался, услышав, этот говорящий, негромкий скрип ствола: по-раз-мы-шля-ю. Я принял его как зов. Сразу с места подпрыгнул, но до ветки не достал. И подумал: да, не дорос ты еще даже до самой ее нижней лапы. Подошел отец, измерил высоту взглядом и, неожиданно легко оттолкнувшись, взлетел, точно сама земля его подбросила, и цепко, обеими руками ухватился за ветку. Рывок всем телом – и вот уже он лег на нее грудью, оперся о ствол, подтянул одну ногу, вторую и встал на ветке во весь рост. Чтобы не посрамить свой разряд по боксу и метр семьдесят пять роста, я разогнался, прыгнул и тоже ухватился за лапу. Пока выжимался и подтягивался, как на перекладине, отец забрался еще выше. Словно папуас за кокосами, он ловко лез по стволу, захватывая его ногами в черных туфлях, бросая тело вверх, стремительно перебирая руками по древней, изборожденной глубокими морщинами коре. Веток не было метров пять, но он запросто одолел эту дистанцию и стал, расставив ноги, на толстой косой ветке высоко надо мной и испустил победный клич, достойный вождя апачей. Я полез за ним. Должен сознаться, что, не будь наверху отца, я бы вернулся с полдороги: сосна была в полтора обхвата, и я ободрал о кору лодыжки и сломал ноготь, пока добрался до него. Зато весь склон, весь лес открылся моим глазам.
Мы словно летели над ним на воздушном шаре или на планере. Парили. Здорово было, ничего не скажешь. И море мы оттуда увидели со всеми мысами и островками.
Я держался за ствол, а отец стоял за моей спиной, держась за отросток ветки. Запах леса, моря и неба накрыл нас прозрачной волной. Далекий голос большого, наверное, парохода долетел сюда шмелиным гудочком.
Хотелось обнять весь этот огромный голубой мир и засмеяться или заплакать.
– Спасибо тебе, – тихо сказал я.
Спустившись с сосны, мы долго еще бродили по лесистым склонам сопки, отец все расспрашивал, а я рассказывал ему про школу, про Вальку и Славку, которые сейчас поступают – один в мореходку, другой – в университет, про то, как разросся и расцвел наш маленький придунайский городок Рени за эти три года.
Говорил я о Рени долго и вдохновенно, и, конечно, с умыслом.
– Хорошо, что ты любишь свой родной город, – сказал отец, – но в мире так много всего, что нужно стараться, пока молод, увидеть побольше… О, седьмой час! – спохватился он. – Пошли, а то влетит нам от тети Томы.
– А ты ее боишься? – вырвалось у меня.
Он только взглянул в ответ, но я по одному этому взгляду понял, что он, во-первых, вовсе ее не боится, а любит, во-вторых, догадывается о настоящих целях моего приезда, в-третьих, корит меня за это, в-четвертых, тоже любит, а в-пятых, вообще своими карими глазами умеет глубоко-глубоко проникать в душу.








