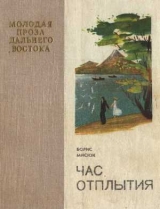
Текст книги "Час отплытия"
Автор книги: Борис Мисюк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)
X
Вот уже четверо суток идет перегруз. До чего же надоело Витосу таскать эти чертовы мешки с рыбной мукой, кто бы знал! В трюме, особенно под забоем, от нее не продохнуть. И как только ее норки жрут? Один из пяти собратьев по трюму, смешной, разговорчивый украинец лет за тридцать, когда-то до моря работал на звероферме, и говорит, что эта мука – лучшее лакомство для соболей, чернобурок и норок, а этого трюма, утверждает он, любому питомнику на год или на два хватило бы.
Дело близится к полночи, Витосу всегда в это время ужасно хочется спать. Четыре дня – четыре века! – они не виделись со Светланой…
Когда ложишься во втором часу ночи, спится почти до обеда, а в шестнадцать уже надо быть в трюме. Витос вперевалку, лениво переставляя тяжелые, будто трехметровой длины, чужие ноги, тащится по палубе среди оживления, всегда царящего при пересменке: мастера, как на стометровке с барьерами, прыгая через бочки, носятся от надстройки к надстройке, утрясая глобальные вопросы то со вторым помощником, то с завпроизводством: бригадиры принимают друг у друга трюмы, поднимая итальянский скандал, если равновесие работ «легкая – тяжелая» хоть на грош нарушено сменщиком в свою пользу: лебедчики с боцманом придирчиво осматривают шкентеля и блоки, временами тоже сотрясая морозный воздух стопроцентно русской лексикой; химики, которых на перегрузе легко отличить от врачей по невыспавшимся физиономиям и ржавым халатам, мечутся, размахивая серыми портянками «качественных удостоверений», закрывают партии отгруженной рыбы. И в этот самый миг бригады-сменщицы встречаются у Комингса трюма.
– Салют, курсанты!
Привет, студенты!
У «курсантов», если исключить Витоса, средний возраст, так же как и у «студентов», – под сорок.
– Много осталось?
– Вам кончать.
– Слава тоби, боже! – хохол пинает ногой разорванный мешок с мукой, выпавший, видно, на палубу со стропа. – А то оцей сидор вже по ночам сниться.
Витос тоже тихо ликует, скандирует про себя: конец, конец, конец – и чувствует, как ноги из трехметровых становятся нормальными, обретают упругость. О, когда Витос видит финиш, он способен на рывок.
Они хотели покончить с трюмом до ужина, рвали-метали, но осталось еще с полдюжины стропов – на час работы.
И вот этот горячий час уже минул, и бригада, растянувшись по скоб-трапу, ведущему в черное небо, покидает гулкий опустевший трюм. Витос поднимается последним: ему вдруг жалко стало расставаться с этим трюмом, который он вчера еще проклинал. Остановись на уровне твиндека, он окидывает взглядом трюмные просторы, поражается размерам и думает: «Вот это да-а! Неужели мы смогли опорожнить эту громаду, неужели это я смог?..» И чувство самоуважения необычайно приятным теплом наполняет Витосову грудь.
Наверху холодный ветер бросается в лица, все надевают фуфайки и по одному расходятся кто куда.
– Бувай, Витя! – хохол хлопает его по плечу. – Ище встренимось. З тебе выйде добрый грущик!
Витос стоит совсем растерянный и думает: «Куда ж это они?.. Я даже не знаю, как звать… вот хохла, здоровилу…» И долго смотрит вслед бригаде, исчезающей за углом приемного бункера. А за бортом – чернота.
– Витёк! Иди сюда! – Это отец окликает. Он за шахтой элеватора, у самого борта, возится с чем-то большим, темным, дымящимся, а с чем, не поймешь в подслеповатом, желтом свете измазанной солидолом лампочки на элеваторе.
– Ты крабов едал когда-нибудь? – спрашивает отец, когда Витос подходит и, наклонившись, пытается рассмотреть самодельную крабоварку – бочку и толстый паровой шланг, накрытые брезентухой. Шланг идет к вентилю подогрева топливной станции, расположенной рядом. Отец, чуть поворачивая маховик, поддает пару, и в бочке, похоже, клокочет небольшой вулкан. Крабов Витос видел только в кино и на фотографиях.
– Ну, тогда готовься, – улыбается отец, – через пару минут будем вынимать. – Он свистит негромко куда-то в темноту, и оттуда вскоре появляется человек пять матросов в ватниках. Среди них Витос замечает плотника дядю Гриню.
– А, Витос… Здорово… – как всегда степенно говорит он. – Шо, крабца погрызем маненько?
Витос здоровается и подвигает к нему пятидесятилитровый бочонок, которых много здесь, на палубе.
– Спасибо, сынок. Ты сам давай поближе к шалашу. Небось там, на западе, нечасто пробовал, а?
– Совсем не пробовал. У нас там – река. Вот раков ел, даже сам ловил.
– О-о, тогда тебе самую первую клешню, – и дядя Гриня торжественно вручает Витосу громадную, в руку толщиной, дымящуюся клешню, которую отец только что выудил из бочки, парящей душистым варевом.
Витос разрывает тонкий панцирь, вкушает горячее сладкое мясо. Зажмуривается то ли от пара, то ли от удовольствия, и вмиг из тьмы возникает перед ним картина: дед-бакенщик. Валька и Славка и он в большущей лодке-каюке. Они идут ловить дунайских раков.
Жизнь не так уж часто балует нас. Соловьиная песня, яркая радуга, аромат розы, поразив однажды, наше воображение, навсегда остаются в памяти слуха, зрения, обоняния. Вкусовая память Витоса на всю жизнь запечатлела дунайских раков, сваренных по дедову рецепту.
– …че ужин? После такого ужина пообедать хочется, – слышит Витос, очнувшись от воспоминаний, так неожиданно и властно захвативших его. Говорит пожилой щуплый матрос, которого никак не назовешь обжорой. – Этот завпрод-скотина вконец оборзел: питание – почти два рубля на рыло в день, а он пустой гречневой кащей кормит. Правильно Суворов, говорят, делал: ежли два года проходил в завпродах – расстрелять.
– Людей надо не стрелять, суворовец, а воспитывать, – отец с хрустом раздавливает между ладонями клешню.
– Воспитателей тут до хрена, а толку? – «Суворовец» даже есть перестал, и рука его, в которой он держит сладкий кус, сама собой опускается. – Че ж его не воспитали ни чиф, ни помпа, а?.. Молчишь. Тогда я скажу. Степа дурной, но хитрый: воровать ворует, а чифу налить не забудет. Ну а когда «вась-вась» пошло, че может быть за воспитание? Горбатого могила исправит. Тут только стрелять либо вешать…
Неловкое молчание нарушает спокойный, медлительный голос плотника:
– Хэ, суворовский стрелок… Это ты, Кириллыч, точно сказал, в самый сучок. Дай дураку свечку, он и церкву спалит.
– А ты б, Гриня, молчал! – грубо обрывает его Суворовец. – Ты свою жену с хахалем застал, так еще и квартиру ей в приданое выделил.
Дядя Гриня на миг прикрывает глаза. Суворовец прикусил язык, но все смотрят не на него, а на плотника. Почувствовав на себе взгляды, дядя Гриня говорит тихо:
– Квартира дочке останется. А приданое, как ты сказал, я другое сообразил. – Он замолкает, и все прислушиваются к дробному стуку лебедок на третьем трюме, где, тоже закончив перегруз, начали уже принимать рыбу. «Так вот откуда крабы, – успевает подумать Витос, – траулер подошел на сдачу, а рыба, значит, с «приловом».
– Приданое я смастерил, да-а, – продолжает дядя Гриня. – Сначала только пошел маненько выпил, с полкило принял… А поверьте – она шо вода была!.. Да, ну вот, а после вернулся, взял в подвале (у меня, там мастерская была) топор самый острый, ну и все – столы, стулья, буфет, шкафы, кровать – все с красного дерева, все вот этими руками сделанное, порубил в щепки. Не тронул одну дочкину тумбочку – там игрушки были…
Дядя Гриня, снова на миг закрыв глаза, умолкает.
«Он и рубил, наверное, так, как говорит – по порядку, с расстановкой», – думает Витос, уважительно глядя на плотника.
Решительно хлопнув по коленям ладонями, отец поднимается со своего бочонка, долго шарит в бочке, все еще уютно парящей на морозе, достает пару больших крабьих лап, зовет полувопросительно;
– Витос, пойдем со мной?.
– Куда? – Витос встает.
– Пойдем, – повернув голову, бросает отец и через несколько шагов прибавляет: – В радиорубку.
Витос еще в Находке ходил «на экскурсию» в радиорубку базы и знал, что отец дружит с начальником радиостанции, своим ровесником, веселым, приветливым мужиком. Забрав из отцовской руки одну крабью ногу. Витос поднимается вслед за отцом по внутреннему трапу надстройки. Целых пять пролетов надо одолеть, чтобы взойти на мостик «Удачи», где находится радиостанция.
Когда распахивается дверь, на Витоса буквально обрушивается мир-эфир с его оглушительно музыкальным писком; пи-пипи-пипипи. Громада мощных передатчиков, мигающих десятками разноцветных глаз, и приемников, похожих на кофейные автоматы современных кафе, обдают дыханием сотен горячих электронных ламп, катушек и сопротивлений, жарким дыханием, насыщенным сладковатым запахом перегретой пластмассы, изоляции, лака. Здесь уйма светящихся циферблатов и шкал, маховичков, ручек, кнопок и переключателей всех сортов и размеров – от крошечных, с булавку, до рубильников, какими, наверное, включают Днепрогэс. Все это заставляет Витосовы глаза по-заячьи разбегаться во все стороны. Вахтенный радист неподвижно сидит в кресле за столом, неотрывно смотрит в лист радиограммы, лежащей перед ним, и только правая рука его чуть шевелится и подрагивает; два пальца, большой и указательный, суетливо, словно суча толстую нить, играют пластинчатой ручкой телеграфного ключа, сыплют пищащие точки в эфир. Витос знает: три точки, три тире, три точки – это SOS, сигнал бедствия, кораблекрушения. На переборке, над приемником, висят большие морские часы, на их циферблате узкими арбузно-алыми дольками выделены сектора – по три минуты в каждые полчаса, три минуты телепатического молчания всех радистов мира. Сколько песен поется о морзянке, о SOS. В такт пищащим точкам-тире и подергиваниям пальцев радиста вспыхивает на подволоке маленькая фиолетовая лампочка-неонка, дергаются стрелки приборов на пульте передатчика. Но никто, кроме Витоса, на них не смотрит. Отец уже сидит на диване и беззвучно (заглушает рация) разговаривает с начальником. Но вот минутная стрелка часов касается алого сектора, радист откидывается на спинку кресла. Он седой и усталый, и видно по его глазам, что весь он еще там, в эфире или на далекой земле, с которой только что держал связь. Но эта отрешенность длится всего мгновение.
– Что скажешь? – радист рассматривает Витоса с иронической улыбкой.
– Здравствуйте, – Витос невинно смотрит прямо ему в глаза.
– И все? – ирония в улыбке радиста возрастает.
– Вот, – спохватывается Витос и протягивает ему крабью ногу.
– О-о-о, – шутливо округляет глаза радист, – за это спасибо, почаще тогда приходи, мальчик; как тебя зовут?
Он выпаливает это с той же скоростью, с какой работал ключом, берет краба и, бросив взгляд на часы, спешно начинает ломать панцирь и есть. Ответа на свой вопрос он, похоже, не ждет, и Витос садится на диван рядом с отцом, благо тот как раз его позвал.
– Ну, и как тебе, Витос, наша морская жизнь? – спрашивает начальник радиостанции, улыбаясь, по-родственному сразу располагая к себе.
– Пока нравится.
– А почему «пока»? – серьезнеет начальник. – Это значит, ты оставляешь себе лазейку для бегства?
– Нет, в море мне очень нравится, – взглянув на начальника, быстро возражает Витос. – Просто я хочу уходить с базы на траулер.
Он смотрит на отца, который сидит, наклонившись вперед, задумчиво глядя в голубые разводы пластика, выстилающего палубу радиорубки.
– Ван как! Значит, поближе к. Нептуну решил перебраться. – Начальник толкает локтем отца. – Саша, а что ж ты молчал?
– А это и для меня новость! – бодро выпрямляет спину отец. – Ты это железно решил? – он испытывающе смотрит на сына, по обыкновению поглаживая от волнения лысину.
Витос утвердительно кивает, глядя мимо него. Отец молчит. Скрипнув вращающимся креслом, к ним поворачивается радист.
– И на кой он тебе сдался, этот траулер? – вопрошает он, жуя и явно опять не нуждаясь в ответе. – Там ни танцев, ни теток не будет. Ты забудешь, что такое нормальная жизнь, будешь вкалывать как папа Карло, на морозе, на палубе, вечно мокрый и грязный. И спать тебе придется в робе. Понял?
– А вы, – Витос стал как еж, отец слышит это по голосу сына, – вы сами работали на траулере?
– Еще чего! Мне и здесь, мой мальчик, неплохо. Ха-ха-ха! – искусственно хохочет радист. – Я уже десять лет на базах, и на сээртуху меня пряниками не заманишь, не-е-т. Гляди, здесь как чистенько, тепло и хорошо, а? И тети есть – м-м, – он чмокает сложенные пучком, мокрые от краба пальцы.
– Ты насчет теть полегче! – строго одергивает его начальник радиостанции. – Пареньку восемнадцать, а ты, орясина седая, говоришь тут…
Рубка вновь наполняется оглушительным писком, три минуты молчания кончились, и радист, опять резко скрипнув креслом, берется за ключ и влипает в радиограмму.
Витос смотрит на часы. Стрелка вышла из красного сектора – без двенадцати минут одиннадцать.
– Я пойду, – нарочито корректно, полуобернувшись к отцу и словно обдавая его холодом, говорит Витос и встает. – До свиданья!
Начальник радиостанции, встретив скользнувший по нему взгляд черных ледышек, смотрит, как захлопывается дверь рубки, качает головой и произносит, будто про себя;
– Колючка-парень…
Витос винтом проскальзывает все пять пролетов трапа, мчится по полутемной палубе, стремительно прочеркивая сапогами замерзшие лужи тузлука, перелетая через бочки и успевая думать на бегу: «Завпрод, Суворовец… теперь вот этот радист… Да если б мир состоял из одних таких, жизнь была бы отравой».
В сушилке Витос быстро сбрасывает робу и вместе с ней – неприятные мысли. Застегивая пуговицы чистой рубашки, он уже думает о том, что ждет его сейчас, буквально через пять минут, – о встрече со Светланкой. От одного воспоминания Витос млеет и удивляется, почувствовав, как до самых ступней доходят приятно острые токи, пронзающие все его существо.
Борясь с волнением, он стучит в дверь каюты на ботдеке и слышит голосок, от которого снова пробегают по нервам токи. Презирая себя за робость, открывает дверь и видит только ее, Светланку. Она в чем-то цветастом, необычная, точнее, необыкновенная, необыкновенно красивая, с распущенными по спине шелковистыми волосами, с искристыми, радостными глазами, и она сразу вскакивает с дивана, отбросив книжку на стол, и идет ему навстречу.
– Витя! – пищит она. – Заходи, чего ты стал, никого нет.
И берет его за руку и нежно тянет в каюту. И он, все еще скованный мыслью о том, что на койках, за шторками могут быть девушки, послушно идет за ней, стараясь шагать тихо и не задеть плечом верхнюю койку.
– Садись! – она говорит так громко, что Витос едва не вздрагивает, садится вслед за ней на диван и сидит истуканом.
– Пойдем лучше к нам, – наконец шепчет Витос.
– Да никого же нет, я же тебе сказала, и можешь говорить нормально, трусишка.
Он первый раз слышит о том, что в каюте никого нет, а «трусишка» расковывает его окончательно. Витос, глубоко и облегченно вздохнув, медленно поворачивается к Светлане, глаза их встречаются, и столько в них нежности, и за одну-единственную секунду так много успевают они поведать друг другу, что слов больше не нужно, да их и не хватило бы для взаимных рассказов о том, как томились в разлуке, как соскучились они за эту тысячу лет, странным образом уместившуюся в четверо суток земного времени, занятого простой работой на камбузе и в трюме.
Все чувства, и мысли, и ощущения – все поглощено одним – теплом объятия. И тают в нем последние ледяные кристаллики, только что там, на палубе, коловшие душу Витоса. Он непроизвольно судорожно вздыхает и трется головой о ее волосы и щеки, а она и не спрашивает, о чем он вздохнул, она сейчас все понимает без слов. Со стороны они сейчас похожи…
«На слепых котят похожи», – думает Пашка Шестернев, заглядывая в иллюминатор с ботдека. Его они, разумеется, не видят, а потому и не задергивают иллюминаторные шторки, как это сделали бы взрослые, едва включив в каюте свет.
Увы, не бывает ни вечных объятий, ни вечных поцелуев. Не сознавая этой истины, которая сейчас показалась бы ему достаточно грустной. Витос ослабляет объятие, и вдруг у него вылетает:
– А у тебя была любовь раньше?
И прежде чем Светлана успевает ответить, в мыслях у него проносится: «Неужели ты соврешь? – это Спорщик. – Конечно нет. Никогда!» – это он сам. И внезапный горячий стыд приливом захлестывает уши Витоса – он вспоминает в подробностях, как боролся с искушением солгать, когда Светлана задала ему точно такой же вопрос. Но нет, нет, это не он хотел соврать, он отлично помнит: кто-то маленький, мелочный, противный, не имевший с ним ничего общего, но сидевший, однако, внутри него, прикидывал тогда, как бухгалтер на счетах, все «за» и «против»: врать – не врать, врать – не врать. Вот она где кроется, подлость – в нас самих! Ее надо выжигать каленым железом! И если б это единственный раз…
– Была, – просто сказала Светлана. – После школы я только и слышала: консерватория, институт, консерватория. Ну вот, а однажды увидела объявление: организованный набор рабочих для работы на рыбокомбинатах Сахалина. Можно заключить договор всего на одну путину, было написано в объявлении. Ну вот я и пошла по этому адресу.
– И мать не знала? – Витос уже справился с собой.
– М-м, – качает Светлана головой, и в глазах ее сразу начинают плясать бесенята. – Я сказала мамке, когда уже подписала договор.
В Витосовой памяти в доли секунды прокручивает кадры фантастически-скоростной кинематограф: Рени, еще неделя до отъезда, мамкина истерика, поджавший хвост Ренду, потом проводы и новые реки слез. А Светлана уже рассказывает о Шикотане…
Давно был объявлен отбой, но это уже их не пугает. Они знают – это дань традиции, уставу, это для салаг, а они уже не дети и хорошо понимают, что жизнь в тысячу раз сложнее всех уставов, жизнь – это жизнь!
– Я подружилась с геологами, – говорит Светлана. – Их партия занималась изучением вулканических пород южных Курил – Шикотана, Кунашира, Итурупа. Ну вот, и когда кончилась путина, я пошла с ними. Там был один парень, Сашка его звали, веселый такой – никогда не унывал сам и любого мог растормошить в самую трудную минуту. Он везде ходил с гитарой, знал очень много хороших песен, часто читал стихи нам. Все его любили. Ну вот. И мне он нравился. – Светлана поправляет прядку на лбу, и Витосу ужасно хочется поцеловать ее, но она мягко отстраняет его рукой. – Погоди! Слушай. Ну вот, пришли мы на Край Света, поставили палатки в долине Лошадей и разбрелись кто куда. И до самого вечера мы с Сашкой ходили вдвоем – собирали цветы, пели, в океане купались. Он придумал мысу новое название: Край Светы. – Светлана опять от легкого смущения поправляет прядку. – Ну вот. А вечером сидели все вместе у костра. Все было так хорошо, – в мечтательности, с какой она говорит это, уже слышна горчинка. – Потом стали укладываться спать. Вот. И тут он начал звать меня в свой спальник, вроде в шутку. Я тоже отшутилась и развернула свой спальник. А когда все легли, он опять стал звать меня к себе и болтать глупости всякие. Ну вот. И когда он сказал мне какую-то гадость, что я, мол, ломаюсь, что все равно… Тогда даже ребята крикнули ему: «Сашка, да уймись ты!» А он продолжал… Ну вот. Мне стало так противно… Утром я собрала рюкзак и ушла от них. Ребята уговаривали остаться, он попросил прощения, а я не могла, я ушла…
В молчании, повисшем в каюте, как густой, хоть и незримый, дым, носятся сейчас их горячие и оттого невнятные мысли, сталкиваются друг с другом, сплетаются, бьются в стекло иллюминатора, а за стеклом, на фоне мерцающих вдали заснеженных берегов Чукотки, по-прежнему маячит силуэт человека, наверное в сотый раз уже меряющего ногами ботдек.
Перед мысленным взором Витоса опять проплывают, словно за матовым стеклом, неясные тени: вороватый завпрод Степа и готовый его расстрелять «суворовец», седой радист-циник, насмотревшийся неправды в потоках радиограмм, которые прошли через его руки. Но это не надолго, скоро Витос забудет их, как неприятный сон. Ну а сейчас он думает об этом так: «Жизненный опыт, о котором твердят всегда, это не что иное, как знание плохого. И вообще, старость – это тоже знание плохого».
И снова захватывает их объятие, новая, какая-то необычная, неизведанная еще нежность и поцелуи. А потом Витос делится своими мыслями о старости, рассказывает об отце, о его «предательстве» и, наконец, о своих планах – о том, зачем он здесь, на Дальнем Востоке, на борту «Удачи». Он, сам того не сознавая, ждет похвалы. И неожиданно слышит в ответ:
– Глупенький, не нужно все это. Глупенький ты мой мальчик, это не нужно никому – ли маме твоей, ни отцу, ни тебе самому…
– Как? – удивляется он. – Почему? – возмущается он.
– Потому, – Светлана улыбается лучезарно, как молодая мать своему несмышленышу, – что ты ни-че-го не понимаешь в любви.
– А он, предатель, понимает. Так ты хочешь сказать?
– И еще потому, что ты жестокий…
– ???
– Да, ты хочешь сделать несчастными и отца, и мать, и тетю Тому, и Сережку с Маринкой.
Витос молчит, ни за что он не согласится с этим, никогда… И вдруг ощущает как будто дуновение из самого далекого далека, как будто знак, говорящий о том, что в словах Светланы заключена правда, но знак этот настолько слаб, что ничего не стоит его отринуть. И неожиданно это легкое дуновение приносит в душу огромное облегчение, непрошеное облегчение. Витос с досадой чувствует и сознает, что тяжесть, чугунная тяжесть, которую он свято берег на сердце, которая, казалось, срослась с его душой, вдруг разом, от какого-то невнятного дуновения исчезла, свалилась с души. И в гневе, едва не крикнув «нет!», он поднимает эту страшную тяжесть и водружает ее на место…
В это время из коридора доносятся шаги и голоса девчат второй смены, идущих после ночного обеда в каюту. Половина первого ночи. Влюбленные спешно прощаются, назначают свидание, и Витос выскакивает на ботдек.
От шлюпки отделяется тень и быстро приближается к Витосу. Это Шестерка…








