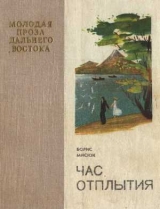
Текст книги "Час отплытия"
Автор книги: Борис Мисюк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц)
Так вот почему «канат»! Это архаизм, пережиток парусного прошлого, когда действительно были еще канаты вместо цепей. И все же «Вира якорь!» куда приятнее на слух, романтичнее, да и традиционнее, чем «Вира канат!» В последнее время часто слышишь, как сами моряки современный теплоход, лайнер величают старинным «пароход», «корвет». В этом есть и особый шик бывалости, и легкая тоска по ушедшей романтике, прикрытая скептической усмешкой, и что-то еще…
22 часа. Мы давно должны быть на смене, но работы в цехе сейчас нет: после окончания перегруза успели даже пустые бочки с палубы в трюм убрать и «марафет» везде навести, то есть окатить морской водой палубу и твиндеки. Поблескивает мокрый вороной металл, селедочная чешуя вся смыта за борт, кругом тишина и покой. Ну а когда работы нет, вся «промтолпа», то есть мы, матросы-обработчики, смотрим кино в столовой, кое-кто режется в карты по каютам, а кое-кто и «балдеет», те, кому удалось правдами и неправдами раздобыть спирту в Москальво.
Мы с Юрой, надев фуфайки – ветрено и холодно, хоть и июль, – сидим наверху, на шлюпочной палубе, удобно так, с комфортом расположились на каких-то снастях, накрытых брезентом, и молча созерцаем стихии.
«Весна» идет полным ходом, вразрез волне. Ветер – «по зубам», как говорит Юра, нордовый, баллов семь. Глянцево-черный океан в пепельных сумерках вскипает каждым гребнем, и голубая пена барашков походит цветом на подсиненное крахмальное белье. И лимонная вода у борта – чуть перегнись за леер – и увидишь – возвращает детство: отец всегда бросал в ванну большие круглые хвойные таблетки, и вода становилась точь-в-точь такой же. «Весна» ныряет великанской уткой с волны на волну. Сталкиваясь у борта, волны рассыпаются пеной, и она шипит и шуршит, как по гравию где-нибудь в Гаграх.
И цепочка мыслей струится и вьется в проветренной морем и первой рабочей сменой голове: Саша – Тома – поиски друг друга… в океане – поиски себя.
Мечутся люди, ищут дела для души и тела. Занесло вот и меня в море. Не в первый раз уже. А нашел ли я себя? В тридцать-то лет… Стихия и стихи – что ж, в этом должна родиться гармония. Должна! И почему бы и не сложиться…
Тихий, огромный, как небо,
Сине-стальной великан.
Буйный, взлохмаченный, гневный.
Ласковый, трепетный, нежный…
Сердцем я твой, океан!
Рефрижератор «Космонавт» и рыболовный сейнер «Персей» – это слон и моська. Из ревизорской каюты «Космонавта» даже на клотик РСа нужно смотреть сверху вниз, а мостик «Персея» – как раз на уровне палубы «жирафа». Экипаж – там сто человек, здесь пятнадцать. Каюты на РСе есть только у капитана и стармеха, да еще у радиста коротышка диван в крошечной радиорубке. Койка старпома «раскинулась» в шестиместном кубрике, в носу. И как дань уважения – нижняя. Матрос ночью, без пяти четыре, толкнет под бок: «Сергеич, на вахту», ты ноги на палубу – и сразу в сапоги попадаешь. Комфорт – это самая относительная штука в мире. В ширину палуба РСа составляет восемь шагов, а от носовой тамбучины, где кубрик, до кают-компании, где все остальное, – чуть больше десятка. Вот, считай, и весь пароход. За две недели Саша привык уже к новому ритму жизни. А ритм-то простой – ритм охотоморской волны. Ты ее шкурой начинаешь чувствовать: слева больше поддает, значит, идти по правому борту. Выглянул через пятачок дверного иллюминатора – ага, волна рядом. Шасть на палубу, хлоп дверью и – к тамбучине, да пошустрей: РС меж двумя волнами в самый раз умещается. Протабанил, не поспел – шмутки суши потом. Июль июлем, а лед всего полмесяца назад еще выгоняло ветром из бухты Нагаева. Так что печка-киловаттка в кубрике все время врублена. А отдельная каюта и правда здесь ни к чему. «На хрена волку жилетка – он в кустах ее порвет» – так сказал капитан инспектору портнадзора, когда тот требовал записывать в судовой журнал количество пройденных миль на промысле. «Работаешь на кошельке, – объяснял капитан, – дергаешься туды-сюды, как паралитик. Какие ж тут мили писать? Вот когда селедка уже в трюме, бежишь на сдачу к базе миль десять – двадцать, тогда другой коленкор».
За две недели промысла «Персей» раз тридцать метал кошелек, а сдавал раз семь, не больше: рыбалка пока никудышная. Обрабатывающий флот тоже наполовину простаивает. Поэтому начальник охотоморской сельдевой экспедиции распределил между базами добывающие суда поровну. «Персей» приписан к камчатской плавбазе «Северное сияние». И вот за все это время Саша только и успел побывать на ней да еще на приморской базе «Шота Руставели». Тамары Серегиной там не оказалось. Саша у обоих четвертых помощников судовые роли смотрел. На «Северном сиянии» четвертый не очень любопытный парень, а вот на «Руставели» – как начальник отдела кадров: кто да что, зачем да отчего? Саша вспомнил беседу «на ковре» во Владивостоке. Джентльменский уговор, заключенный на отходе «Космонавта» месяц назад, закончился едва не выговором вместо премии. В конце концов кадровик, видя, что парень не думает уступать, обозвал его ишаком, подмахнул подпись на заявлении, едва не разорвав бумагу своей шикарной семицветной ручкой, брезгливо отодвинул его на край огромного стола и не проронил притом ни звука. А Саше от него большего и не требовалось.
В рыбколхоз устроился, на удивление, быстро, легко. И здесь специалистов только давай – штурманов, механиков. Как почти везде на Дальнем Востоке. Морская интеллигенция льнет к черноморским да балтийским берегам, норовя прожить по старым пословицам вроде «рыба ищет где глубже…» и придумывая новые: «лучше Северный Кавказ, чем южный Сахалин».
Сто десять суток в море – это норма для рыбаков. Саша это уже усвоил. И все-таки трудно поверить, думает он, что составители этих норм проводила испытание на себе. Хотя такой срок, поверить можно, был бы вполне им по плечу, с их математическим складом ума и незыблемой, как окала, психикой. Ну а как насчет трехсот шестидесяти пяти суток?..
Да, кроме космических спектров восхода есть на Дальнем Востоке и космические «сроки». Год без берега, без семьи, без друзей, год на крошечной палубе, день и ночь проваливающейся под ногами, встающей стеной. Целый огромный год, состоящий из полновесных трехсот шестидесяти пяти суток, помноженных на двадцать четыре часа непрерывного напряжения нервов и мускулов, напряжения, ставшего нормой.
В свое время с высоких мостиков «жирафов» Саша насмотрелся на такие траулеры и сейнера; на бортах уже нет и следов краски – борта промыты морем до железа, кранцы изодраны в клочья, флаг закопчен трубой до совершенной черноты и истрепан ветром так, что стал короче наполовину. Говорили, что эти скорлупки уже по году в море, но вообще воспринималось все это как фантастика, как «Кон-Тики».
И вот пошел уже второй месяц на «Персее». Кое-кто успел отрастить бороды «по-охотоморски», другие пока держатся, хоть через день, но берутся за бритву. Кстати, на судне только две электробритвы – у Саши и у радиста, у остальных безопаски, а дед – стармех – всю жизнь, говорит, верен своему ремню и клинку фирмы Золинген.
К концу июля селедка пошла хорошо. Ну а сейчас, в августе, пустых заметов и вовсе не случается. Возникла другая проблема – сдача. Добытчики все с рыбой, и обрабатывающих плавбаз теперь – позарез. Раньше, бывало, зайдешь в конурку радиста, так на всех частотах одно в эфире:
– Суда промысловые, суда промысловые, кто с рыбой на борту, прошу на сдачу!
– Рыбы, рыбы надо! Рыбки!..
Теперь же все наоборот – надрывают охрипшие глотки, предлагая рыбу «крупную, свежую, вот-вот поймали», радисты, штурманы и капитаны РСов и СРТ.
– Мандрата пупа! – незло ругается Осипович, капитан «Персея», вешая на переборку трубку радиотелефона.
Можно позавидовать такой сдержанности, думает Саша.
В двадцать часов Саша сменился с вахты, а рыба по-прежнему болталась в трюме. «Персей» рыскал по валам могучей зыби и кричал на все Охотское море;
– Рыба! Кому нужна рыба? Крупняк! Всего пятьсот центнеров! Дешево отдадим! – не гнушался черным юмором морковка[1]1
Морковка – прозвище радистов на флоте, производное от имени радиоизобретателя Маркони.
[Закрыть].
Саша заканчивал ужин, с наслаждением потягивая из эмалированной кружки (бьющейся посуды на РСах не держат) божественно вкусный кисло-сладкий квас, фирменный напиток «Персея». В это время из радиорубки вывалился взмокший от духоты и крика радист и уныло сообщил:
– Все! На сегодня – финиш. Начальник экспедиции дал плавбазам на завтра лимиты – по двести центнеров с носа принимать.
Вот так… Слезы, чиф. А еще говорят: маленький пароход – большие деньги…
День был жарким – бабье лето в Охотском море. Оно тут бывает в августе и обычно меркнет в два-три дня под наплывом низких туч, под властным натиском осенних штормов и холодов.
Саша на несколько секунд задержался у трюма, а когда снова двинулся к носовой тамбучине, слоноподобная волна, коварно подкравшись к борту (ветра нет, тишина), с кошачьей легкостью запрыгнула на палубу и пересчитала бы кости старпому, покатав его по палубе, лебедке и ребристой стали фальшборта, если б он в то короткое мгновение не слился с трюмным люком, не вцепился в него окаменевшими руками.
В кубрике, развешивая над киловатткой мокрую робу, он подумал: «А шторм, видно, рядом, недалеко где-то ходит, раз такие слоны, как кошки, прыгают на палубу». Из-под койки, сочувственно тявкнув, вылез Бич, большой черный пес, гладкошерстный, красивый, хоть и беспородный. Он явно симпатизировал Саше и всегда, как только старпом входил в кубрик, стремился засвидетельствовать свое почтение.
С мыслью о Томе, о новой плавбазе, на высоком борту которой они сейчас, быть может, встретятся, Саша быстро влез в полусырую робу, натянул чьи-то сухие сапоги, потрепал по холке лизнувшего руку Бича и взлетел по трапу. На палубе – ночь, на крыльях мостика горят два разноцветных глаза – ходовые огни, над ними, на верхушке мачты, чуть мерцает белый топовый огонек. Помня о своем приключении, Саша выглянул из тамбучины, осмотрелся и только тогда «рванул десятиметровку». Так зовут на «Персее» пробежку с носа в надстройку. На бегу спиной ощутил ветер, нехолодный, но плотный, и вполглаза увидел разлохмаченную гриву шипящей волны в полуметре от борта, на уровне лица.
В рулевой рубке кроме вахтенных – третьего штурмана и матроса – был капитан. Он снова говорил с кем-то по РТ – радиотелефону. Саша услыхал конец разговора:
– Ясно, на правый борт швартоваться. Через полчаса ждите.
– Да порезвей сдавайте! – проскрипела рация.
Капитан спокойно повесил трубку на крючок и, подернувшись, увидел Сашу.
Саша приник к лобовому стеклу, жадно вглядываясь в огни плавзавода. Они сказочным ночным цветком сияли справа по курсу, милях в пяти от «Персея», плавно взлетая и опускаясь вместе с черным морем и небом. Саша, напрягая воображение, мысленно раздвигал их, видел просторные палубы, пятиэтажные надстройки, твердил название «Томмазо Кампанелла». Отличная традиция на флоте, мельком отметил про себя, называть морские гиганты именами великих философов, столетия назад думавших об устройстве вселенского счастья. Почему-то всегда, когда думаешь о счастье, становишься суеверным. Вот и сейчас Саше показалось потрясающе символичным, что в названии плавзавода есть любимое имя – Тома.
– Право на борт! – Капитан точно обрубил его мысли. – На эту «клумбу» держи.
Матрос завертел штурвал, и «Персей» уставился носом на плавзавод. Ветер крепчал, теперь это особенно стало заметно: волна била в левый борт, валила суденышко, а ветер добавлял, толкая в Надстройку, и привычный шум его за дверью рубки уже переходил в разбойничий свист. Натурально осенний холод проник сквозь щели в рубку. Кончилось в Охотском море лето.
– Иди к боцману, – капитан положил на плечо рулевого медвежью лапу, – скажи, пусть готовится к сдаче.
Третий помощник стал к штурвалу. Саша ни о чем не спрашивал, стоял молча.
Минут через десять улеглась зыбь, а ветер перестал звереть, лишь бессильно посвистывал в снастях над головой, на крыше рубки – зашли под прикрытие невидимого в ночи мыса. Здесь и стоял, точно щука в заводи, плавзавод.
Боцман и два матроса показались из тамбучины. Капитан щелкнул пакетником на переборке – на палубе зажглись огни. Парни открыли трюм, прицепили к шкентелям «ложку» – сачок с длинной рукоятью для вычерпывания рыбы, запустили лебедку. Один из матросов притащил шланг, опустил концом в трюм и открыл воду.
«Персей» прильнул к высокому черному борту плавзавода. Доверчиво, как ягненок к волку, ряженному в овечью шкуру, подумалось Саше. Не успели еще закрепить швартовы, как плавзавод закогтил каплером левый борт сейнера.
Первая порция россыпью серебра булькнула в каплер. В рубке повисло похоронное молчание. Но ненадолго.
– «Персей» – «Ориону»! – вскрикнула рация.
Капитан взял микрофон:
– На связи. Что хотел?
– Здорово, Осипович! – узнал его голос капитан сейнера «Орион». – Ну как ты там, сдал рыбу?
– Сдаю, – проворчал в ответ Осипович. – А ты как?
– Сдал уже! – неприятно весело отозвалась рация.
– Кому?
– А ему же – подшкиперу! Нас тут пятеро уже, подгребай, все веселей будет.
– Да уж веселья невпроворот, – громко выдохнул Осипович. – Где стоишь?
– А тут, сразу за маяком. Смотри, сейчас мигну топовым.
– Давай; До связи.
Справа милях в двух трижды мигнул огонек. Небо было беззвездным, безлунным. Весь мир, казалось, погрузился в черную штормовую ночь. Лишь эта светлая живая точечка проникла в душу, согрела ее. И теперь уже не такой заброшенной виделась палуба «Персея» и суета на ней, выхваченная из мрака прожектором.
Ложку за ложкой выплескивали рыбаки морские дары в ненасытно чавкающую пасть каплера.
– Схожу, Осипович, взгляну на этого крокодила, – Саша мотнул головой кверху, где в черном небе холодным заревом светились огни плавзавода.
– Дуй, – безразлично откликнулся капитан, – только гляди не заикнись там про наши обиды. – И добавил уже ворчливо: – Пусть хоть двести нарисует, змей.
По скользким от чешуи веревкам штормтрапа Саша поднялся на высоченный борт плавучего завода. Непривычно просторно и светло было на его палубе. Натужно гудели лебедки, лилась «персеева» рыбка в утробу «философа», который крепко, видать, за прошедшие столетия перелопатил свои взгляды на счастье. Тщедушный мужичонка, утонувший в несоразмерном полушубке и шапке, тоже вроде бы снятой с головы великана, стоял у приемного бункера и покрикивал на лебедчика, торопил:
– Давай, давай шевелись! Мух ловишь хлебалом!
– Кто это? – спросил Саша у проходившего мимо матроса.
– Рыбак и не знаешь? – удивился тот.
Саша пожал плечами. Матрос, оглянувшись на мужичонку, доверительно потянулся к Сашиному уху, прошептал:
– Да это чучело весь флот знает. Завпроизводством наш.
Саша пригляделся к «чучелу»: породистые, лохматые брови, умные, сосредоточенные глаза.
– Да-а-а, – только и сказал Саша тихо, закурил и пошел к носовой надстройке.
Через полчаса, прочитав семьсот фамилий, среди которых – увы – Серегиной не было, Саша спустился на «Персей». Шкиперский – вот какую фамилию носил завпроизводством, а его инициалы – Г.Г. – несколько развлекли приунывшего было старпома. Прошло еще полчаса, и порожний сейнерок отвалил от «философа».
За мысом по карте была небольшая открытая бухта.
«Персей» круче переложил руль и вскоре скользил уже словно по черному маслу. Ветра как будто и вовсе в мире не существовало. Вдоль берега бухты, прячась от шторма, цепочкой стояли сейнеры и траулеры, а справа, под самым маячком, сияла палубными огнями какая-то плавбаза. Подошли ближе к плавбазе, отдали якорь. Когда развернулись вдоль ее высокого борта, Саша прочел над толовой: «VESNA». Под этой ярко освещенной надписью на крыле мостика стояли люди, кто-то рассматривал «Персей» в бинокль. «Нет, – решил старпом, – здесь ее нет. Короче, надо отсюда уматывать. Вот только где теперь ее искать?..»
До следующей вахты Саше оставалось четыре часа, я он пошел спать. Проходя по палубе, заглянул в пустой трюм. Там в желтом свете подслеповатой лампочки, где недавно слитками серебра лежали рыбачьи сокровища, трудились матросики – зачищали закрома.
В кубрике у печки-киловаттки было по-домашнему тепло. Саша медленно разделся, повесил робу, лег, но до вахты так и не заснул.
Что ни делается, все к лучшему, снова вспомнил он гостиничный разговор. Как можно было жить по такой гнилой пословице? Впрочем, можно привыкнуть ко всему. А я не хочу привыкать, не буду! Привыкать – значит стареть. Стареть – привыкать. Мир, действительно, голубой и розовый: рассветы, закаты, глаза младенцев. Остальное зависит от ума и рук человеческих. И то, что ты видел в детстве, не меняется. Меняешься ты сам, твой взгляд на мир. Точно пеплом глаза себе засыпаешь. И они становятся, как сказала тогда Тома, лживыми, змеиными, предательскими. Глаза… Спать хотят глаза… Першит в глазах, как в горле… Томка. Вот у кого чистые глаза, без пепла. Тома. Том Сойер. Она видит, мир ясно, по-детски прямо и не хочет, наотрез не хочет смотреть по-другому. А нам нужно теперь переламывать себя, чтоб голубое не казалось фиолетовым, а розовое бордовым. Нам нужно… дорасти до детства.
Да, да, да! Дорасти до детства.
В 30 лет обозвали папашей.
Мертвецом показался себе…
Эй, Фортуна, катись-ка подальше!
Я вернулся для жизни, к борьбе.
Я стою на вибраторе, на укладке сельди в бочки. Вокруг меня на палубе цеха полно пустых стодвадцатилитровых бочек с заправленными в них полиэтиленовыми мешками-вкладышами. Я беру одну и ставлю на площадку вибратора, креплю ее захватами, откидываю заслонку лотка, что расположен на уровне моих глаз, и по нему ртутной струей льется с конвейера рыба. Включаю свою «трясогузку» и, когда бочка заливается доверху, выключаю. Полную бочку кантую на транспортер, его рубчатая стальная лента медленно и непрерывно ползет рядом, в метре от меня. В конце ленты стоит парень, который принимает бочки от моего и двух других вибраторов и кантует их в сторону, к бондарям. Там мелькают бондарные молотки, зубила, обручи, донники. Рядом с ними со шлангом стоит тузлучник. Дальше трафаретчики орудуют валиками, смоченными в черную краску, оформляя, так оказать, титульную страницу нашего коллективного произведения с помощью круглых, по размеру почти с донник, трафаретных листов из плотной жести. За стрекотом «трясогузок» я не слышу даже бондарей, хотя вижу, как они от души машут молотками.
На днях я уронил в бочку свои часы, струя селедки их тут же завертела, и в мгновение они оказались погребенными в дрожащей ртутной массе. Останавливать конвейер, а тем более копаться в рыбе было некогда, я лишь мельком взглянул, как лихо забондарили мои часы, и улыбнулся, представив удивление продавщицы какого-нибудь сельпо на Брянщине или на Украине.
А часы были одни на каюту. Юра свои, говорит, еще в Невельске подарил невесте, когда улетал, чтоб не забывала. «Невеста» на его языке значит просто знакомая. В Магадане и на Камчатке, во Владивостоке и в Находке у него есть минимум по две «невесты», которые, если верить этому балагуру, любят его и ждут.
В море часы, впрочем, и не нужны. Как и календарь. Каждое утро в динамике на переборке раздается звучный щелчок, и привычный уже тенор четвертого штурмана вещает:
– Доброе утро, товарищи! Судовое время семь часов. Сегодня 13 августа, вторник. Команде – подъем!
Суббота ли, четверг или вторник – нам абсолютно все равно. У нас нет вообще понятия недели, а есть десятидневки. Каждая из них начинается тоже с «доброго утра», но с торжественной прибавкой. Четвертый, надуваясь, произносит почти Левитановым басом:
– Вниманию матросов-обработчиков! Сегодня… пересмена бригад.
После этого объявления четвертый обычно выдерживает полуминутную паузу и ликующе возглашает, взлетая до жизнерадостного тенора:
– По судну объявляется банный день!
Это значит, что пресная вода будет открыта не по расписанию, как всегда, а целый божий день, и прачки сменят нам простыни, наволочки и полотенца.
Такой вот радостный день был позавчера. А сегодня у нас рядовая ночная смена. В восемь вечера заступили, в восемь утра пошабашим. В полночь в столовой нас поят чаем. Но это опять же весьма условное название ночного разгула обжор. На бригаду в семьдесят человек выставляют кроме чая и хлеба с маслом трехведерную кастрюлю борща, что остался от ужина, и два противня – каждый площадью в квадратный метр – с запеченной селедкой. Борщ я по ночам не ем, а вот от селедки просто не в силах отказаться.
Ночной перерыв длится до часу. И пока бригада пирует в столовой, я выхожу покурить на палубу. Черное небо прозрачно, далекие созвездия равнодушно, не мигая, уставились на Землю со всеми ее морями и островами.
«Весна» стоит в нескольких милях от острова Завьялова. Видна коротенькая цепочка огней его рыббазы – миниатюрное земное созвездие. Под бортами у нас качаются на невидимой зыби четыре траулера, сдают улов. На палубе «Весны» стучат лебедки, перекрикиваются матросы. Грузовые стрелы развернуты – одна над нашей палубой, другая смотрит за борт. На тросах, на мощном гаке висит умное устройство – каплер; трубчатая рама и на ней длинная авоська из капроновой сети, стянутая понизу шкертом-шнурком. Суденышко отделено от «Весны» на толщину двух пневмокранцев. Лебедчик опускает каплер за борт базы и вешает его на фальшборт траулера. Тогда в борту его открывается специальное отверстие – шпигат, и рыба, которой завалена палуба, потоком струится в каплер, а ей помогают, поливая ее из шланга. Авоська вмещает ни много ни мало – две тонны сельди. Когда она повисает над бункером плавбазы, приемщик распускает шкерт, и раздутая авоська в несколько секунд худеет. А рыбу в бункере снова поливают забортной водой, чтоб она быстрей скользила по лоткам в цех, на посольные столы.
Час-два, и траулер уходит на промысел, чтобы через полсуток-сутки вернуться с новым уловом.
Под бортами у нас светло от прожекторов, и я долго не могу оторвать глаз от темно-малахитовой воды с загадочными пузырьками в глубине. Бесшумными летучими мышами над водой низко проносятся чайки-глупыши. Их называют так за доверчивость: они почтя не боятся человека и в буквальном смысле легко попадаются на удочку, заброшенную с борта кем-нибудь «ради спортивного интереса».
Некоторое время я занят глупышами, провожу параллели между людьми и птицами. Они тоже страдают от собственной наивности, чистоты и легковерия, они тоже из племени тех, кто ставит точки над «ё», думаю я. Потом ухожу на корму, подальше от шума и прожекторов. Ночь черная, и, ослепленный этой абсолютной чернотой, я озираюсь вокруг. И вдруг замираю, слыша трепет собственного сердца: на горизонте, вернее, просто на уровне моих глаз – мистичеокое голубое окно в небе. Его причудливые разводы – проталины слегка подкрашены снизу туманно-багровыми мазками. Это приполярная заря, призрачное окно неба. Оно так резко ограничено чернотой ночи, что кажется вырубленным в монолите черного мрамора.
До восьми утра перекуров больше не было. Рыба шла рекой. Стоишь у вибратора, как аист, на одной ноге, чтоб дать временный отдых другой, и думаешь о каюте, о нижней койке и больше ни о чем. Время от времени подходит Валя Иванов, бригадир. Я не в состоянии даже поднять глаз на него, но чувствую совершенно ясно, что он смотрит уже не на мою работу, а на меня, и не просто смотрит, а видит сидящего сейчас во мне маленького, сонного и обессиленного котенка. Он кладет мне на плечо руку, и от одного этого хочется заплакать или обнять его. Я поднимаю голову. В его усталых глазах – ободряющая улыбка.
– Нормально, – спокойно говорит он. И это слово внушает такую уверенность в себе, что, откуда ни возьмись, берутся силы, а вместо рук-плетей и ватных ног с удивлением ощущаешь теплое, работающее сердце в груди, и жизнь, которую минуту назад ты мнил беспросветной, неожиданно наливается, как зреющее яблоко, соком и красками.
В шесть утра Романиха, как зовут на «Весне» завпроизводством, уже на ногах.
– Что, гвардеец! – слышен ее крик возле тузлучников. – Мать твоя – женщина! Шланг перегнуть не можешь? Видишь, пистолет не держит, тузлук льется – перегни!
Через минуту она уже у посольного конвейера.
– Ну кто так делает? Кто, я спрашиваю?! Кто тебя учил столько соли сыпать?.. Ах, мастер! Где он, козел патлатый? Под хвост бы вам обоим столько соли!
Вслед за этим по палубе и по цехам разносится зычный глас спикера:
– Мастеру Козлову – срочно к посольной линии!
Тут же, у конвейера, Романиха «несет по кочкам» мастера, крестит его вдоль и поперек, не слушает робких оправданий и, наконец, божится сегодня же перевести в матросы-обработчики.
Только что откатив на транспортер полную бочку, я ставлю на вибратор пустую и слышу над головой:
– Спишь, крановщик? Это тебе не на кране… облака разгонять! – Романиха держит на ладони селедину с разорванными жабрами, которую я проглядел, что немудрено, когда десятки часов видишь перед собой не рыбу, а сверкающую ртуть, хлещущую сплошной струей из лотка. Я молча смотрю в глаза Романихе, они у нее ясные до прозрачности, чуть навыкате, с тем характерным бесстыжим наивом, по которому я научился почти безошибочно определять ярых ругателей. Меня впервые в жизни материт женщина, а я улыбаюсь, потому что чувствую еще на своем плече теплую тяжесть руки Валентина и слышу его сурово-нежное «нормально»…
В следующую ночь меня поставили на выливку полуфабриката. Селедку солят в два приема: пересыпают солью, заливают тузлуком и забондаривают в бочки, это – полуфабрикат, он семь–десять дней должен зреть, то есть выдерживаться при нулевой температуре, затем бочки вскрывают, рыбу высыпают (это и есть выливка) и после промывки возвращают в бочки, вновь заливают тузлуком, забондаривают, и это уже – готовая продукция.
Итак, я стою на выливке. Разбондаренная бочка подходит по транспортеру ко мне, и я вытряхиваю из нее селедку на резиновую ленту конвейера. На пути к вибраторам рыба принимает душ, ну а дальше следует то, что было у меня раньше. Премудрости посола со всей его терминологией – слой омыления, бестузлучка, температура в теле – постиг я гораздо позже. А сейчас я представлял собой деталь автомата, маятник с жестко ограниченной амплитудой колебаний: шасть влево, хвать полную бочку, дерг на себя, круть вправо, бух рыбу вниз, швырь пустую бочку в сторону. И так час за часом, час за часом. Уверен, что, подкати ко мне бочка с молоком или живыми котятами, я выполнил бы свою операцию так же четко.
Под утро Романиха снова подошла ко мне, постояла с минуту молча, что-то ей, видно, не понравилось. Она исчезла, а вместо нее появился старший мастер и перевел меня на транспортер готовой продукции – кантовать к бондарям бочки, идущие от вибраторщиков. Первым моим движением было – опрокинуть бочку, то есть после обычных «шасть» и «круть» сделать «бух» и «швырь». Остановило меня только отсутствие резиновой ленты перед глазами.
До конца смены Катерина Романовна еще раза два навещает меня. А уже в раздевалке-сушилке Валентин подходит и говорит:
– Завтра станешь на посольную.
И точно князь Потемкин, сказавший о царице «не приведи бог под бабой ходить», добавляет вполголоса:
– Что-то Романиха неравнодушна к тебе.
Новая ночь – новые перестановки. За смену я да и другие обработчики по пять-шесть раз меняем места.
Но мне ее придирки и причуды – как град о трехнакатную крышу землянки. Для всех же остальных Романиха – предмет и причина разговоров, горячих дискуссий, ссор.
– Вот ведьма! – ругаются одни.
– Что ты хочешь – у бабы климакс, – объясняют другие, – в эту пору они все чумные, как сентябрьские осы…
Дни проносятся словно чайки-глупыши за иллюминатором, ночи ползут одна за другой, как бочки по транспортеру. С привычным уже отупением по утрам сбрасываю с себя мокрую, всю в чешуе, проолифенку, стаскиваю сапоги, а в каюте гляжу в зеркало и даже не удивляюсь старой, вечно небритой роже, сонным и будто пылью запорошенным глазам…
Однажды утром я задержался после смены в сушилке, перекуривал с парнями и слушал, как рассуждали они о Романихе, которая перевела-таки мастера Козлова в, матросы-обработчики, перемывали кости и капитану, ее мужу, потому что он, по их словам, боялся ее, как Карась Одарку, во всем слушался и был, оказывается, на целых десять лет моложе. Говорили, Романиха женила его на себе в море, и он развелся из-за нее с молодой женой. Над этой великодержавной парой втихомолку посмеивалась вся плавбаза, а «Весна» из-за них, говорят, стала мишенью для насмешек в Невельске: «Тебя куда направили, на «Весну»? Ну, смотри не заглядывайся там на Катю Шахрай. Красотка? Спрашиваешь! Так что полегче с ней, а то капитан Шахрай ревнивый, может и шпангоуты твои пересчитать». На деле же, по рассказам «весновских» старожилов, случалось как раз обратное. Капитан приударил однажды за симпатичной буфетчицей, так Романиха ее в момент, говорят, схарчила и с первым же попутным пароходом в кадры отправила, а ему такой тайфун закатили, что он неделю из каюты не вылазил – пластыри заводил.
В таком вот духе протрепались мы с полчаса, и когда я шел в каюту, то встретил двух девчат из нашей бригады, уже возвратившихся из душа. Розовые, распаренные, у каждой на голове чалма из махрового полотенца, аппетитные, как шанежки, что судовая пекариха к чаю по воскресеньям пекла. Спешат по коридору, смеются, чирикают.
– С легким паром, ласточки! – выпалил я наигранно бодро.
Девчонки быстро взглянули на мою, видно кирзовую после смены, старую физиономию, и одна, что побойчей, звонко, мне в тон, стрельнула:
– Спасибо, папаша!
Они прыснули и бросились бежать, громко щелкая шлепанцами по синему пластику коридора.
И вот я снова в каюте изучаю в зеркале собственную лысину, она кажется мне вдвое обширней, чем всегда. Ухищрения расчески еще способны скрыть ее, но я безжалостно, пятерней обнажаю белый, незагорелый череп, с грустью созерцаю его. Ну что ж, говорю я себе, чем дальше человек отходит от обезьяны в процессе эволюции, тем меньше остается у него покровов…
Между прочим, экипажа на «Весне» две с половиной сотни человек, из них сорок женщин, В нашей бригаде их не больше пятнадцати. Столько же, говорят, в бригаде Насирова. Остальные – в обслуге: повара, буфетчицы, уборщицы. Я почти месяц на «Весне», а всех пока даже и не видел, не говоря уже о знакомстве. Сплетен, правда, наслушался чуть не обо всех. Умеют ведь мужики сплетничать! А на поверку только две из сорока жгли мосты за собой, причем одной посчастливилось в береговой жизни иметь двух мужей-пьяниц, второй – одного, но ей перевалило уже за сорок, и это была ее лебединая песня. Этих двух уравновешивали несколько недотрог, по мужской классификации, в их число входила и та красавица повариха, с которой мы познакомились в первый день на «Весне». Десять или двенадцать женщин плавали с мужьями: он – моторист или матрос, она, как правило, обработчица. Ну, а остальные избрали себе каждая по парню и держались особнячком. Я видел в столовой, как они всегда садились рядышком и, наивно пряча нежность, заботились друг о друге куда более трогательно, чем «земные» пары. В общем, сфера деятельности судовых донжуанов была ограниченной…







