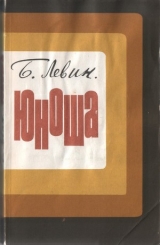
Текст книги "Юноша"
Автор книги: Борис Левин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц)
Ночью Нина и Варя спали на сеновале вместе с работницами и, прежде чем заснуть, долго разговаривали и рассказывали друг другу разные истории – смешные и страшные…
Нина удивилась, когда узнала, что Евфросинье всего девятнадцать лет. Она выглядела гораздо старше… Как же это так? У Нины есть девятнадцатилетние знакомые, и они совсем молодые. Ей самой через четыре года будет девятнадцать лет… Неужто и она так состарится?
– Наш век короче, – отвечала на это Евфросинья. – Мы и маленькими меньше вашего бываем. У нас другая работа, другая еда. Оттого и стареем шибче. Нам с вами не сразиться.
– С кем это – «с вами»?
– Ну, с вами… с барышнями… с городскими, – сказала беззлобно Евфросинья. – Сколько тебе лет?
– Скоро пятнадцать.
– Вот видишь, и ты еще совсем детеныш. А я в твои годы столько настрадалась – тебе во всей жизни этого не испытать… Ребенок был, помер. Второго сама скинула.
Когда Нина спросила: «Как это – скинула?», Евфросинья ответила:
– Не захотела рожать, вот и скинула.
Евфросинью в доме Хорьковых уважали за работу, за силу. Да ее прямота, строгое лицо, карий глаз и твердая поступь не позволяли с ней иначе обращаться. И сам хозяин Хорьков, который вообще-то покрикивал на работников, с Евфросиньей держал себя подобострастно.
В воскресенье Нина и Варя до восхода солнца отправились в лес, чтобы найти там корень «купена-лупена». Если этим корнем на ночь натереть лицо, то кожа станет чистой, мягкой и белой. Только надо брать «купену-лупену» в тот момент, когда восходит солнце, – иначе не поможет. Корень необходим был главным образом Варе, а то у нее действительно какое-то капустное лицо и лоб усеян мелкими прыщиками, точно пшеном.
Нина впервые видела восход солнца. Она на всю жизнь запомнила, как в тот час пели птицы в лесу. Ах, как пели птицы! Они теперь уж так не поют… Нет, почему же, они и теперь так поют. Только мы сами хуже слышим. И возраст не тот, и совсем другие заботы… А птицы – они и теперь так поют… Солнце всходило медленно, багрово. Нина не шевелилась. Она слышала все: и дрожание листьев на деревьях, и мычание коровы, и далекий шум колес по дороге, и шелест травы, и прибой в озере, и собственную дрожь в коленях, и шепот Вари: «Купена-лупена, попадись мне в руки! Купена-лупена, попадись мне в руки!..» Солнце всходило медленно, багрово, пели птицы. Варя, раздвигая руками мокрую траву, искала корень: «Купена-лупена, попадись мне в руки!»
Они нашли «купену-лупену», искупались в озере и возвращались домой с белыми лилиями и охапками незабудок, ромашек, метелочек и лиловых колокольчиков. Подходя к дому, они еще издали услышали крики и шум. Пьяная мать Вари размахивала кулаками перед лицом Евфросиньи, а та, в разорванной блузке, прислонившись к изгороди палисадника, легко отстраняла осатаневшую женщину. Вокруг стояли бабы и мужики, посмеивались. Варя убежала… Пьяная упрекала Евфросинью в сожительстве с ее мужем. Она материлась, рассказывала с подробностями, как их застала в пуне.
– Стерва, стерва! – выкрикивала она. Зеленые сопли текли у нее из носу, седые волосы выбились из-под платка.
Самого Хорькова тут не было. Она бесновалась до тех пор, пока не свалилась у палисадника и заснула.
Евфросинья собиралась уходить, молча укладывала свой сундучок. Нина спросила у нее, куда она пойдет.
– В экономию… Руки везде нужны. А тут не останусь. Я и так уходить думала… Кормят они плохо, а работы до черта…
Появившийся неожиданно Хорьков уговаривал Евфросинью остаться:
– Оставайся… Мало что пьяной вздумалось… Жалованья надбавлю…
– Да нет… будет, – отвечала она неохотно.
Потом Хорьков говорил, что сейчас самая уборка, и если она уйдет, то он ей не даст расчета.
– Ну и не надо, – не глядя на него, ответила Евфросинья.
Она взвалила на плечи красный сундучок, ушла.
Нина нагнала ее за деревней.
– Евфросинья, – сказала она взволнованно, – когда будете в городе, приходите ко мне. А вот вам на память! – и вытащила из волос розовую гребенку.
– Спасибо, – поблагодарила Евфросинья.
– А как это у вас вышло? – спросила Нина очень тихо и смущенно. – Вы в него влюбились?
– Да так вот и вышло… Какой там – влюбилась! – улыбнулась Евфросинья. – Дура я, вот что… Он еще с весны ко мне приставал. Надо было отказать, а я уступила… Посулил полсапожки… Так я их и видела. За работу – и то не заплатили…
Варя весь день не выходила из горницы. Нина тоже ей не показывалась на глаза.
А вечером на вороном жеребце приехали двое агитировать за «заем свободы». Они остановились у Хорьковых. Это были эсеры из города, как сообщил об этом привезший их волостной кучер. Эсеры по внешности резко отличались друг от друга. Один был явно добрый, а другой – злой. У доброго – буланая раздвоенная борода, чесучовая рубашка и очки. Он всем улыбался, часто снимал очки, хукал на стеклышки и протирал их лоскутком замши. При этом он говорил не то с укором, не то с одобрением: «Пылища-то, ай да пылища-то!» Наблюдавшие за ним мужики замечали: «Чего-чего, а этого добра у нас хватает». Злой был выше ростом, сух, выбрит, с черненькими воробьиными глазками, в наглухо застегнутой тужурке почтового ведомства.
Митинг устроили в пустом сарае. Добрый объявил, что слово имеет социалист-революционер товарищ Еремин.
В начале своей речи Еремин объяснил, что он и его товарищ объезжают деревни с целью растолковать крестьянам, как важно для крестьян покупать «заем свободы». Этот заем сберегает деньги, дает проценты и, кроме того, дает возможность выиграть сто тысяч рублей. Но, помимо всего этого, каждый крестьянин, покупая «заем свободы», выполняет свой гражданский долг.
– Мы будем бить врага пулей, штыком и рублем, и враг дрогнет, – заявил Еремин. – Вильгельм стремится посадить на нашу шею царя с Алисой, но свободный народ, совершивший бескровную революцию, этого не допустит. Покупайте «заем свободы»! Мы будем бить врага пулей, штыком и рублем!
Добряк говорил то же самое, что и Еремин, но иначе: искренней, бия себя кулаком по чесучовой рубашке, с неожиданными выкриками и замиранием голоса. Он часто повторял: «Во имя светлого будущего… Заря свободы… Оковы царизма… Святой идеал…»
Им обоим здорово хлопали. Когда стихли аплодисменты, кто-то спросил:
– Как насчет помещичьей земли?
– Сначала вернем землю, обагренную кровью наших братьев, – буланобородый взмахнул очками.
К столику пробрался на костылях одноногий инвалид с толстой красной шеей.
– Товарищи! Правильно сказал доктор, – он показал на добряка. (Тот смутился и заметил, что он вовсе не доктор, но все равно инвалид продолжал называть его доктором.) – Доктор правильно говорит. Сначала отберем землю, залитую нашей кровушкой, и я жертвую серебряную медаль. – Он дрожащими пальцами отцепил от гимнастерки рублевую медаль. – Да здравствует война до победного конца!
Под аплодисменты, стуча костылями громче обыкновенного, инвалид вернулся на свое место.
Вслед за инвалидом выступил солдат, босиком, в шинели внакидку. На левом рукаве шинели алела остроконечным углом буква «Л». Солдат сделал подряд несколько глубоких затяжек махорочной цигаркой, сплюнул и начал очень спокойно, обыкновенным голосом:
– Я вам вот что скажу: не надо покупать заем, а то не будет конца этой войне. Не слушайте этих хлюстов! – крикнул он, неожиданно рассердился, шинель сползла с плеч, упала на пол. Он остался в гимнастерке без пояса. – Им никого не жалко, – он тряхнул кудрявой головой в сторону приехавших. – Им надо всех перебить! В деревне остались уж одни бабы и калеки, а им все мало. Не слухайте этих хлюстов!
Добряк укоризненно закачал головой.
– С помещиками вот как надо сделать, – сказал солдат тем же обыкновенным голосом. – Отобрать у них немедля землю, а то опять останемся на бобах, как в пятом году. Землю сейчас же надо забирать. Немедля.
– Большевик! Он большевик, – со свистом произнес Еремин.
– Я ленинец! Никакой я не большевик! Мы против войны, и я ушел с фронта, чтоб вот тут такие, как вы, не понаехали и не обдуряли народ!
– Ты дезертир! Не слушайте провокатора!.. Демагог! – вскипел добряк.
– Сам ты дермакок, – произнес медленно солдат, оглядывая его с презрением. – А какой я провокатор?! Я тебе покажу, какой я провокатор! Гляди, доктор! – со страшной злобой крикнул солдат и поднял гимнастерку. – Видал? Это штыковая рана! Ты б прежде, чем решился пойти на штыковую рану, три раза об……!
Все засмеялись и громче всех – инвалид. Он схватился за живот от смеха, роняя костыли.
– Надо кончать войну, – продолжал босой тем же обыкновенным, грузным голосом. – Тут они говорили: «враг», «враг». Я видел этих врагов. Да и вы видели. Вон он сидит – Юзеф. Встань, Юзеф, покажись! – потребовал солдат.
Смущенный Юзеф, не выпуская изо рта глиняной трубочки, привстал. Все давным-давно знали австрийца Юзефа, но сейчас обернулись, внимательно его оглядывали.
– Вот такие и немцы, – продолжал солдат спокойно, – только что немного глаже и чище. У немцев народ исправней, а австрийцы больше на нашего брата похожи… Надо кончать войну! – воскликнул он и опять тише: – За победный конец только богатые, офицеры, тыловики и вон, – показал он на инвалида, – безногие. Ему что – его больше туда не пошлют! Он человек озлобленный. Это надо понимать. Вот ему и не жалко – пусть побольше калек.
Солдат поднял шинель, накинул ее на плечи, отошел от столика. Ему никто не хлопал, но вовсе не из-за того, что его речь не понравилась, а так. Возможно, потому, что крестьяне считали аплодисменты озорством, а тут дело выходило гораздо серьезней. Этот ленинец заставил многих задуматься. На некоторое время наступила тишина…
Нина слушала внимательно солдата, одобряла его речь, но когда он коснулся инвалида, ей показалось это грубым. Она даже зажмурилась, боялась смотреть в сторону инвалида. И очень удивилась, заметив, как солдат сел рядом с инвалидом и скручивал цигарку из его кисета. Инвалид ухмылялся как ни в чем не бывало и слушал то, что ему шептал солдат.
После митинга начались танцы. Появился гармонист, танцевали кадриль.
Еремин, Нина и Варя вышли было в сад, но Нина вернулась обратно в сарай – ей хотелось танцевать. Она обрадовалась, когда георгиевский кавалер, с усиками и улыбкой, как на картинке, пригласил ее на па-д’эспань. С ним танцевать было легко. Она все время только с ним танцевала. И па-де-катр, и польку-кокетку, и коробочку. Рядом с гармонистом сидел инвалид, ему приходилось все время подальше убирать костыли, чтобы не мешать танцующим.
– Как вас зовут?
– Меня? Ниной. А вас как?
– Зовите Васей.
Они танцевали вальс. Нина вся вспотела. С Васи тоже пот тек градом. Они вышли в сад, уселись на дальней скамеечке.
Звездное небо. Деревья. Темно и тихо. Вася держал Нину крепко за талию, а она не знала, как ей быть. Может быть, это неприлично.
«Вырваться и убежать? Но ведь это приятно… И потом – об этом никто никогда не узнает».
Варя ходила по саду, искала Нину. Уж несколько раз громко звала ее. Нина не отзывалась. Варя приближалась к скамейке. Нина отстранила руки георгиевского кавалера, пошла ей навстречу.
– Где ты пропадала? Я тебя ищу.
Вася подошел к ним, оглядывал Нину, подкручивал усики.
– А то пошли б, потопали!
Нина хотела идти танцевать, но за нее строго ответила Варя:
– Нам пора спать.
На нижней ступеньке крыльца поджидал их Еремин. Варя и Нина сели с ним рядом. Еремин жаловался на своего товарища:
– Я вот уже две недели разъезжаю с ним и больше никогда не поеду. Все время приходится спать в одной комнате, а он храпит. Совсем измучился. Не сплю. Он храпит с бульканьем, со свистом и хрипом… Тш!.. Прислушайтесь… Даже отсюда слышно.
Нога Еремина все время касалась Нининой ноги. Нина отодвигалась, но это не помогало. Тогда Нина встала и ушла, а Варя осталась с Ереминым. Нина слышала, когда ложилась спать, как Варя пела кудахтающим голоском:
Ночь над Севильей спустилась,
Благоухают цветы…
Папа прислал письмо Нине и десять рублей. Он писал, что по ней соскучился, что уже август, звал ее домой. Нина решила ехать, тем более что Варя все время беспричинно сердится. Нине это надоело.
Лицо у Вари, после того как она натерла его «купеной-лупеной», бесконечно шелушилось. Во всем она обвиняла Нину.
– Могла мне сказать.
– Да я же не знала, что так будет.
– Сама небось не натерлась…
Перед отъездом Нина купила белого льняного полотна на платье и вышивки в крестик. Она была довольна покупкой, примеряла вышивку то к шее, то к рукавам, то к поясу. Варя не одобряла.
– За эти деньги можно было купить чудный крепдешин…
Нину отвозил в город сам Хорьков. Мать Вари дала ей с собой корзиночку красных яблок. Нина переложила яблоки сеном, чтоб они в дороге не разбились. Подарок папе.
Они выехали вечером. Попадавшиеся навстречу деревенские бабы кивали головой. Некоторые выходили из дому, подбегали к телеге и пожимали на прощание руку. Нина всех их знала. Она привыкла к ним, ей было немного грустно покидать деревню…
Мужик мажет колеса дегтем – наверно, завтра тоже куда-нибудь поедет. Он поднял голову, крикнул: «Уезжаете?» – и опять нагнулся к колесам. Нина бывала у него в доме. Там очень воняет и грязно. У него много рыженьких детей, и он их никогда не зовет по имени, а так: «Эй, рыженький!», или «Эй, мальчик!», или «Эй, девочка!»
Вот и поле, где Нина собирала землянику. Прощай, поле, навряд ли еще увидимся…
Хорьков вез в город мешок первого льняного семени, ведро творогу и ящик масла. Нина накануне видела, как он вместе с женой солил, обливал водой, заворачивал в папиросную бумагу каждый брусок масла. Ящик был привязан сзади телеги. Хорьков нарочно выехал с вечера, чтоб меньше растаяло масло – днем жарко, и чтоб приехать с утра прямо на базар, а не заезжать в заезжий двор, где, наверно, пришлось бы уплатить двугривенный за постой. Мешок с льняным семенем, накрытый сеном, лежал под сиденьем у Нины. При выезде из дому Хорьков осведомился, хорошо ли ей сидеть, и больше с ней не заговаривал. Он сам сидел ближе к хвосту лошади, на краю телеги, опустив ноги.
Еще было светло, когда их остановил молодой человек с велосипедом. Он был длиннолицый, черноглазый и в новенькой студенческой фуражке.
– В город едете?
– В город, – ответил Хорьков, придерживая лошадь.
– Вот и меня возьмите.
Хорьков глянул на него, на велосипед, почесал пальцем макушку, приподняв картуз, и нерешительно сказал:
– Два рубля.
– Попросил бы три – дал бы три. Попросил бы пять – дал бы пять.
– А что ж, это верно, три рубля стоит, – оживился Хорьков.
– Теперь маком. Принципиально ни копейки больше.
Хорьков помог ему привязать велосипед к передку телеги. Не торопясь, шажком поехали дальше.
Студент сел рядом с Ниной, нарочито элегантно приподнял фуражку и, не то шутя, не то с достоинством, представился:
– Синеоков Дмитрий.
Нина улыбнулась и назвала себя.
– Учитель Дорожкин родня?
– Мой папа.
Узнав, что Нина проводила лето у своей подруги – дочери Хорькова, Синеоков рассказал, что он специально приезжал на велосипеде к своей бабке поправить свои денежные дела, но вот у него лопнула шина, и теперь придется в телеге трястись всю ночь. Его дед – еврей, николаевский солдат и вместе с бабкой живет в деревне. Всегда, как у Синеокова денежная катастрофа, он – айда к ним за субсидией. Дед богат, скуп, но его любит и никогда ему не отказывает в деньгах. У деда седые пейсы, ходит в лапсердаке, порыжелых сапогах, и на груди у него медали. В доме и теперь, после революции, висят царские портреты начиная с Екатерины. У деда много денег – наверно, наличными тысяч двадцать. Сыновей своих и бабку держит в черном теле. Что-нибудь не так – бьет палкой и выгоняет из дому. Синеокову нравится дед, хоть он и ростовщик, скряга и еврей.
– Любопытные отношения у него со своей дочерью – моей мамой. Моя мама, когда выходила замуж, приняла православие. Ей было тогда восемнадцать лет. И вот с тех пор он ни разу не пожелал ее видеть, бабушке запретил с ней встречаться… Однажды дед, приехав в город, пьяный подошел к нашему дому – а мы живем на Офицерской – и кнутовищем начал бить окна. При этом орал: «Люди, забросайте камнями идолопоклонницу!..»
– Почему идолопоклонницу?
– А че-ерт его знает… Сбежался народ. Еле уняли. Пятерых избил. Вот какой здоровый, а ему уж шестьдесят три!.. Мне определенно он нравится.
Папа Синеокова – присяжный поверенный. Он Синеокову тоже нравится.
– Такого картежника еще свет не видал, но парень он хороший. Не скупой. И когда у него бывают деньги – не жалеет. Бери, сколько хочешь.
– А зачем вам так много денег?
– Как зачем? Деньги – это все… Вы еще ребенок.
Про свою маму он сказал, что это самая красивая женщина в городе и за ней всегда волочится хвост молодых людей.
– Неужели вы никогда не встречали мою маму? Она почти во всех благотворительных обществах. Ее можно видеть в концерте, в театре. Она везде самая главная. Предводительница…
– Какая она? Опишите ее…
– Невысокого роста. Тонкая… Пожалуй, про нее нельзя сказать «красивая». Тут нужно другое слово. Изящная или, вернее, пикантная. Вот – пикантная. Мы с папой зовем ее «мальчишка-сорванец». К ней это очень подходит. Особенно когда она надевает амазонку и английское кепи, козырьком к затылку.
– Ну, а еще какая она?
– Веселая. Умная. Хорошо танцует. Гораздо моложе своих лет. Одевается со вкусом… Вот глаза у нее по-настоящему красивые. Маленькие, черные, и столько в них озорства и жизни… Особенно когда она их чуть-чуть щурит…
– Скажите, у нее на верхней губе усики?
– Не усики, а пушок. Милый пушок. Я всегда целую этот пушок, – нежно произнес Дмитрий.
А Нина с отвращением подумала об этом пушке, вспомнив ту даму, которая сидела в губернаторской ложе на лекции Милюкова.
– Когда приезжал Милюков, он у нас обедал и мама его просто очаровала. Он сказал, что у нее «редкий ум». Он сказал, что у нее «мужской ум»…
Нина удивилась – какое странное совпадение! Теперь не было никаких сомнений, что именно его мать была тогда в театре.
Про это Синеокову она ничего на сказала.
От месяца такой яркий свет, что все видно: шоссе и березы, густые брови Синеокова и белые камни по бокам дороги с черной верстовой отметкой. Все было видно, но все казалось призрачней, таинственней. Нина, запрокинув голову, вглядывалась в беспокойное звездное небо. Иногда с березы срывалась ворона и с шумом перелетала на соседнюю березу. Хорьков спрыгивал с телеги и шел рядом с лошадью, посвистывая и покрикивая. Он часто забегал назад и щупал ящик с маслом – цел ли.
Синеоков много курил. Когда он зажигал спичку, сразу темнело.
Он читал нараспев стихи и все время спрашивал у Нины:
– Откуда это?
– Я не знаю.
– Нет, скажите, откуда: Тютчева? Блока? Пушкина?
Нина называла наугад имя поэта.
– Ничего подобного, – отвечал Синеоков. – Это мое…
Когда луна
Свершает путь свой молчаливый,
Люблю в колодец заглянуть.
И – отскочить пугливо…
Он читал нараспев стихи и все время спрашивал: «Откуда это?» Нина, глядя в звездное небо, перечисляла поэтов: Алексея Толстого, Некрасова, Фета.
– Ничего подобного. Мое.
Тогда Нина тоже прочла нараспев, подражая Синеокову:
В народе пущена молва,
Что продана отчизна…
А в Думе жалкие слова.
И все растет, растет дороговизна.
– Откуда это? – спросила она.
– Не знаю, но это газетное.
– Ничего подобного. Это папино.
После того как она продекламировала еще одну строфу, Синеоков попросил, чтоб она читала дальше, а он будет отгадывать рифмы…
А Франц поднялся на дыбы,
Мечом заржавленным бряцая,
И вот затрясся от…
– Пальбы! – выкрикивал Синеоков…
Белград – жемчужина…
– Дуная! – еще громче кричал Синеоков в диком восторге.
Нине это понравилось. Она смеясь продолжала:
По знаку Сандерса-паши
Гром пушек будит Севастополь.
И турки, плача от…
– Души!..
Дрожат за свой…
– Константинополь!.. – Синеоков подпрыгивал и намахивал руками.
От его крика просыпались вороны на деревьях.
Хорьков передал вожжи студенту, а сам куда-то исчез. Вскоре он прибежал с тремя овсяными снопами. Он положил мокрые от росы снопы рядом с собой и накрыл пустым мешком.
– Вот проедем клевер – там уж наверно скосили отаву, – сказал он так, будто давно имел в виду этот клевер. – Надо будет, ребятки, соскочить и забрать немного клеверу. И вам мягче.
– За это судят, – заметил Синеоков.
– Темно ж, никто не увидит, – возразил Хорьков и взял у Дмитрия папироску…
Красть клевер было очень весело. И Хорьков, и Синеоков, и Нина, оставив лошадь прямо на дороге, два раза сбегали на поле и притащили много бубноголового, мокрого клевера. Только отъехали от этого места, как сбоку, слева, занялась заря.
– Богданович горит, – тревожно сказал Хорьков и быстрей погнал коня.
Зарево пожара разгоралось, слышны были людские крики и дальнее пение петуха. Навстречу скакали верховые. Они на полном ходу остановили лошадей.
– Где пожар?
– Богданович горит, – ответил им Хорьков.
– Давно эту суку спалить пора! – верховые свернули с дороги и прямо полем ускакали на пожар.
Стоя в телеге, ехали бабы и мужики. У них лошадь плохо бежала. Не останавливаясь, крикнули:
– Где пожар?
– Богданович горит.
– Какой? Молодой или старый?
– Старый!.. Имение молодого правей будет, – это уж Хорьков произнес про себя.
Синеоков пел песни. Он знал много песен, но пел плохо. Слишком громко. Вероятно, ему самому казалось, что он поет хорошо. Вдруг обрывал песни и на разные мотивы распевал:
– Ни-на! Нина-ни-на – Ни-на-на-а-а! Ни-на! Ни-на-ни-на-ни-на-на!
– Вы в какой-нибудь партии состоите? – спросила Нина.
– Конечно, нет. Хватит с меня, что мой папа кадэ и моя мама кадэ, а дед, безусловно, монархист… Мне предлагали записаться к эсерам, но помилуй бог от всех партийных дрязг. Я поэт. Я в партии искусства. Великая вещь – искусство! Я поэт. «Когда луна свершает путь свой молчаливый, люблю в колодец заглянуть и отскочить пугливо…»
– Вы знали Гришу Дятлова? Он был анархист.
– Дурак он был и… гордый. Ходил заплатанный, а зазнавался… Однажды я чуть его не побил. Играли у одного гимназиста в карты, а Дятлов азартный, и вот он идет по банку и ставит последние тридцать рублей. А я знаю, что у него финансы поют романсы: ведь он уроками жил… Мне проиграть тридцать рублей ничего не стоит… Я ему и намекни насчет его капиталов, а он в меня пепельницу… Хорошо, что меня удержали, я бы из него котлету сделал… С тех пор мы не раскланивались… Ни-и-на! Ни-на-ни-на-на-на-а!..
Синеоков рассказывал о своих знакомых барышнях. У него была своеобразная классификация девушек: «Эта – ничего себе», «эта – ломака».
– А я не люблю, когда баба ломается: и ох, и ах – «не тронь меня»… А вот с этой никогда не скучно. Она просто смотрит на вещи.
– Как это – «просто смотрит на вещи»?
– Вы еще ребенок. Вы птенец… Вот приедем в город, я займусь с вами. Вы мне нравитесь. Определенно нравитесь..
Нина хотела сказать: «Вы мне тоже нравитесь», но побоялась…
Сережу Гамбурга он также знал.
– Когда Сережа был у кадетов, он у нас дневал и ночевал. С Милюковым возился… Потом он перекочевал к эсерам, а сейчас – вот я его недавно встретил – он, кажется, уж большевик… Странный парень… Начитанный… Странный парень… Я его никак не раскушу. Сентиментальный… Писал стихи под Надсона. Слава богу, бросил…
Зарево пожара совсем побледнело. Светало. Стало свежо и прохладно. Нина с удивлением заметила, что небо серое, в то время как еще недавно оно было полно звезд. Спицы и руль велосипеда потускнели и стали такого же цвета, как небо. Синеоков как-то сразу стих, побледнел, и под глазами резко обозначились коричневые круги.
Вот опять кирпичный завод… Понуро шли люди на работу. Молочницы, согнувшись, несли бидоны с молоком. Толстоголовые воробьи копались посредине шоссе в навозе. Они взлетали стайками и садились на телеграфный провод. На огородах ярко зеленели кочаны капусты. У самого въезда в город обогнали воз с гусями: гуси тревожно кричали, вытягивая ввысь восковые клювы.
– Гуси! Какие симпатичные гуси! – воскликнула Нина.
Синеоков вздрогнул.
– Не спите. Сейчас приедем.
– Я умираю спать.
Он достал портсигар, постучал мундштуком папиросы по серебряной крышке и, позевывая, закурил.
Спина Хорькова то медленно опускалась вместе с вожжами, то порывисто выпрямлялась, и тогда он погонял коня, но конь все равно шел шагом…
Мужчина в черном пальто внакидку и в калошах на босу ногу открывал ставни. Из-под пальто виднелись шнурки от кальсон. С шумом падали болты. У булочной образовалась очередь. Нищенски одетые женщины с кошелками в руках стояли, прислонившись к стене…
Не доезжая базара, Хорьков остановил лошадь. Дворник подметал улицу. Пошли трамваи… Нина с трудом слезла с телеги – одеревенели ноги.
– До свидания, Нина. Обязательно встретимся, – Синеоков неожиданно для нее поцеловал ей руку. Откланялся и ушел рядом с велосипедом…
Дарья очень обрадовалась Нине. Обняла ее, поцеловала и назвала голубкой. Нина быстро вбежала к себе в комнату, она скучала по своей комнате, – и поразилась: на ее кровати спал Сережа Гамбург. Дарья не успела ее предупредить и теперь рассказала неодобрительным шепотом, что Гамбург у них частенько ночует, обедает и ужинает. «А с продуктами все тяжелее и тяжелее»… Из папиной комнаты послышалось знакомое покашливание, и Нина немедленно пошла туда.
– Мася, – приветствовал ее папа. – Приехала, моя овечка… Ну, иди ко мне. – И черные глаза Валерьяна Владимировича засветились.
Она сидела на кровати у отца и рассказывала ему про Синеокова, про пожар, и что она всю ночь не спала, но ей совсем не хочется спать, и как она возила навоз в деревне, и какой скупой папа у Вари, что он сегодня зайдет и надо будет обязательно накормить его обедом, и про то, как Варя натерла лицо «купеной-лупеной», и про митинг, и как она танцевала, что она страшно любит гармонь, что привезла корзиночку чудесных яблок, и что из десяти рублей, которые ей прислал папа, она истратила всего пять и купила себе изумительное льняное полотно на платье и чудесную вышивку… Нина тут же показала полотно и примерила вышивки.
– Идет мне, папа?
Папа улыбнулся.
– Ты совсем большая. И толстая девочка.
– Разве толстая? Смотри, какая тоненькая.
Нина вскочила, вытянулась во весь рост, обхватила
руками талию.
– Хорошо, мой ангел. Садись. Ты вовсе не толстая. Дай поцелую твои ясные глазыньки. Я по ним соскучился.
Нина гладила папины седые волосы и целовала надбровные дуги.
– Я по тебе тоже соскучилась. Ты мне даже раз снился… Да, почему у нас живет Сергей Гамбург?
Папа сказал, что Сережа Гамбург живет у них потому, что он ушел от своих родителей. Его родители спекулянты, и он ничего общего не желает с ними иметь. «Он иногда у нас ночует, пока тебя не было, а так он все время в казарме. Сережа сейчас на военной службе… Он умный и честный молодой человек…»
Когда пили чай, Нина много рассказывала о деревне. Ей казалось, что ее плохо слушают и папа, и Гамбург. Она почти дословно передала то, что говорили на митинге эсеры и мужики. Сергей хоть и смотрел на нее пристально котиковыми глазами (ему шла военная форма), но несколько раз переспрашивал одно и то же:
– Так что же сказал этот солдат?
Нина рассердилась.
– Я вам об этом три раза говорила. Больше не буду повторять.
Сережа ничуть не обиделся и обратился с каким-то вопросом к папе…
Родители Сергея Гамбурга нажили на войне сотни тысяч рублей. Его отец заготовлял сено для армии. Попутно он спекулировал мукой, мануфактурой, обувью, сахаром, граммофонными иголками – чем попало. Его отец и заведующий фуражным отделом «Северопомощи» Пиотровский и приемщик сена Черниговцев – это одна энергичная, дружная компания. Каждый из них получал равный процент. Прибыль была колоссальная, так как Пиотровский подписывал договоры только с Гамбургом и сам назначал цену на сено. Черниговцев принимал второсортное сено за первосортное. Они часто на квартире у Гамбурга, запершись в кабинете, грубо, как воры, делили добычу. На столе пачки кредиток, туго перевязанных шпагатом, запечатанных сургучом.
– Это вам, господин Пиотровский; это вам, господин Черниговцев, а это мне. Это вам, это мне, это вам. А вот эту мелочь дадим железнодорожным агентам.
Они прятали деньги по карманам и как ни в чем не бывало входили в столовую, где мадам встречала их с сияющей улыбкой на полных губах.
Ярко горела лампа, светился коньяк в графине, и кудрявились волосы мадам Гамбург, такого же цвета, как коньяк. Шелковый абажур – тоже коньячного цвета. Они выпивали по рюмочке и закусывали балычком, грибком, семгой, икоркой, помидорчиком, огурчиком, рябчиком и просто копченой селедочкой. Они говорили о войне, о революции, об успешном наступлении немцев и о том, что немцам помогают большевики, что большевики разложили армию и что Керенский зря с ними цацкается: их вешать надо, вешать, вешать.
Мадам Гамбург замечала, что цены на рынке растут с каждым днем и ни к чему нельзя подступиться. Ругали рыночных спекулянтов и возмущались: почему не вводят твердых цен на продукты… и пора «прибрать мужичков» а то они «скоро нам на голову сядут!»
Мадам Пиотровская и мадам Гамбург съездили в Харбин, купили кокаину, продали кокаин в Москве и на вырученные деньги погрузили мануфактуру на адрес «Северопомощи». За одну эту поездку они заработали по нескольку тысяч рублей.
Гамбург мечтал: если война продолжится еще хоть один год, то у него будет миллионное состояние. Он переедет в большой город, вложит деньги в верное дело – завод или фабрику… Он мечтал о собственной фабрике с высокими толстыми трубами и с вывеской золотыми буквами «Гамбург и сын».
Пиотровский мечтал: если война продолжится еще хоть один год, то он вполне сможет купить имение где-нибудь на Волге. И чтобы сад, и мельница, и степь… Пиотровский любил Волгу, русский пейзаж и этакую ширь…
Приемщик сена твердо решил, что у него будет доходный дом в Петербурге. Он сам родом оттуда… Конюшня и скаковые лошади…
Сергей Гамбург не любил своих родителей. Когда отец рассказывал, что он вчера у Синеокова играл в карты, то Сережа знал: он хвастается тем, что стал вхож в дом к Синеоковым. Присяжный поверенный Синеоков считался в городе аристократом. Когда мать говорила, что она вместе с мадам Синеоковой организовала «чашку чая» в пользу раненых, Сергей знал: она хвастается. С отцом играют в карты, а мать приглашают в благотворительные общества только потому, что у них много денег. Ему противно было наблюдать, как родители, заискивая и унижаясь, лезли в аристократию… В доме был такой же абажур, как у Синеоковых. Отец для своего кабинета специально переплел книги, которых он никогда не читал, под цвет шелковых обоев. В гостиной появился рояль, хотя никто не играл. У сестры Иды абсолютно нет никаких музыкальных способностей, но к ней аккуратно ходит учитель музыки… Приобрели тигрового дога ростом с теленка. Мать и отец и все в доме боялись этой большой, с человеческими глазами собаки… Устраивали «вторники» и приглашали избранное общество. Сергей великолепно знал, что все идут к ним потому, что у них можно хорошо покушать… Мать говорила «коклетки», Сергей морщился и, не поднимая головы, поправлял «котлеты». Отец говорил «сансонетки»…








