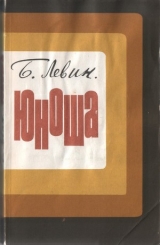
Текст книги "Юноша"
Автор книги: Борис Левин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц)
В следующий вечер Таня опять была в кинематографе, домой провожал ее Сладкопевцев. У самой калитки куплетист прошептал:
– Какие у вас чудесные волосы! Крашеные?
– Нет, – ответила Таня.
– Не может быть! – воскликнул пораженный Сладкопевцев, хотя ему было абсолютно все равно, крашеные они или некрашеные.
И когда, перед уходом, медленно, сквозь полосы лунного света, подносил к губам Танину руку, он вдруг, неожиданно, повернул руку ладонью вверх и сказал кокетливо, в нос:
– Сейчас мы узнаем все ваши тайны! Я же хиромант.
– Это очень интересно, – сказала Таня. – Я люблю гадать.
– Слушаюсь. Только я буду говорить все, – и, не выпуская руки, Сладкопевцев пронзил ее овечьим глазом.
– Все, все, – попросила Таня.
Она не знала, что куплетист Сладкопевцев при знакомстве с девушками всегда, как правило, начинал с разгадывания их характера по линиям рук. Это был его способ сближения с ними. Его прием. Не обладая богатой фантазией, куплетист говорил всем одно и то же.
– Вы музыкальная натура. Вы играете? Вы танцуете? Вы поете? – выпытывал он, нагнув над ладонью свою красивую голову.
– Да, я пою, – призналась Таня.
– Спойте, – умолял ее Сладкопевцев. – Я прошу вас, спойте.
Таня робко и очень тихо спела любимую песенку раввина о том, как девушка с глазами точно сапфиры заблудилась в лесу.
– Это восхитительно! – воскликнул Сладкопевцев. – Очаровательно! С таким голосом сидеть в этой дыре – преступление, – сказал он строго. – Вы знаете, что вас ждет? Вас ждет Большой театр, слава и цветы. У вас бриллиантовый голос!
Это была высшая похвала, на которую был способен куплетист.
Он встречался с Таней еще два вечера и уговорил ее уехать с ним в Москву. Ему нравилось, что он увозит с собой в столицу супругу раввина. Особенно его веселила мысль о том, как он будет об этом рассказывать своим приятелям.
«Они с хохоту подохнут, когда узнают, что я у раввина отбил любовницу. Честное слово, это шикарно…»
Раввин сразу осунулся и постарел. Он потускнел, сгорбился, и боевой румянец на его щеках потух. Раввин перечитывал все, что много раз читал раньше, все, что когда-то знал наизусть и давным-давно забыл. Теперь все звучало иначе, книги его раздражали. Он получил письмо от Тани. Она писала, что поет по радио, но денег ей все равно не хватает. Он послал ей денег и ответил, что из Америки для нее прислали джемпер и чулки и хорошо бы, если б она приехала домой. Потом еще было письмо: она вновь писала, что поет по радио, все хвалят ее голос, но денег ей все равно не хватает. Раввин послал ей денег, но рассердился и написал, что не желает быть дойной коровой и больше денег посылать ей не будет, что он собирается в Сан-Франциско; если она желает, то пусть возвращается, они вместе поедут в Сан-Франциско. Таня ничего не ответила.
Раввину показалось, что предыдущее письмо было слишком жестокое, и он написал ей трогательное длинное письмо. Это было ночью, когда стучал дождь по крыше и ветер толкался в дверь. Раввин писал ей о том, что он уже стар, что одной ногой стоит в могиле.
«Дни мои сочтены, мне осталось недолго, моя родная девочка, и не сегодня-завтра меня отнесут на кладбище. Мне так хотелось бы, чтоб именно ты, моя светлая, закрыла мои глаза, помутневшие от одиночества и тоски».
Раввин бил на жалость, но учитывал и экономические предпосылки.
«Я умру, и все мое добро пойдет по чужим рукам, а если бы ты была возле, все осталось бы тебе, мое счастье. Тебе пригодились бы в этой бурлящей жизни мои золотые часы и енотовая шуба. Мне осталось недолго, и я не поеду в Сан-Франциско. Я каждый день буду ждать тебя, мое солнышко».
Ответа не было. Седой раввин с ума сходил от любви к Тане. Он ни о чем другом не мог думать.
Он нарочно дольше спал днем и раньше ложился ночью, чтобы увидеть Таню во сне, но она не снилась.
– Танечка! – шептали осливевшие тяжелые губы раввина. – Танечка!..
Таня не писала. Иногда раввин представлял себе очень ярко, как Таня где-то в Москве, в компании молодых людей, поет и танцует. Он видит, как она сидит на коленях шалопая, и тот при всех тискает и целует ее.
Раввин свирепел, сжимал кулаки и задыхался от кашля.
Раз он пришел в мастерскую художника Яхонтова. Аркадия Матвеевича не было, в мастерской работал один Миша. В длинной синей сатиновой рубашке, измазанной красками, в сандалиях на босу ногу, он стоял у мольберта. Он не оглянулся на вошедшего раввина и не заметил, как тот качнулся и рукой зажал глаза. Только когда раввин подошел ближе к холсту и хотел пальцем дотронуться до голой спины Тани, Миша тревожно окрикнул:
– Тс-с! Она еще не высохла.
Несомненно, это была она, уходящая в голубых рейтузах голая Таня. Хотелось коснуться царапинки на ее лопатке, хотелось повернуть ее к себе лицом.
– Локти, – задумчиво сказал Миша про себя, нацеливаясь кисточкой, – локти у меня не выходят. Я над ними бьюсь уже третий день.
– Да, – почтительно и сочувственно сказал раввин, – а мне и так нравится.
Миша на это ничего не ответил и продолжал работать.
– Продайте мне эту картину, – сказал неожиданно раввин.
– Она не продажная, – ответил равнодушно Миша.
– Я вам за нее дам много денег.
– Деньги, деньги, деньги, деньги, – повторял без конца Миша, то отходя от картины, то к ней приближаясь. – Мне не надо денег, – сказал он просто.
– Что же вы хотите? Я вам все что угодно дам.
Миша молчал.
– Что вы хотите? – спросил еще раз раввин.
– О, я много чего хочу, – сказал Миша и, дотрагиваясь кисточкой до Таниного локтя, добавил опять как будто про себя: – Я этот портрет возьму с собой в Москву. Я над этой работой многое понял. Это учебная работа.
Когда вокруг локтя появилась сморщенная кожа, Миша отложил палитру и кисть, и, довольный, закурил.
– Разрешите и мне папиросочку, – попросил раввин.
– Пожалуйста.
Раввин закурил и робко сказал:
– Не увозите эту картину в Москву. Подарите мне ее, – попросил он жалобно.
– «Даришь» уехал в Париж, – сказал Миша чужой пошлой фразой, от которой сам всегда морщился.
– Подарите, – просил раввин. – Я вас очень прошу… Вы знаете, ведь я с Таней прожил четыре года, – унижался он.
– Мне какое дело! – сказал сердито Миша и повернулся спиной к раввину.
Раввин бродил по улицам, но не так, как раньше – важно и в застегнутом наглухо пальто. Раньше он передвигался, как длинный черный шкафик. Сейчас он бродил рассеянно и не узнавал знакомых.
Он уходил далеко в поле и лежал там на траве. Присаживался у ржи, снимал котелок. Здесь пахло хлебом и васильками.
Он первый раз в жизни купался в реке. Он уходил подальше от людей и учился плавать.
Старый молодой человек.
Он больше не перелистывал сухих страниц священных книг: они были ему так же противны, как беззубые еврейки, которые теперь готовили ему пищу и убирали комнаты. Он ежедневно читал газеты и сидел подолгу в библиотеке имени Карла Либкнехта. В бессонные ночи раввин вспоминал прожитую жизнь и был ею недоволен. В одну из таких бессонных ночей он написал письмо в райком комсомола и утром сам отнес его туда. Это письмо было напечатано в областной газете и потом перепечатано в «Безбожнике».
«Я родился в очень фанатичной семье. Отец мой, и дед мой, и прадед мой – все предки мои были раввинами, и я сам занимал раввинский пост в течение тридцати семи лет. И вот я пришел к заключению, что иудейская религия, как и всякая другая, является сторонницей имущих классов и, как всякая религия, идет против века. Я уже давно не верю в бога, но продолжал обманывать себя и других, потому что мне это было выгодно до сегодняшнего дня. Вся моя жизнь – сплошная ложь и лицемерие. Я не желаю больше так жить, о чем и довожу до всеобщего сведения, будучи в твердой памяти и, как никогда, в ясном рассудке. Вот я написал это письмо и сразу чувствую себя честнее и моложе на много лет».
Раввин купался в реке каждое утро. Он сменил котелок на летнюю светлую кепку и, возвращаясь с купания, на базаре покупал землянику и съедал ее по дороге. Он посещал футбольные состязания и полюбил пиво. Он твердо решил менять профессию.
«Я поеду в Москву, явлюсь в „Безбожник“ и стану агитатором. Лучше меня никто не расскажет про плутни религии и про все эти библейские застежки».
Он мечтал уехать в Москву и увидеть Таню.
Теперь, когда он ходил по городу, или бродил по полям, или лежал на кровати, он мысленно готовил огненные речи, полные сарказма и цитат из священных книг. Он полагал, что вот-вот кто-то его позовет, и он явится, как вихрь, готовый служить веку. О нем услышат в Праге, в Америке, и Таня вернется к нему.
В это время он захворал. Старики евреи говорили, что это божья кара. Он захворал от любви и одиночества. Доктор сказал, что раввин болен воспалением легких. Ему в кровать давали кисель и слабый чай. В квартире все время дежурили седые евреи и широкозадые еврейки. Они молились и просили бога, чтоб он продлил жизнь их несчастному учителю.
Учитель лежал в белой полотняной ночной рубахе и мечтал о Тане. О, он дорого бы дал, чтоб увидеть ее! Он сразу бы выздоровел, если бы она сидела вот тут, возле кровати. Он вспомнил, что она поет по радио. «Услышать бы ее голос – и только. Услышать бы ее голос». Он вспомнил, как недавно, проходя мимо комсомольского клуба, увидел в окна: сидели ребята в наушниках и слушали Москву. В провинции в это время только-только появились радиоприемники и антенны. Раввин написал записочку в райком комсомола. Он писал, что он не знает, к кому обратиться, потому он обращается к ним; что он болен и лежать в кровати очень скучно, и если только возможно, то нельзя ли хотя на время установить радиоприемник в его комнате.
Он не был твердо уверен, что просьба его будет исполнена, и поэтому с этой же просьбой обратился к дежурившим в его квартире старикам и старухам.
Через два часа был найден радиоприемник, но хуже обстояло дело с установкой. Обратились к радиолюбителю – комсомольцу Кольниченко.
Кольниченко сказал, что сделать это – пустяки, но он комсомолец и не намерен лазить по крыше и ставить антенны раввинам, а также попам, ксендзам, муллам и прочей религиозной бражке. Кто-то из верующих евреев сказал ему, что раввин болен и потом раввин уже почти не раввин, о чем, вероятно, известно Кольниченко, если он читал газеты.
Кольниченко смутился. Последнее время он газеты и в глаза не видал, полагая, что в мире и так все обстоит благополучно. В этом он, конечно, не сознался и заметил:
– Раз такое дело, я не прочь, но на всякий случай обратитесь в райком комсомола. Если там не будут возражать, то сделаю.
В райкоме ответили, что записку бывшего раввина получили и окажут содействие.
В этот день зашел в райком Миша. Член райкома Ясиноватых сказал ему:
– Вот хорошо, что ты зашел. Иди, поставь антенну раввину, радиоприемник у них там есть. Сделай это, Миша, а то от них уже делегация приходила. Ты же специалист и по радио.
Присутствующий тут же комсомолец Галузо тоже вмешался в это дело:
– Ты же, Колче, портрет его хахальницы рисовал, а теперь полезай на крышу и поставь старику свечку, – сказал он, вертя в руках пресс-папье.
Возможно, Миша согласился бы, но слова Галузо ему не понравились, и он категорически и грубо ответил:
– Всякой сволочи ставить антенны я не намерен.
– Ну, клоп с тобой! – сказал равнодушно Ясиноватых. – Кольниченко поставит, только надо его найти.
Галузо не успокоился и стал подначивать Михаила. Он вообще любил дразнить ребят, а особенно такого, как Колче.
– А если тебе райком прикажет, что ж, ты тоже откажешься? – спросил он.
– Откажусь, – твердо сказал Михаил.
– Попробовал бы ты у меня отказаться!.. Хотел бы я это видеть! – погрозил Галузо, подкидывая вверх пресс-папье.
– Вот же отказался, и ничего, – заметил Миша.
– А в самом деле, Ясиноватых, – обратился к члену райкома Галузо, оставив в покое пресс-папье. – Почему Кольниченко должен лазить на крышу, а не этот парень? Что он, барин?..
Миша дрожал от негодования.
– Я же ему говорил, он не хочет, – сказал Ясиноватых и вдруг, отрываясь от желтой папки с бумагами, что-то вспомнил и обратился к Мише: – Клоп с ним, с раввином… Но вот что, ты уже был в совхозе?
– Нет. Я и зашел сказать, что не могу поехать.
– Почему? Ведь еще пять дней тому назад тебе было об этом сказано?
– Я был занят.
– Сегодня же, Колче, поезжай в совхоз и проверни там это дело. Это надо спешно сделать. Мы над ними шефствуем, и они там ждут… Как же ты так не поехал?
– Я заканчиваю картину и готовлюсь к отъезду в Москву. Мне некогда, – важно заявил Миша.
– А тебе райком прикажет в порядке комсомольской дисциплины, – вмешался опять Галузо. – И еще неизвестно, пустят ли тебя в Москву…
– Кто меня не пустит? Не ты ли? – И Миша презрительно посмотрел на Галузо.
– А хоть бы и я. Вот поставим вопрос на ячейке и не пустим в Москву. И так ребят не хватает… Езжай-ка лучше в совхоз и не смотри на меня, как демон.
– Тебя это не касается, – вскипел Миша. – Захочу – поеду, а захочу – не поеду!
– Вон ты ка-ко-ой! – произнес протяжно Галузо и свистнул. – Слышишь, Ясиноватых, что он сказал? Ему плевать на комсомольскую дисциплину.
– Я этого не говорил, Галузо. Ты не преувеличивай.
– Ишь, какой гордяк нашелся!.. Вот прикажет тебе Ясиноватых – и поедешь в совхоз, и на крышу полезешь, и в пекло полезешь, если ты настоящий комсомолец, – сказал Галузо нарочно громко, чтоб слышал Ясиноватых.
– Настоящий ли я комсомолец, не тебе судить об этом, Галузо, – рассердился окончательно Миша. – А глупые распоряжения я выполнять никогда не буду, кто бы мне ни приказал.
– Почему глупые? – сказал вдруг удивленно Ясиноватых, отодвигая в сторону желтую папку с бумагами. – Ехать в совхоз это не глупое распоряжение… Вот что, Колче: мне это надоело. Сказано тебе ехать, значит, надо ехать, – добавил он строго.
– Никуда я не поеду…
– А тебе прикажут в порядке комсомольской дисциплины…
– Глупости, никто мне ничего не прикажет.
– Слишком ты умен, Колче… А вот я вам приказываю.
Сейчас говорили все трое.
– Я не поеду.
– Нет, поедешь…
– Заставят!
– Никто меня не заставит!
– Райком тебя заставит!
– Я вам приказываю, товарищ Колче, в порядке дисциплины.
– Я сказал – не поеду, и не поеду. Мне надо дописывать картину, и я собираюсь в Москву.
– Тогда поставим вопрос о вашем пребывании в комсомоле…
– У такого, как Колче, давно надо отнять билет.
– Возьми его! – крикнул Миша и дрожащими руками вынул из верхнего карманчика гимнастерки комсомольский билет и швырнул Галузо.
Галузо осторожненько взял билет и передал Ясиноватых. Тот молча спрятал его в письменный стол и злобно посмотрел на Мишу.
– Можете уходить!..
Миша хлопнул дверью…
Вечером Кольниченко полез на мокрую, скользкую крышу, под которой умирал раввин, и поставил антенну.
Раввин был несказанно рад, когда к его ушам прилепились наушники.
– Чтоб тише! – строго попросил он присутствовавших за дверью стариков и старух.
Сначала услыхал он далекую музыку, а потом – ничего.
«Услышать бы ее голос», – подумал раввин. Но он ничего не слышал.
– Тише!..
И вот опять музыка. Музыка кончилась, и сейчас кто-то поет. Это голос Тани. Несомненно, это поет она. Это поет Таня о девушке, которая заблудилась в лесу. Страшно ночью в лесу. У девушки глаза, как сапфиры, и она ночью в лесу. Раввин зажмурил глаза от наслаждения и увидел Таню. Вот она возле. Вот ее волосы – редька в меду. Наморщенная кожа у локтя. Она нагнулась над ним. Она дышит ему в лицо. И оттого, что она нагнулась, он видит светлую полоску, разделяющую груди. Груди шевелятся под блузкой, как белые голуби. Теплые голуби, с розовыми клювами. С ума сойти, так хочется их тронуть!..
– Я слышу ее голос, – прошептал раввин.
Самая истеричная старуха, стоявшая ближе всех у двери к замочной скважине (ей давно хотелось плакать), всплеснула руками и вскрикнула:
– Он слышит голос своей матери!
Все ворвались в комнату раввина. Плакали, ломали пальцы и извивались в горе. Один из стариков подбежал к раввину с какой-то бумагой и пером, обмакнутым в чернила.
– Подпишите, – умолял он его, – подпишите!
Это был давно заготовленный текст, где раввин должен был признать свои ошибки.
Высохшей детской рукой раввин отстранил бумаги, приподнялся и, дрогнув бородкой, в отчаянии прохрипел:
– Пошли вон, дураки!.. Дураки…
Закашлялся и умер в наушниках…
В этот же вечер Миша рассказал Елене Викторовне все, что произошло в райкоме комсомола.
– Это черт знает что такое! – разозлилась на Мишу мать. – Как же ты бросил билет? Это ужасно!
– Сам не знаю как, – ответил печально Миша.
– Что ж ты теперь будешь делать? – спросила она испуганно и жалеючи его.
– Ничего, я и без комсомола не пропаду, – ответил Миша и вдруг неожиданно добавил: – Ты еще про меня услышишь, мама… Вот увидишь, – угрожающе сказал он.
Мать ничего не ответила.
«…Посмотрим, – грозил он неизвестно кому. – Мы еще посмотрим!» – думал он угрожающе и стоя у мольберта, и плавая в реке, и вникая в теорию квантов.
В школе и дома Миша себя чувствовал так, будто кругом враги и ежеминутно надо быть начеку. Надо спешить как можно скорей стать сильным.
В это время Миша, как никогда раньше, много трудился. Иногда, отрываясь от книги, он мечтал:
«К нему пришли Ясиноватых и Галузо.
– Мы погорячились, – говорят они, – давай замнем это дело.
– Что вы! – отвечает растроганный Миша. – Я во всем виноват. Разве так можно швыряться билетом? Дайте мне выговор. Строгий выговор с предупреждением, только не исключайте из комсомола.
– Никто и не собирается тебя исключать. Такие образованные комсомольцы, как ты, нам нужны…
– Я все время мучаюсь, – признается Миша. – Я не могу работать… Каждый день собирался в райком, но я боялся, что со мной никто там не будет разговаривать… Во всем виноват я один. Это и социально объяснить можно. Это индивидуализм…
– Брось, Михаил, – перебивает его Галузо, – это я виноват. Мне не надо было тебя подначивать. Давай лапу и помиримся.
– Ну и клоп с вами! – говорит добродушно Ясиноватых…»
Но никто не приходил – ни Галузо, ни Ясиноватых…
Миша прочел на доске объявлений в школе, что состоится открытое комсомольское собрание. В конце повестки дня: «Исключение из комсомола М. Колче. Информация члена райкома т. Ясиноватых». Миша почувствовал, как кожа на лице стянулась и побледнела. Он вернулся домой и заперся в комнате.
«Посмотрим, – грозил он неизвестно кому. – Еще пожалеете… Кто пожалеет? Ясиноватых? Да ему плевать. Он и не думает о тебе… Мы еще посмотрим!.. Кому ты грозишь? С кем ты воюешь? С кем ты сражаешься… Я не воюю. Я не сражаюсь. Я буду соревноваться… С кем? Конкретно – с кем? С Галузо? Это смешно. С кем соревнуешься? Скажи конкретно, с кем?.. С комсомолом… Это глупо, Миша. Это бессмыслица. Можно соревноваться с Галузо, с Ясиноватых, но с комсомолом! Это невозможно! Комсомольцы есть в Чили и в Праге. В Омске есть комсомольцы и в Гамбурге. В Сан-Франциско есть комсомольцы, в Чикаго, в Севилье, и в Лондоне. В Ельне есть комсомольцы, и в Курске, и в Каире. В Месопотамии есть комсомольцы?»
– Конечно, в Месопотамии есть комсомольцы, – сказал вслух Миша, медленно отошел от глобуса и лег на кровать.
«Всюду на земле есть комсомольцы. Они говорят по-немецки, по-французски, по-итальянски, по-китайски, по-японски, по-тюркски, по-грузински. Нет такого языка, на котором они не говорили бы. Как же ты с ними будешь соревноваться? Есть комсомольцы – врачи, инженеры, шоферы, астрономы, химики, физики, слесари, музыканты, философы, летчики, поэты, монтеры, конькобежцы, портные, сапожники, парикмахеры. Ну как же ты с ними будешь соревноваться? Это самые молодые, самые передовые люди на земле».
Миша вскочил с кровати и снова подошел к глобусу.
«В Австралии есть комсомольцы. В Африке есть комсомольцы, и в Монтевидео есть комсомольцы. Где Монтевидео? Вот Монтевидео».
Миша хлопнул ладонью по пузатому глобусу и поспешно вышел из комнаты.
На столе долго еще вертелся одноногий глобус, мелькая голубыми океанами и черными точками. И нет ни одной точки, где бы не было комсомольца.
На кухне Ксения пропускала сквозь мясорубку мясо. Мясо лезло оттуда густой красной лапшой.
– В Монтевидео есть комсомольцы… Я жрать хочу, как зверь, – сказал Миша и прямо от буханки отломил кусок хлеба.
Когда у Миши бывало скверное настроение, он много ел. Сегодня он заходил на кухню уже пятый раз.
– Зачем щиплешь хлеб? Ты бы ножом, – заметила недовольно Ксения.
– В Монтевидео есть комсомольцы, – не слушая ее, бормотал Миша.
Грызя корку хлеба, он вошел в комнату матери.
Елена Викторовна сидела за письменным столиком и аккуратненько переписывала вчерашний протокол собрания безбожников.
– Вечером меня будут исключать из комсомола, – сказал Миша, как показалось Елене Викторовне, слишком легкомысленно.
– Я не понимаю тебя, – возмутилась она. – Как ты можешь об этом спокойно говорить! Жуя.
– А чего мне волноваться? Я все равно туда не пойду. Пускай без меня исключают.
– Обязательно пойди, Миша. Непременно пойди! – заволновалась мать. – Если у тебя не хватит мужества пойти, я тебя уважать не буду.
– И не уважай, – спокойно согласился Миша и проглотил хлеб. – Чего ходить! Слушать, как будет издеваться Галузо? Очень мне нужно. Лишнее унижение.
– Ты должен пойти. Обязан, – сказала категорически Елена Викторовна и отложила в сторону ручку. – Поступок твой безобразен…
Затем она добавила серьезней, оглядывая Мишу не особенно дружелюбно:
– И ты знаешь, вся твоя недисциплинированность, твоя оторванность, весь твой анархизм – результат того, что в тебе еще много тенденций от старого, капиталистического…
– Мама, почему ты со мной говоришь этим газетным, казенным, противным языком? – перебил ее Миша.
– Можешь со мной не соглашаться, но грубости выслушивать я от тебя не намерена, – сказала обиженно Елена Викторовна и взяла ручку…
– О-о-о, – замычал Миша, схватился за голову, закачался. – Опять этот мучительный, учительный, нравоучительный тон! – и поспешно ушел к себе.
«В Монтевидео есть комсомольцы… Пойду на собрание и скажу им, что они идиоты. Меня нельзя исключать из комсомола. Ну как они этого не понимают? У меня можно отнять билет, но не мировоззрение. Я знаю историю борьбы классов. Я читал Маркса, Энгельса и Ленина. Меня нельзя исключить из комсомола. Все равно как нельзя исключить меня из жизни. Запретить мне умываться, пить, кушать. Это невозможно сделать! Ну как они этого не понимают? Нельзя меня исключить из комсомола. Меня надо рассматривать ни в связи с этим поступком. Меня надо рассматривать диалектически… И все будет не в твою пользу. Не в твою пользу. Не в мою пользу. Вот пойду на собрание, объясню им, и они со мной согласятся. Нельзя меня исключать из комсомола. Никак нельзя!..»
По дороге на собрание ему стало страшно. Если еще два часа тому назад он был уверен, что его не исключат, то сейчас было ясно обратное.
– Меня выгонят, – сказал он тихо и остановился.
Он не знал, пойти ему на собрание или не ходить. Ему стало страшно. Он зашел к Никите Кузьмичу. Миша хотел попросить Никиту, чтоб тот вместе с ним пошел на собрание.
Никита Кузьмич жил в первом домике, как идешь от больницы, у края дороги, а напротив – кузница. Как идешь от больницы, сразу за лесом – солнце, пни и поле. У пней растет земляника, в траве поскрипывают какие-то птицы. Поле уходит вправо, к реке, дорога круто поворачивает влево, перепрыгивает через мостик, вскакивает на гору и ровным шагом идет в город. В канаве ржавые ромашки. Стреноженный конь стоит как вкопанный; все ниже и ниже замшевая губа. Конь дремлет – возможно, ему что-нибудь снится. Возможно, ему снится вода, розовый клевер, дальняя дорога и выхваченный клок сена у убегающей впереди телеги. Возможно, ему снится молодость, теплая шея гнедой подруги. Его связали вожжами, свалили на землю… Человек с ножом нагнулся, мешком накрыли голову… Стреноженный конь как вкопанный, и все ниже и ниже замшевая губа. Конь дремлет, – возможно, ему ничего и не снится…
Среди высокой крапивы стоит нагнувшись нужник, будто приготовился играть в чехарду и хочет перепрыгнуть через домик, в котором живет Никита. В этом домике с трубой набекрень живут много семейств и много детей. На дороге весь день белоголовые дети играют в классы, прыгают на одной ноге и, когда проезжает автобус, шумной ватагой гонятся за ним, мелькая пятками. Пыль и визг. Когда-то и Никита белоголовым, пузатым ребенком подымал пыль на дороге, потом он учился в городском училище и на больших переменах дрался с реалистами и учениками из коммерческой школы. Желтокантные реалисты и зеленооколышные коммерсанты боялись Никиты: особенно им бывало страшно, когда они в новеньких мундирчиках, сияя лакированными козырьками и солнечными пуговицами, шли с гимназистками в лес по этой улице. Они боялись – вот из этого маленького домика выскочит огромный Никита и начнет бить морду. Зря они трусили. К этому времени Никита их сам боялся. Он знал, что за них заступятся и городовой, и учитель, и его же отец сдерет с него шкуру.
Отец Никиты, сапожник Кузьма, маленький и тощий, чрезвычайно больно дрался. У него были руки худые, но длинные и до того крепкие, что он ладонью забивал в стенку гвозди. Он бил Никиту, сестру Никиты Аделаиду и больше всех – жену. Он таскал ее за волосы, бил рашпилем по сизым икрам, и когда она рушилась на пол, он топтал ее тело, как булочник тесто, только мелькала его рыжая бороденка. Потом соседи обливали ее водой прямо из ведра. Иногда отец с восхода до заката солнца, не разгибаясь, сидел за верстаком. Изредка он выпрямлялся, выхватывал из консервной банки жменьку гвоздей, засовывал гвозди за щеку и стучал молотком. Вечером он разносил починку заказчикам и возвращался домой поздно.
В эту ночь мать клала детей с собой в кровать (обыкновенно брат и сестра спали на полу). Она знала, что муж вернется пьяным, дети это тоже знали, и все в тревоге ждали его прихода. В ожидании отца они прикидывались спящими, и мама нарочно слишком спокойно и певуче храпела. Чиркая на ходу спичками, опрокидывая табуретки, он подходил к кровати и кричал: «Дрыхнете, стервы!» Никто ему не отвечал. Он сдирал одеяло, рвал на матери рубаху. Мать вскакивала, а Никита и Аделаида забивались за верстак у ведра, где вымачивалась кожа. Большая голая мать при свете лампадки напоминала косматую медведицу, вставшую на задние лапы. Никита, дрожа от страха, думал: навались сейчас она на отца – тот бы упал, а Никита подбежал бы сзади – и молотком ему по затылку. Он знает: если хорошенько ударить человека по затылку – там есть такое место, – то можно легко убить. А еще хорошо бы сейчас зажечь дом и устроить пожар. Но мать не наваливалась на отца, она только закрывала руками лицо и ревела. Сестра мелко крестилась на лампадку, билась лбом в пол.
Никита затыкал уши и зажимал глаза, чтоб не слышать крика матери. Какие это были страшные ночи, и как страшно кричала мать! Когда умер отец, Никита не понимал, почему так горько плачут мать и сестра. Радоваться надо, что наконец он умер. Радоваться надо.
Вскоре умерла и мама. Соседки обмывали потухшие черные синяки на ее теле и изумлялись, до чего вынослива была покойница.
Аделаида и Никита переселились в меньшую комнату – окнами на огород и на нужник. Аделаида была старше. Она работала мастерицей в белошвейной мастерской мадам Рохлиной и очень была довольна своей судьбой. Иногда она говорила:
– Вот, Никита, кончишь училище, поступишь куда-нибудь в писаря, женишься, будем жить вместе, и я буду обшивать твою семью.
– Ты сама выходи замуж, – предлагал ей Никита.
– Меня никто не возьмет: я – бесприданница. А за вдовца или калеку выходить не хочется, – по-взрослому рассуждала тринадцатилетняя Аделаида.
О хозяйке и заказчицах она всегда рассказывала восторженно:
– У моей хозяйки вчера был день ангела, она меня оставила мыть посуду и гостям дверь открывать. А когда все разошлись, она мне вынесла кусок пирога. До чего сладкий пирог, Никита! Я и тебе приберегла.
И она доставала из каких-то тряпочек кусочек пирога. Никита не ел. Ему были противны хозяйка, сладкое тесто и сестра…
– Вчера к нам в мастерскую приходила одна невеста, сама маленькая, фигурка у нее тоненькая, вся такая миловидная, и заказала из темно-красного батиста ночные рубашки с мережечкой…
– Замолчи ты, – перебил ее Никита. – С…л я на твою невесту.
Никита не стал писарем. Надо было зарабатывать, он бросил училище и поступил в слесарную мастерскую. Аделаида не отчаивалась. Она говорила о том, что Никита поедет в Петербург, поступит на завод и будет там работать токарем по металлу.
– Токари большие деньги получают, я узнавала. Ты женишься, выпишешь меня, будем жить вместе, и я буду обшивать твою семью.
Аделаида мечтала купить в рассрочку швейную машину «Зингер» и обшивать семью брата.
Никиту раздражала сестра – ее веснушчатое лицо, соломенные ресницы, серебряная цепочка от крестика на индюшечьей шее и этот лампадный запах льняных волос. В ситцевом платьице, приглаженная и покорная, с испуганными серыми глазами, она иногда бывала противна Никите, а иногда он ее жалел до боли.
Он был рад, когда его забрали в солдаты и отправили на войну. Аделаида плакала, но утешала себя тем, что Никита отличится на войне и его произведут в прапорщики. Война кончится, Никита останется офицером в армии, женится на городской барышне, и Аделаида будет с ними жить вместе, нянчить их детей и обшивать всю семью.
В семнадцатом году осенью Никита, в черной папахе, в австрийских ботинках и с японской винтовкой, вернулся домой. Он вернулся домой злой и усатый, отмороженные уши у него были забинтованы.
В комнате на стенке еще висел красочный портрет царя с царицей, со всеми дочками и единственным сыном. У царя добрые голубые глаза и золотая бородка. Царские дочки в розовых платьицах. Синеглазый царевич в матросской форме.
– Убери этих… – сказал Никита Аделаиде.
Она не посмела прикоснуться к «священным» особам.
Никита снял со стенки рамку, пальцами отогнул гвозди, вытащил оттуда царское семейство и, разорвав, выбросил в огород. Потом он кивнул в угол, где висела икона, и спросил у сестры:
– Все еще молишься?
И не дождавшись ответа, полез на стол и снял икону и лампадку.
– Ты что, большевик? – спросила тихо Аделаида.
– Я не знаю, кто я такой, – ответил раздраженно Никита, – но я против всей сволочной жизни. Я так жить больше не желаю.
Аделаида ничего не ответила и заплакала. Никита хотел ее ударить – до того она, плачущая, была противна и жалка, – но сдержался и ушел, не попрощавшись.
В городе по ночам стреляли, и ежедневно ожидали нападения банды бывшего местного реалиста, поручика Костецкого. Никита организовал отряд из фронтовиков и рабочих. Под наблюдением Никиты торговцы и домовладельцы рыли окопы за чертой города. У Никиты ворот гимнастерки был расстегнут. За широким ремнем воткнут наган. Никита ночевал на канцелярском столе в Совете.








