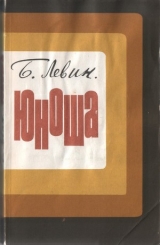
Текст книги "Юноша"
Автор книги: Борис Левин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 20 страниц)
Левашев не пошел с ними. А Нина и Миша долго сидели в кафе. Ели гренки с зеленым горошком, пили кофе со сдобными булочками и ели мороженое. Им было очень интересно разговаривать и слушать друг друга. Миша рассказал историю с Таней.
– Какая она? – спрашивала Нина.
– Таня? Упрощенная Онегина. И по внешности грубей, но ничего… Когда я ей говорил, что она упрощенная материалистка, Таня отвечала: «Ничего подобного, кроме сдобного».
Нина весело засмеялась.
– Потом она еще любит говорить: «Будьте ласковы… Ну-ну, будьте ласковы…» Она людей определяет: «хороший человек» и «нехороший человек». «Сладкопевцев – нехороший человек»… В общем Таня – добрый человек…
Вечернее небо цвета арбузной корки. Свежо. Они сидели в театральном садике и слушали, как седой нищий играл на флейте старинные песни. Флейта заглушала трамвайные звонки, сирены автомобилей.
– «Мы встретились с вами случайно…» Я люблю этот романс, – сказала Нина. – Я иногда с папой вместе пела.
– А какой у вас был папа?
– Он – «хороший человек», – улыбнулась Нина. – Нет, правда, он был хороший человек. Его белогвардейцы утопили. Перед приходом Красной Армии погрузили на баржу всех заключенных и утопили… Я любила папу. Но в нем жил такой пошленький либерализм. Знаете: «А впереди все-таки огоньки»?.. У меня брат был, Петя… А у вас есть братья?
– Нет. Я один. Папа, мама, Ксения и вот дядя Праскухин.
– У вас хорошая мама?
– «Хороший человек»… Серьезно, симпатичная. Вам бы она понравилась. Очень мягкая. И папа симпатичный. Он заведует психиатрической лечебницей. Его в городе называют «главный сумасшедший»…
– А я маму плохо помню… «Старый, толстый слон, слон, слон… Видел страшный сон, сон… Как крысенок… как цыпленок…» Нет, «как мышонок у реки разорвал его в куски». Это всегда пел папа перед сном… Вы мне, Миша, напоминаете Гришу Дятлова. Анархист. Его убили. Он в меня был влюблен… Мне нравился Сережа Гамбург и Сергей Митрофанович. Сережу убили во время Октябрьского переворота в нашем городе… Сергей Митрофанович умер от туберкулеза, уж когда пришли его арестовать белые. Очень страшно было… Вот интересно: Сергей Митрофанович – папин товарищ, почти одних с ним лет, но насколько Сергей Митрофанович был моложе папы!..
И Нина сказала, что, живи сейчас Сергей Митрофанович, она уверена, что он был бы такой же молодой, хотя ему теперь было б больше пятидесяти.
– Что ж, Степан Халтурин, как пишет Покровский, шел на четверть столетия впереди своего века… Молодость социальна.
– А вы комсомолец, – спросила Нина, – или коммунист?
– Я был в комсомоле, но меня этим летом исключили.
– Как это ужасно, Миша!.. Если б меня исключили из партии, я б, наверно, не могла так просто говорить об этом.
– Я это очень хорошо понимаю, – смутился Миша, – но я восстановлюсь. Вот я закончу картину. Потом у меня будет выставка. Стану известней и обязательно восстановлюсь в комсомоле, а может быть, примут прямо в партию. Мне бы хотелось – прямо в партию. Но я тоже не мыслю себе жить иначе.
Нина сначала не хотела идти ночевать домой. Миша предложил ей переночевать у него.
– Уступлю вам свою комнату, а сам переночую у Пингвина… Вот еще с Пингвином вам надо познакомиться. «Любопытный экземпляр», как он любит выражаться.
– Нет, Миша, лучше я пойду к себе… Надо объясниться с Владыкиным. Зачем затягивать?.. Как это все противно! Ой-ой!.. А завтра после работы я к вам приду. Посмотрю ваши картины.
Миша проводил Нину до дому.
11
Владыкин встретил Нину свирепо:
– Где ты пропадала? Тебе было известно, что я приеду. Все время ждал! Остался без обеда. Не пойду же я один обедать. Единственный раз в выходной день, когда хочется с женой пообедать…
Нина молча сняла пальто. По ее лицу Володя увидел: что-то случилось.
– Откуда цветы? – спросил он придирчиво, войдя к ней в комнату.
– Миша Колче принес, – солгала Нина. – Но вот что, Володя, – начала она как можно спокойней, – вот уж год, как ты живешь с Онегиной… Об этом знают все… И твои друзья – Фитингофы, Синеоковы… Так вот что, Володя, я с тобой больше жить не намерена. Как обменяю комнату, перееду. И больше нам разговаривать не о чем… Иди к себе… Мне неприятно тебя видеть…
Владыкин стоял посреди комнаты, бледный, и часто мигал глазами.
– Нина!.. – произнес он жалобно. – Ну, я виноват… Ну, я действительно виноват. – Он приблизился к кровати, на которой лежала Нина. – Честное слово, я был пьян… И черт ее знает, как так случилось… Но она так в меня влюблена… Мне на нее абсолютно плевать. Она мне абсолютно не нравится… По-настоящему только тебя одну люблю… Честное слово…
Владыкин неожиданно стал на колени и стал целовать свесившуюся с кровати узкую белую руку Нины. Она отняла руку.
– Хочешь – ноги твои поцелую, – и он действительно поцеловал Нинину коричневую туфлю. – Делай со мной, что хочешь, Нина. Но только не это. Я без тебя погибну. Ты моя сила, Нина… А помнишь, как мы голодали? Помнишь, когда я еще был неизвестен, помнишь, ты приходила с холода и я отогревал твои ноженьки… Помнишь?.. А теперь ты меня гонишь, – всхлипывал Владыкин. Он плакал. – Я только тебя люблю… Я буду работать… И только тебя…
– Ты никого не любишь, – сказала задумчиво Нина. Она привыкла к слезам Владыкина: кроме раздражения, они у нее ничего не вызывали. – Ты только себя любишь, Володя… Да встань! Не хлипай!.. Но вот скажи, пожалуйста… – Она вскочила с кровати и теперь стояла у полки с книгами. – Скажи, пожалуйста, просто любопытно, зачем ты всем говорил, что я «похварываю»? Сволочь! – неожиданно резко крикнула она. – Ты меня унижал перед Синеоковыми и Фитингофами. Ты меня унижал…
Нина дрожала от негодования.
– Га-а! – закричал Владыкин. – Вот оно! Ревнуешь! Бабская буза! А еще коммунистка! Вот оно – сказывается твоя буржуазность!..
Нина, сдерживая негодование, старалась объяснить Владыкину, что это вовсе не ревность. Ведь она его товарищ, а он ее обманывал. В браке коммунистов самое главное – товарищество. Если бы он ее бросил, ей было бы тяжело, неприятно. Вот это и был бы тот остаток старых чувств, о котором он говорит. Но в конце концов она бы поняла это.
– Ты обкрадывал меня, как мародер. Ты помимо моей воли ставил меня в унизительное положение. Больная жена цепляется за своего мужа, который давно любит другую… И по отношению к Онегиной ты поступал подло. Она никогда не узнает, что я искренне возмущена не только за себя, но и за нее.
Но то, что Миша понял сразу, Владыкин никак не мог понять. Он продолжал бушевать.
– Два раза был у Онегиной. Скандалы закатываешь! Никуда отлучиться нельзя… Ревность!.. Недаром все говорят, что в тебе много еще буржуазных чувств…
– Разве так ревнуют?.. Ты меня предал… Понимаешь, ты предал!
Нине очень хотелось, чтоб он это понял.
– Откуда ты знаешь? И вообще откуда ты знаешь про историю с Онегиной? Это сплетни…
– Уходи, – сказала Нина. – Мне с тобой не о чем разговаривать…
Владыкин с видом несправедливо обиженного и оскорбленного молча вышел. Нина замкнула на ключ комнату.
Громко ругаясь, чтоб Нина слышала, Володя оделся и так хлопнул дверью, что с верхней полочки вешалки слетела одежная щетка.
Он пришел к Онегиной. Ирина Сергеевна ждала его в малиновом бархатном платье, в том самом платье, в котором она его встретила год тому назад. Стол был накрыт на две персоны. В комнате было полутемно. Горела настольная лампа под шелковым синим абажуром.
Владыкин шумно стал есть и пить…
– Ты понимаешь, Иринка, какое дело, – говорил он, наливая себе рюмку. – Я приехал, а дома буза… Нинка все узнала… У тебя нет горчицы? Ревнует! Боже мой, что делалось!.. Она бешено ревнует… Какая-то сволочь все ей рассказала… За такие дела надо морду бить… А ты чего не ешь?
– Письма она тебе не показывала? – спросила Ирина Сергеевна.
– В том-то и дело, что нет у нее никакого письма… Никаких доказательств… Если б они были, она бы их сразу мне выложила… Да откуда им быть… Я, конечно, – все отрицать. А она не верит… Я признался, что с тобой встречаюсь, но больше ничего.
– Неужели она тебе не показала письма?..
– Да нет у нее никаких доказательств… Что теперь делать?.. Ругается и хочет разводиться.
– А ты не живи с ней, Володя. Не живи с ней, Володя, – и Ирина присела к нему в кресло. Прижалась к нему. Гладила его коротко стриженную голову, целовала бурую шею. – Я умоляю тебя, Володечка… Мой любимый, мой муж… Живи со мной… Видишь, она тебя гонит… Уходи от нее. Уходи!
– И не думаю, – сказал Владыкин, отшатнулся и закурил.
Ирина Сергеевна села напротив, перебирала пальцами складки синего абажура.
– И ты, Иринка, выбрось из головы, что я на тебе когда-нибудь женюсь. Ты часто ко мне с этим пристаешь. Этого никогда не будет. Это я честно говорю… И зачем это тебе?.. Этого никогда не будет. Нет, ты об этом и не думай… Выбрось из головы…
Ирина Сергеевна отодвинула тарелки, положила золотую голову на руки и не спускала глаз с Владыкина.
Он докурил. С присвистом высосал пищу из зубов и встал.
– Я побегу, Иринка… Вот несчастье… Теперь, наверно, недельки две, а то и больше, не придется тебя видеть… А то Нинка, знаешь, сумасбродная, – даже с некоторым удовольствием сказал он. – Еще в самом деле выкинет какой-нибудь номер… Ну, прощай, Ируся… Все, что надо, передавай через Синеокова.
Владыкин вытер салфеткой жирные поросячьи губы, вновь закурил, поцеловал Иринин подбритый затылок, сказал: «Не хандри, Ируся» – и поспешно ушел.
Ирина Сергеевна еще долго продолжала сидеть вот так за столом, положив голову на руки.
– Ирине Онегиной вторые роли… Огни и чужая жизнь…
Ночью она отравилась.
12
С декабря до конца февраля в Москве стояли жестокие морозы. Сибирский антициклон.
Нина переехала в комнату Пингвина. Они обменялись комнатами. Вначале Нине было грустно одной в комнате. Как ни плох был Володя, она знала, что «в доме есть муж». Защитник. Хотя Нина не могла вспомнить ни одного случая, когда Владыкин ее защищал. Наоборот, – почти всегда он ее предавал. Почему же так грустно? Привычка? Возможно, и это. Общественное положение Владыкина? Конечно, и это… «Ведь мало кто догадывается, что он слаб и подл. Многие завидовали. Думали – я счастлива. Муж – известный художник… Потом все-таки он меня любил… А как живут другие? Еще хуже… Но главное – в доме есть муж. Защитник. Охранная грамота. Опора в жизни… Как много во мне еще старого!.. Опора-то давно подгнила и еле держится на ногах. И главное вовсе не это… Главное – это собственная незащищенность, неуверенность и слабость. Вот откуда – страх и тоска… Я презираю себя за эти старые рабские чувства…»
Первое время Нина грустила. «Душа болит», – говорила она… Ей страшно было проезжать мимо того дома, где она прожила шесть лет. И трамвай буква «В», который привозил и отвозил ее на работу, теперь стал чужим. «И как грустно проезжать мимо того дома, где прожила шесть лет. Хотя было много плохого, но было же и хорошее… Здесь была моя остановка, а сейчас надо ехать дальше…»
Однажды Нина по привычке слезла с трамвая на старой остановке и побежала. Только у ворот вспомнила, что уж больше здесь не живет. Все-таки поднялась на десятый этаж и позвонила. Ей открыл дверь Володя. Он встретил ее сухо. У него сидели Дмитрий Синеоков и Женя Фитингоф. Нина с удовольствием отметила, что на стене в комнате Владыкина висит ее фотография… Она прошла в свою комнату, где теперь жил Пингвин. Комната глянула на нее чужой, непонятной жизнью. Пингвин перенес сюда «уголок военного коммунизма» и мышиный запах старинных книг.
Нину не веселил ни «уголок», ни Пингвин.
– Эта роскошная небрежная позиция ироничности, по сути, ни к чему не обязывает. Пошла, реакционна, а главное – чрезвычайно легка, – говорила она Мише.
Михаил соглашался. Он во всем с ней соглашался. Он думал, что красивей Нины нет на свете, что умней Нины нет на свете. Нина – это та, о которой он давно мечтал. «С ней можно говорить обо всем. Она все понимает… В ней так много нежности. Ее глаза, как у ребенка, – свежие и ясные. Нина – это небо. Нина – это жизнь. Нина – это утро. Я без Нины жить не могу. С Ниной умирать не страшно».
– Нина, я в вас влюблен. Я без вас жить не могу.
– Милый мой, вы романтик. И не так уж я красива, и не так уж я умна. Я старше вас. Дурнею с каждым днем.
– Моложе вас нет на свете… Лучше вас нет на свете… Я недостоин вас, но я вас так люблю… Будем жить вместе?
– Вы просите моей руки? Вы делаете мне официальное предложение? – спрашивала Нина улыбаясь.
– Нельзя так шутить, – обижался Миша. – Честное слово, я без вас жить не могу… Вас никто так не будет любить, как я.
– Вы слабый, – отвечала на это серьезно Нина. – И я еще недостаточно сильна… Мы с вами завязнем. В вас много черт, которые мне симпатичны, но вы совсем незащищенный… Во мне тоже это есть. Во мне, к сожалению, еще многое претворяется не в деятельную энергию, а во внутренние страдания, – говорила Нина, выделяя слово «страдания». – Отсюда и поиски сильного человека.
– Вот я и буду этот человек в шляпе с пером. Или нет никаких надежд? – спрашивал Миша, жалобно улыбаясь.
Он рассказывал Нине все то, о чем много думал в доме своих родителей. Он говорил, как о реальном, обо всем том, о чем мечтал, вглядываясь в темноту, где за окном шумел больничный сад и мелькали огни в палатах параноиков и шизофреников. Он говорил о силе, о могуществе, о славе…
Заметив в журнале статью «О современной живописи», где была такая фраза: «Лучшие наши художники – Владыкин, Грюнзайт, Клевко и др.», – Нина спросила:
– В «др.» это вы, Миша?
– Я не буду в «др.», – с нескрываемым честолюбием громко заявил Миша. – Не пройдет и года, как я буду впереди всех. Вот вы увидите.
– Ну что я увижу? Петушок! Неказистый петушок. Как вас мама называла в детстве? Клоунчик… Ну не обижайтесь… Не надо так жалобно на меня смотреть… Он сейчас заплачет. Он не главный.
– Я буду главный.
Владыкин много раз приходил к Нине, пьяный и трезвый, и звал ее вернуться. Он писал ей трогательные письма, где было бесконечно много «А помнишь Ниночка? А помнишь?..» Вдруг ночью звонил по телефону. Говорил, что он погибает, что сопьется и что в этом она виновата. Нина его жалела, но, вспомнив предательство Владыкина, твердо решила никогда к нему не возвращаться. Всякий раз, когда Владыкин приходил к Нине, он у нее заставал Мишу… Он теперь с презрением и ненавистью смотрел на Михаила.
Мишу часто можно было встретить с Ниной. И Синеоков, и Женя Фитингоф, и Борис считали, что Колче находится под влиянием Нины. Миша холодно и враждебно здоровался с ними… Иногда Миша ездил к Нине в фабзавуч. Его удивляло, что ее называли «Нина Валерьяновна», хотя она и там была такая же задумчивая, простая, как дома. Только дома она выглядела более усталой и более медлительной…
Из всех Мишиных картин Нине больше всего понравилась «Первый звонок»… Картина была еще не совсем готова, но Нине он ее показал.
– На эту картину можно долго смотреть, – говорила она, – совсем не надоедает. Очень талантливо, Миша. Ведущая идея во всех деталях подчеркнута. Это очень правильно, Миша. Руки… Замечательно сделаны руки Свердлова, и они резко отличаются от рук председателя.
– Я этого хотел. Я над этим думал, – заметил Миша, дрожа от счастья, что картина понравилась Нине.
– Отчего вы дрожите? – спросила она.
– Это всегда, когда меня хвалят… Но когда вы хвалите, так это счастье! У меня, видите, слезы… И послушайте сердце… Слышите, как стучит? Я теперь работаю и думаю только о том, – лишь бы вам понравилось… После этой картины я буду работать по-иному. Я вижу все иначе! Я теперь буду так работать, чтоб вас потрясло. Чтобы вы так же волновались, как я, когда вижу вас… Я буду писать и думать – лишь бы вам понравилось.
– Вот это вы зря. Это очень мало, если только мне понравится.
– Мало! Для меня это все!..
Накануне Мишиной выставки в Москву приехала Аделаида. Она получила командировку в Москву за ударную работу. Аделаида привезла письмо от Елены Викторовны. Мама писала, чтоб он устроил Аделаиду у себя, помог ей достать билеты в театр и вообще показал бы Москву. «Только этого мне не хватало», – подумал раздраженно Миша. И с досадой обратил внимание на то, что вещи Аделаиды были уложены в мамином чемодане…
Аделаида в Мишиных услугах абсолютно не нуждалась. Ей нужен был только ночлег, так как достать номер в гостинице было невозможно. Она уходила с утра и приходила ночью, после театра. Не было дня, чтоб она не пошла в театр. Между прочим Миша за все время своего пребывания в Москве был только два раза в театре… Аделаида осматривала Мавзолей Ленина, ходила по картинным галереям, побывала в Музее революции, в планетарии. Она от всего приходила в восторг. Миша заметил, что она совсем не постарела. И удивлялся – откуда у нее столько энергии! «Вот тоже к разговору, что молодость социальна», – думал он с усмешкой, разглядывая соломенные ресницы Аделаиды и ее гладкие прямые волосы.
Она рассказала, что Елену Викторовну приняли в партию.
– Ее спрашивали про тебя.
– Что ж про меня спрашивали?
– Вот как это случилось, что сына исключили из комсомола, – сказала с некоторым превосходством Аделаида. – И про то спрашивали, как стрелялся. Все-таки мать должна была знать, – объяснила она правильность такого вопроса. – Пришлось покраснеть Елене Викторовне… Ну, а как у тебя с комсомолом? Не думаешь? Или не принимают?
Миша посмотрел на Аделаиду злобно.
– Думаю, – сказал он мрачно.
Теперь он боялся, как бы Аделаида не рассказала о том, что он стрелялся, Нине, с которой она успела подружиться и даже ходила осматривать ситценабивную фабрику. Он ни на минуту не оставлял их вдвоем.
В отсутствие Аделаиды Миша ее высмеивал в глазах Нины. Нина выслушивала это неодобрительно и замечала:
– В вас много пингвинизма. Это нехорошо, Миша.
На выставку своих картин он позвал и Аделаиду. Она вечером уезжала, и ему хотелось, чтобы, во-первых, посмотрела сама выставку, во-вторых, рассказала бы об этом дома. В день открытия выставки большей частью были художники и теоретики этого дела. Здесь был и Борис Фитингоф, и Женя, и Синеоков, и Владыкин. Они пробыли очень недолго и ушли… Картины, очевидно, интересовали, судя по тому, что возле них останавливались и громко выражали мнение. Мнения были не совсем лестные для Миши. У картины «Первый звонок», вокруг которой толпилось больше всего народу, шли ожесточенные споры. Кто-то доказывал, что вовсе не так надо было «дать» Свердлова. Его надо было поднять! Больше пафоса.
Аделаида тоже вмешалась в разговор и сказала, что она читала о том, как товарищ Свердлов открыл Учредительное собрание, ей представлялся товарищ Свердлов гораздо красивей, а председатель отвратительней.
– Ну да, – поддержал ее кто-то, – надо было председателя снизить…
У других Мишиных работ тоже велись нелестные для него разговоры. Почему нет производственной тематики? Излишний психологизм…
«Ничего не поняли, – думал в отчаянии Михаил. – И зачем я согласился устроить выставку?..»
Вечером он с огорчением говорил об этом Нине:
– Конечно, когда разные Аделаиды вмешиваются в живопись! Что они понимают? Есть арифметика, и есть высшая математика… Они еще не дошли до высшей математики.
– Ну знаете, Миша, – рассердилась Нина, – такое барское отношение к зрителям по меньшей мере отвратительно… Это в вас говорит старое, буржуазное. Пошло так рассуждать. И откуда это в вас? Хотя, – прибавила она спокойней и задумчивей, – пошлость живуча, как спирохета: проклятие ее еще лежит на детях и внуках… В вас очень много от старого, Миша. И в ваших работах это тоже есть, – сказала Нина, хотя Мишины картины ей очень нравились. – Надо это изживать…
Михаил сидел подавленный. Ему казалось, что он никогда не будет главным и Нина никогда его не полюбит.
После выставки появилось несколько статей о художнике Колче. В одной статье Дмитрий Синеоков, который незадолго до выставки хвалил «молодого талантливого художника Колче», сейчас писал о «реакционности палитры» Михаила, о «неустойчивости мировоззрения» и «плохом выборе тематики».
– Я теперь с этими прохвостами, Синеоковым и Фитингофом, раскланиваться не буду, – говорил Миша. – Ведь мне они говорили совсем другое… Я с ними раскланиваться не буду.
– Надо отбиваться… – ответила Нина. – В вашем творчестве есть передовые тенденции, есть и отсталые. Критика все это должна выявить, чтоб помочь ухватиться вам за эти передовые тенденции… Надо отбиваться, Миша. А это глупо: «Не буду раскланиваться». Ну им плевать. Надо драться, только тогда сможем очистить искусство и жизнь от лакеев, от приспособленцев Синеоковых. Это дело не только личного масштаба, это в общих интересах…
В газете, в отделе «Хроника», петитом было напечатано, что в связи с назначением А. В. Праскухина начальником строительства «Книга – массам!» он отзывается из Ковно.
Это было для Миши неожиданно и немного тревожно.
Когда Борис Фитингоф прочел эту заметку, он неприятно поморщился.
– Такого сухаря я не назначил бы в «Книга – массам!»: там требуется творческий человек, а Праскухин – чиновник. Только засушит дело…
13
Александра Праскухина называли малоэмоциональным человеком только потому, что его чрезвычайно богатая эмоциональная натура была целиком устремлена в ту сторону деятельности, которую согласно традиционным поверхностным взглядам было принято считать сферой сухого и мозгового действия.
Есть люди вовсе не плохие, преданные общему делу, но их жизнь резко отличима дома и на службе. В канцелярии они благонамеренны, в меру улыбчивы, в меру суровы, в меру искренни.
Дома, где их окружают неслужебные стены и неслужебные лица, у них начинается другая жизнь. Они полнее дышат, свободней двигаются. Дома они душевней. Проще и понятней разговаривают.
Для Праскухина наибольшим выражением не только мозговой деятельности, но и эмоциональной была работа, борьба за то дело, которое он считал самым справедливым и неизбежным в мире. На работе он ненавидел, любил, негодовал, огорчался и радовался неизмеримо больше и ярче, чем в прокуренной своей одинокой комнате.
Сослуживцы иногда испуганно оглядывались, услышав в служебные часы внезапный короткий свист Праскухина. Этот свист обозначал, что его что-то особенно обрадовало – или в только что прочитанной им докладной записке, или в сообщении уполномоченного Центросоюза с далекой периферии. Свист происходил нечаянно и пугал самого Праскухина. Праскухин знал, что ему, ответственному работнику, не подобает свистеть при исполнении служебных обязанностей. Но он об этом забывал. Так же удивлялись, когда на деловом заседании сдержанный, бухгалтерского вида Праскухин неожиданно отчетливо произносил: «Сволочь!», имея в виду высокооплачиваемого сотрудника, не оправдавшего доверия. Почти всегда, со смущением подростка, Праскухин сознавал, что неведомо как сохранившееся в нем мальчишество несолидно и нерассудительно. Но, размышляя так, он все-таки продолжал это, тем более что среди тех товарищей, с которыми он был связан годами работы и борьбы и которые тоже согласно своему возрасту и положению должны были вести себя прилично, он сталкивался с проявлением этого самого мальчишества. Праскухин внутренне с восторгом часто чувствовал, что всей душой присоединяется к товарищам, когда кто-нибудь неофициально начинал говорить неделовыми словами все то, что правила делового приличия запрещали. Это же сочувствие он находил в них по отношению к себе.
Люди для Праскухина не проходили как статистические единицы, прикрытые анкетными листочками. Светло-серыми глазами, которые казались маловыразительными и скучными, он внимательно вглядывался в людей, стараясь оценить их пригодность. Недаром в бытность его в учраспреде областкома он считался одним из лучших работников. Он умел расспрашивать и выслушивать. Он умел так искренне, попросту поговорить с вами, покурить, что вы рассказывали ему все, никогда об этом не пожалев. Бывает так, что иногда разоткровенничаешься с человеком, а потом всю жизнь жалеешь. После разговора с Праскухиным вы чувствовали себя значительней, нужней в жизни и уверенней в работе. Во время таких разговоров, которые могли показаться со стороны обыденными, мелкими, Праскухин старался выявить в собеседнике все положительное, передовое, что могло послужить делу. Он не обидно, а по-товарищески расспрашивал о твоем здоровье, женат ли ты, интересовался личной жизнью.
Если в зимнее время по путевке учраспреда вам предстояла далекая командировка, он всегда заботился, чтоб у вас была теплая одежда, валяная обувь.
– Вы обязательно оберните ноги в газетную бумагу. Гораздо теплей. По опыту знаю… Захватите с собой больше табаку – будет чем угощать. Папироска – лучший проводник хороших взаимоотношений, – говорил он с улыбкой…
Помню, в начале девятнадцатого года к нам на астраханский участок в 299-й стрелковый батальон приехал Праскухин. Он только что был назначен комиссаром нашей дивизии и теперь знакомился с расположением частей. Я временно замещал должность политкома батальона. Комбат уехал в хозяйственную часть, и мне пришлось встретить начальство. Тогда в армии шла борьба за дисциплину, и я, как истый поборник ее, по всем правилам подошел с рапортом к Праскухину. Я не знал его в лицо и бойко отрапортовал самому высокому и здоровому парню в кожаном галифе, обвешанному полевой сумкой, биноклем, кавказской шашкой и маузером в деревянной кобуре с серебряными монограммами. Парень с самодовольной улыбкой на круглом загорелом лице спокойно выслушал и заметил по-украински, что он не комиссар дивизии, а «вистовой». Праскухин был именно тот, в ком я меньше всего предполагал комиссара дивизии: в гимнастерке цвета хаки, затянутый широким ремнем, и в простых сапогах.
Оставив вестового в штабе батальона, мы с Праскухиным пешком пошли на позиции. Мне было восемнадцать лет. Солнце стояло в зените. На ляжке у меня висел девятизарядный парабеллум. В бледно-голубом небе журчали невидимые жаворонки. Окопы находились от штаба на расстоянии почти двух километров. Мы шли и всю дорогу разговаривали. Больше говорил я. Приняв Праскухина за безобидного доброго малого, я поспешно дал ему понять, что мной прочитано изрядное количество политической литературы, что я разбираюсь в философских вопросах, а кое с чем и не согласен. Я вскользь намекнул, что мне давно известен «Капитал» Маркса, хотя этот труд был мне знаком лишь по названию. Я даже развязно сострил:
– О, этот «капитал» даст большие проценты пролетариату.
Праскухин слушал мрачновато, не перебивал меня, а, наоборот, как-то подбадривал ничего не значащими замечаниями: «Любопытно!», «Эге», «Так-так!» Я окончательно разоткровенничался, рассказал, что пишу стихи, и прочел одно свое стихотворение явно футуристического порядка.
– А Пушкин вам нравится? – спросил он.
– Конечно, нет, – ответил я категорически. – Он старомоден.
– Что вы! Старомоден? – удивился Праскухин, слегка дотронулся до моего плеча и стал горячо защищать поэта.
Я его плохо слушал, но меня поразило то, что он говорил о Пушкине так, как будто этот поэт сейчас продолжает жить среди нас. Больше того, по его словам выходило, что многие философско-лирические стихи Пушкина идут в ногу с нашим веком. Праскухин говорил, что уровень мировоззрения большевиков дает возможность в гении Пушкина видеть то, чего сам Пушкин и его друзья не видели. Я этого не понимал и всячески сбрасывал Пушкина «с парохода современности». Праскухин, не слушая меня, медленно, как бы с трудом вспоминая, читал: «Сулит мне труд и горе грядущего волнуемое море. Но не хочу, о други, умирать: я жить хочу, чтоб мыслить и страдать, и ведаю, мне будут наслажденья меж горестей забот и треволненья…»
– Какой удивительный оптимизм! – восхитился он, подняв голову.
Мы приближались к нашим окопам. Навстречу с визгом летели пули со стороны неприятеля. Некоторые пули падали недалеко от нас и зарывались в песок…
Вечером Праскухин уехал. На прощание он крепко пожал мне руку. Я был уверен, что понравился ему, и даже подумывал о том, что меня сейчас назначат комиссаром полка, а быть может, и в бригаду. Образованных политкомов в нашей дивизии не так уж много. И представьте себе, как я был удивлен, когда вскоре меня направили слушателем в партийную дивизионную школу. Туда обычно посылали красноармейцев, ротных политработников, но ни в коем случае не батальонных комиссаров. Это было чертовски обидно. Я хотел жаловаться Праскухину. Но, к сожалению, его уже не было в нашей дивизии: Праскухина перебросили на уральский фронт. И представьте себе, как я был удивлен, обнаружив случайно среди своих бумаг в дивизионной партшколе характеристику, данную мне Праскухиным: «Самонадеян. Политически слабо подготовлен»…
Спустя много лет я напомнил об этом ему. Он громко смеялся. И не то шутя, не то серьезно (кто его знает) заметил:
– А эта характеристика и сейчас не совсем устарела.
Он был немножко циником, Александр Праскухин. Этого меньше всего ожидали «иронисты» типа Пингвина, Бориса Фитингофа и им подобные. При нем, как при глухом, они даже разрешали себе ряд непозволительных выходок. Весело подняв брови, Праскухин большим и указательным пальцем разглаживал усы, позевывал, в то время как его мозг отсчитывал короткие и безжалостные оценки. До известной степени они были просты, слова его набора: «паразит», «бездельник», «скрытое невежество», а также и положительные: «преданный парень», «выйдет толк», «этот не предаст»…
Никто не видел, как Праскухин (это было в Краснодаре) однажды, оставив все свои дела, явился к заведующему жилищным отделом и потребовал немедленного вселения семьи партизана, несправедливо выселенной в худшую квартиру.
– Охота тебе было самому переться! Звякнул по телефону – и я бы все уладил, – говорил заведующий.
Зрачки Праскухина округлились и потемнели от гнева.
– Я тебе звякну! – произнес он с бешенством, но тихо, чтоб не услышали посетители в коридоре. – Еще поговорим на бюро! – и он кулаком, сжатым до боли в суставах пальцев, погрозил недоумевающему заву…
Назначение начальником строительства «Книга – массам!» Александр Викторович встретил не только пронзительным свистом, но залпом междометий. Его это очень обрадовало.
В этот вечер он дольше обыкновенного пробыл на катке. Лед был чистый и гладкий. Народу мало – будничный день. Праскухин то, согнувшись, точно велосипедист, сверкая коньками, обегал несколько раз круг, обставленный елками, то, заложив назад руки, деловито скользил по льду, словно полотер натирает пол, и вновь срывался с места и бежал сквозь ветер, нагоняя и обгоняя всех, то неожиданно подпрыгивал и, очутившись посредине катка, на одной ноге кружился с такой быстротой, что разбросанные на берегу огни прибегали и обвивались вокруг него золотым поясом.








