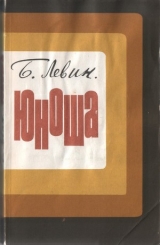
Текст книги "Юноша"
Автор книги: Борис Левин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)
– Говоришь – комсомолец… Праскухин? Слыхал. Это какой-то чиновник из Центросоюза. Он еще защищал эту сумасбродную идейку – «Книга – массам!». Я ему дал солидный отпорчик. Помню, помню… Валяй, Митя, сходи… Тебе полезно выдвигать новые кадры… Наживай политический капиталец, анархиствующая богемка, – одобрял с улыбочкой шурин.
Рыжеволосый Борис Фитингоф до сих пор сохранил снисходительно-иронический тон со своими родственниками. Про отца он говорил «мой буржуй», мать называл «старосветская помещица».
– Как вам нравятся мои буржуи? Их надо ликвидировать как класс.
Это не мешало Борису обнаруживать чрезвычайную домовитую заботливость и снабжать их всем необходимым, вплоть до билетов в театр. Больше того, нужным знакомым он старался показать, что родители – представители нового времени.
– А ведь мой старикан как-никак Карла Маркса одолел.
Борис говорил еще быстрей сестры Жени. Когда он говорил, казалось, что грохочут машинки «Ундервуд». Необычайный треск. Спешка. Вместо е – э, вместо а – у, вместо л – р. Многие буквы совсем пропадали.
– АдьмуйсариканкакнирикакКырлМарксодолел…
Борис старался привить знакомым как бы ироническое, но втайне глубоко уважительное отношение к своим родителям. Родителей и домочадцев он всегда приветствовал бодрыми выкриками: «Здорово, население!.. Народ!..»
В крови Бориса, так же как и у отца, жили микробы интриг, конъюнктуры и политиканства. Его отец – Давид Осипович Фитингоф – пользовался когда-то большим авторитетом среди черниговских помещиков. Продать имение, учинить купчую с мужиками – всегда звали Фитингофа. Он получал некий процент от помещика и некий процент от мужиков, и каждый из них полагал, что Давид Осипович защищает только его интересы. Он ссорил и мирил людей, а люди и не подозревали, что делались смертельными врагами только потому, что это в какой-то мере было выгодно Давиду Осиповичу…
Борис Фитингоф хотел вести в политике совершенно самостоятельную и независимую линию, но эта линия выразилась в ряде уклонов и крупных политических ошибок.
Вера в свою самостоятельность была укреплена почти с детских лет его положением маленького деспота в семье. Еще четырехлетним ребенком, если что-нибудь было не по Борису, он ложился на пол, лягался и ревел. Сквозь слезы веснушчатый мальчик наблюдал, какое это производит действие на старших; в зависимости от того он усиливал плач, прекращал или с новыми силенками возобновлял ляганье. На родителей это производило должное впечатление, и Бореньке ни в чем не отказывали. Они говорили о своем гениальном сыне, что он еще с детства проявлял настойчивость и самостоятельность…
Но взятая с таким же запалом политическая карьера как-то стыдливо не удалась. Мало того, что суровым и недвусмыленным языком резолюции были отмечены политически порочные установки Фитингофа, хуже: вскоре обнаружилось, что в партийных кругах его просто не берут достаточно всерьез.
В этом огромном суровом хозяйстве, где все выверено потом и кровью преданнейших людей, лишиться Фитингофа было так же легко, как забыть на столе гусиную зубочистку. Это заставляло особенно страдать Бориса. В начале крушения политической карьеры он думал, что все будет гораздо внушительней и грандиозней. Он мысленно видел подвал в «Правде» – «Корни ошибок Бориса Фитингофа». Ему мерещилась большая статья в марксистском ежемесячнике – «Непреодоленное гегелианство Бориса Фитингофа». Он даже мужественно заставлял себя додумывать до конца возможность отбытия в провинцию. Однако ничего этого не случилось. Свыше месяца на несколько сконфуженный вопрос знакомых, что он собирается делать, Борис отвечал со смятой улыбочкой: «Я в опале», а тем, кого он допускал в круг интимных друзей, он говорил, что самостоятельно мыслить в наше время невозможно, что сейчас, по существу, пора тянущихся, аккуратных и законопослушных.
Жизнь продолжалась. Единственно, что заметил наблюдательный Фитингоф, это все ясней проступавшую усмешку на губах «аккуратных» и «несамостоятельно мыслящих людей».
Он был несомненно талантливым человеком, Борис Фитингоф, хотя талантливость эта лежала в области, противоположной той, которую он считал своей основной областью, хотя эта талантливость была унаследована от отца, многоопытного и по-своему смелого предпринимателя.
Эта талантливость и не дала Борису стать обыкновенным рядовиком.
Сама жизнь благоприятствовала ему. Это был период, когда все самое боевое, передовое было оттянуто на самые решающие участки строительства и на некоторых участках была огромная потребность в грамотных и все же в конечном счете невраждебных людях.
Борис Фитингоф неожиданно выплыл к берегам искусства. Это было золотое дно для предприимчивого, защищенного кое-каким опытом политического функционирования молодого человека. И вот Борис начал с большой ноты. Он «сигнализировал», «ликвидировал» и непрестанно «дрался».
– Сегодня у меня будет драчка!.. Предстоит небольшая драчка.
А так как по объективному ходу вещей та область, в которой ему открывалась возможность работать, была действительно засорена реакционным, чуждым элементом, роль Бориса иногда была прогрессивной. Те, на кого он нападал, подчас таили в себе возможность гораздо большей опасности, чем сам Борис, и поэтому общественность не могла не поддерживать его в этой нужной борьбе.
Жизнь продолжалась. Время двигалось вперед. После периода борьбы с враждебным старым необходимо было утверждение, необходимо было так же, как на хозяйственном фронте, создавать алмазный фонд советского искусства. И вот тут-то обнаруживалось самое страшное: Борис Фитингоф никогда не любил его. Ни одна строчка Пушкина не заставила сердце Бориса забиться хоть немного учащеннее, ни одна искра Бетховена не зажигала в металлических глазах освобожденного от деляческого беспокойства света. Искусство было доступно Борису в голых, узко логических очертаниях. Он изучал его с злобным рвением первокурсника-медика, исследующего человека по анатомическому атласу. Конечно, он не был тупица, этот студент. Острый деловитый рассудок отца Фитингофа теплился под его медноволосым черепом. Книга, прочитанная Борисом, поражала количеством на первый взгляд умно выбранных мест, которые он, как наиболее, по его мнению, «социально окрашенные», энергично подчеркивал и снабжал краткими комментариями. «Ограниченность феодального мышления! Мелкобуржуазные иллюзии индивидуализма. Ущербность мещанской социологии!» и т. д. Но моменты гораздо большей социальной глубины, которые, однако, подавались художником не в прямой форме, а открыть которые было возможно только в результате усложненного творческого анализа, – такие места опускались Борисом совершенно.
Таким образом, гениальнейшие страницы великих писателей оставались затонувшим золотым грузом. Вся же огромная сокровищница их страниц сводилась к инвентарно-скудным каталогическим выжимкам. Наиболее одаренные друзья Фитингофа не могли не видеть некоторой недостаточности в методике его работы, но так как он обладал рядом черт, отсутствовавших у них, главным образом энергией и целеустремленностью, они вынуждены были необидно объяснять действия Бориса. «Конечно, он еще не совсем искушен в вопросах художественной формы… В нем слаба эстетическая струнка», – говорили они, забывая, что как раз именно всю сложность социальных идей не в силах был поднять своей горчичной ложечкой энергичный Борис Фитингоф. Может быть, поэтому, несмотря на шумную его деятельность, никто не мог указать на фундаментальные труды по искусству, оставленные потомству Борисом.
Прочитав наедине книгу, о которой он ранее ничего не слышал, Борис не знал, куда ее определить. Он совершенно не знал, понравилась она ему или нет, хороша она или плоха, вредна или полезна. По существу, он был даже немного мучеником. Иногда заключенные в картон бумажные глыбы казались ему петардами с динамитом. Они окружают его, таят неведомые опасности и возможность безудержного взрыва. И каждая книга чего-то требует от него. И каждая картина чего-то требует от него. В самые сумрачные дни ему хотелось прислониться плечом к умному отцу и попросить, чтоб отец взял его с собой в простой ресторан с дамским оркестром, в центральные бани, ко всем тем простым радостям, к которым больше всего расположена была эмоциональная натура Фитингофа-сына и которыми с гораздо меньшей омраченностью пользовался Фитингоф-отец.
Борис хвалил Владыкина. Умно учтя обстановку, он сделал Владыкина своим творческим знаменем. Но Нина говорила: «Я не радуюсь, когда он кого-нибудь хвалит, и не огорчаюсь, когда он что-нибудь ругает, – настолько он всегда идет мимо предмета». Борис представлялся ей канатоходцем. Он идет по стальному тросу, балансируя и шатаясь. Нина с нетерпением ждала, когда он сорвется и полетит вниз…
Он должен погибнуть. Каждый день берет на проверку временщиков, равнодушных преуспевателей, корыстных служителей…. Он должен погибнуть. В нашей стране с каждым днем, с каждым мгновением идет отбор людей действительно любящих и понимающих существо того дела, которое им вверено…
Дмитрий Синеоков пришел к Мише утром. Он внимательно и долго рассматривал Мишины работы. Дмитрий говорил неопределенно и невнятно. Когда он ушел, Миша не знал, понравилась Синеокову его живопись или нет.
Дмитрию все работы Мишины очень понравились: и пейзажи, и пастели, и рисунки. Но он не знал, можно ли это хвалить или опасно. «Безусловно талантливо, несомненно талантливо», – думал Синеоков, но даже об этом прямо сказать Мише не решался. Если б это были средние, обыкновенные картины, каких тысячи, Дмитрий знал бы, что сказать. Но все то, что он увидел в Мишиных работах, было необычайно и совершенно не похоже на других. Это его волновало, как хорошие стихи, как музыка! Но он не смел об этом сказать…
Вечером он поделился своими впечатлениями с Борисом.
– Есть что смотреть? Тебе понравилось? – спрашивал Фитингоф.
– Как сказать… Это несомненно талантливо. Это волнует, – признался Дмитрий. – Пойдем, Боря, завтра, посмотрим. Он живет близко, в центре.
На следующий день они пришли вдвоем.
– Ничего. Интересно, любопытно, – шумел Борис, шагая по комнате. – А это что? – спросил он, желая отдернуть простыню с мольберта, где стояла картина «Первый звонок».
– Это нельзя трогать! – почти закричал Миша.
Он никогда никому не показывал незаконченной работы. Он даже вздрогнул, когда Фитингоф коснулся простыни.
– Тайны творчества, – заметил Борис. – Ничего, ничего… Митя, – сказал он вдруг, – звони Владыкину, пусть сюда придет для экспертизы. Звони, Митя. Он, наверно, у Иринки.
Мише послышалось Нинки.
Синеоков сказал, что Володя сейчас придет. И действительно, очень скоро пришел Владыкин.
– Га-а! – приветствовал он Мишу. – Вот и встретились.
Владимир Владыкин был человек непосредственных ощущений.
– Очень хорошо, – хвалил он уверенно. – Замечательно. Как написано! Черт-те знает, как написано! – восхищался он. – Здорово! Мне очень нравится, – говорил он искренне.
Теперь и Синеоков присоединился к похвалам.
– Борис, смотри, как здорово сделаны красноармейцы! – громко выражал свои чувства Владыкин.
– Хорошо, – соглашался Фитингоф.
Бориса Мишины картины волновали не больше, чем палитра с выдавленными на ней красками. Но раз Владыкин хвалил, значит, это хорошо.
– Ребята, – предложил Борис, – давайте организуем Колче выставку. А? Как по-твоему, Володя?
– Обязательно.
– Митя, запиши себе. Это надо будет скоро сделать… А теперь пойдемте куда-нибудь в ресторан и пообедаем. Там еще поговорим. Колче, идемте с нами, – сказал Фитингоф, оглядывая приветливо Мишу.
Михаил охотно согласился с ними идти. От похвал у него сжималось сердце и пело в груди. Ему нравился Фитингоф, Владыкин и элегантный Синеоков.
Владимир шел рядом с Мишей и разговаривал с ним, как с равным. Он расспрашивал, как Миша грунтует холст, как часто пользуется мастихином и что он сейчас пишет.
На углу остановились.
– Охота таскаться по ресторанам, – сказал вдруг Владыкин. – Купим вина, закуски – и айда к Ирине… Совсем забыл: ведь я обещал ей, что притащу вас обедать. Она нас ждет.
– Идея! – отчеканил Борис.
Очень шумно вошли к Онегиной.
– Ирина, вот тебе будущая знаменитость – Колче. Люби и жалуй, – представил Фитингоф Мишу.
Ирина Сергеевна, не глядя на Михаила, подала белую, мягкую руку ладонью книзу, так, как подают для поцелуя. Миша просто пожал ей руку.
Пили вино, закусывали и говорили о вещах, для Миши непонятных. Он пил вино и всем улыбался.
– А где Нина? – спросил он у Владыкина.
– Она плохо себя чувствует. Похварывает, – заметил вскользь Володя.
Миша очень пожалел Нину. «Напрасно я на нее сердился. Она просто больна».
– Что с ней? – спросил он обеспокоенно.
Он представил себе наклон каштановой головы, блеск серых глаз… всю фигуру Нины, когда он в первый раз пришел к Владыкину и она открыла ему дверь. Она так и врезалась в памяти.
– Что с ней? – спросил он еще раз тревожно.
Ему на это никто не ответил.
9
О связи Владыкина с Онегиной знали все, кроме Нины. В то время, когда для других это уже не являлось новостью и не служило темой для разговоров, она и не подозревала об этом. Давно телефон Онегиной был занесен в записные книжки приятелей Владыкина: не застав его дома, они звонили Ирине Сергеевне.
Нину не любили, и вначале это событие многим доставляло большие и маленькие радости.
– Конечно, – говорили, – Онегина достойней ее. Это человек искусства. Она гораздо культурней, да и как женщина несравненней. Она гораздо больше импонирует Владыкину.
А то, что Владыкин не решался развестись с Ниной, объясняли тем, что Володя чересчур мягок, тих и боится скандала.
– Эта Дорожкина, знаете, на все способна.
С некоторых пор Нину называли лишь по фамилии… Конкретно, на что она способна, не договаривали, полагая, что и так вполне понятно. Старая жена истеричными угрозами мешает чужому счастью. Обычная история.
Затяжной характер происшедшего внес успокоение. К этому привыкли, об этом больше не разговаривали. Успокоились на том, что Нина несчастна и достойна сожаления. Так думать было очень удобно.
– Где ее самолюбие? Где ее коммунистическое сознание? Жалкая, как можно мириться с таким положением? – спрашивала Женя Фитингоф у Синеокова, подчеркивая этим, насколько она сама лучше и возвышенней Нины.
Только Онегина не считала ее несчастной. Она охотно поменялась бы с Ниной местами. Ирина Сергеевна мечтала о том, чтоб Владыкин признал ее своей женой. Она жаждала права сказать при всех, что Владыкин ее муж. Сколько раз Ирина Сергеевна наедине повторяла как заклинание: «Муж». «Мой муж». Она спрашивала: «Кто ваш муж?» – и сама себе отвечала: «Мой муж – художник Владимир Владыкин». Этого она не смела сказать при посторонних. А как бы она это произнесла!.. Владыкин держал себя так, что Онегина ежеминутно помнила: она лишь любовница. Он избегал появляться с ней в публичных местах. Когда Владыкин шел под руку с Онегиной по людной улице, он нервничал, боялся встретить Нину. Ирина это чувствовала, нарочно замедляла шаг, а Владыкин торопился, сворачивал в переулки. В кинематограф они ходили на дневной сеанс. Все то, что не нравилось во Владыкине Нине, было по душе Онегиной. Его грубость, громкий смех, харкание… Когда Владыкин хлопал ее по плечу, как бы говоря: «Хороша баба», – Онегина радовалась. Все то, от чего морщилась Нина, нравилось Ирине Сергеевне. Она именно в этом видела мужественность и силу. В грубости Владыкина видела связь с современностью, и оттого он ей казался еще более могучим…
Ирина Сергеевна, которая вообще считала беременность уродством, подумывала о том, чтобы стать матерью. «Может быть, это заставит его вывести меня из подполья». Когда она намекнула об этом Володе, он искренне испугался и немедленно предложил ей денег для аборта…
Ирина Сергеевна часто расспрашивала про Нину. И Синеоков, и Женя Фитингоф, и другие говорили, что Нина не особенно красива, не особенно умна.
– Посредственная. Очень посредственная.
Онегина представляла себе Нину «задрипанной партийкой», как она выражалась. Она не могла понять, что заставляет могучего художника Владыкина ее, бесспорно красивую, бесспорно умную, держать в подполье, а Нину признавать своей женой. Привычка? Жалость? Конечно, жалость. У Володи доброе сердце. Ему просто жалко Нину.
Однажды Ирина, зная о том, что Владыкин будет с женой в театре, специально пошла смотреть Нину. Она надела синее платье.
Это было лучшее платье, и оно нравилось Владыкину…
Когда первый раз Володя увидел Онегину в этом платье, он пришел в неожиданный восторг.
– Сомовская дама! Ты красавица, Иринка! – кричал он.
Но когда она тогда же предложила ему пойти с ней в концерт, он категорически отказался.
– Может быть, тебя, как коммуниста, шокирует мой наряд? Я могу и попроще.
– Не-ет. Совсем не то… Это чудное платье… Но знаешь, пойдешь с тобой, и вдруг встретим Нину… Или знакомые ей передадут, что нас видели. Потом разговоров не оберешься. Она у меня ревнивая. Давай лучше не пойдем. Спокойней…
И вот она, золотоголовая, в синем платье, пришла в театр и встретила их в фойе. Онегина блестящими черными глазами, с белозубой улыбкой посмотрела на Владыкина. Он стоял гордый, точно воздвигнутый, рядом со своей женой и незаметным движением головы поздоровался с Ириной. Поздоровался, как оскорбил. Ирина Сергеевна побледнела, но продолжала с той же милой улыбкой разглядывать чету Владыкиных. Улыбался только рот. Это легко: приподнять верхнюю губу и чуть-чуть обнажить зубы. Глаза Онегиной выражали совсем другое. Они с ненавистью разглядывали Нину. «Она совсем ничего. Она даже красивая. Но почему мне говорили, что она некрасивая?» – с раздражением подумала Ирина.
– С кем это ты поздоровался, Володя? – спросила Нина.
– Актриса Онегина.
– Господи, как она свирепо разглядывает меня! Зачем она это так?
– А кто ее знает, – зевнул Владыкин.
Ирина Сергеевна все заметила в Нине: и высокие стройные ноги, и бархатистость темных бровей, и узкие плечи, и волнистые каштановые волосы, и детскую нежность шеи, и особую мягкость кожи на всем Нинином лице. «У нее хорошая фигура. У нее ничего фигура. Слишком затянута… Почему мне говорили, что она некрасивая? Идиоты!.. Она хорошо одевается. Со вкусом… Она ничего одевается. Немного претенциозно… И неестественно себя держит… Красивый лоб. Покатый лоб… Провинциальный лоб. С блеском. Такие лбы часто на окраине, у дочерей огородников… Хорошо одевается. Чего же ей не одеваться: муж богатый… Это я у него ни копейки не беру… Коммунистки должны скромней одеваться. А почему он выглядит таким важным?.. Как же – рядом жена… Красивая»…
Нина обернулась, глаза ее встретились с глазами Онегиной…
Ирина Сергеевна долго не могла заснуть. Она старалась думать как можно беспристрастней о Нине. «Ей тоже не легко быть обманутой… А возможно, она ничего не знает… Он так ловко умеет скрывать. Он очень осторожен… Ей, наверно, тоже не легко ждать его по ночам и на рассвете видеть помятое Володино лицо с синими пятнами под глазами… Но почему он так держится за эту Нину?.. Я же красивей… Конечно, я красивей… Я гораздо красивей… Я красивей». И Ирина Сергеевна вытирала слезы со щек.
То, что удерживало Владыкина возле Нины, трудно Онегиной понять.
Нина не часто говорила с Владыкиным на отвлеченные, философские темы, но незаметно для него и для самой себя в простом, даже в бытовом разговоре она раскрывала в обыкновенных явлениях гораздо больше сложности и глубины, чем он это замечал сам.
Вначале эта ее манера его удивляла.
– К чему это? – с искренним весельем и изумлением восклицал он, когда Нина на вечеринке художников, заметив девицу в полувоенном костюме и шевровых сапожках, замечала невесело: «Все это от ощущения социальной неполноценности».
Потом, встречая эту девицу, Владыкин не мог отделаться от Нининого определения, и чем больше он жил с Ниной, тем больше привыкал за каждым поверхностным явлением искать спрятанный, сокровенный смысл. Это и помогало в работе.
Иногда Нина подходила к картине и, указывая на какую-нибудь деталь, спрашивала:
– Что ты этим хотел сказать, Володя?
Так прямо поставленный вопрос раздражал Владыкина. «Учителька», – огрызался он со злостью. Оставшись наедине, он задавал этот же вопрос самому себе, и, не найдя ответа, освобождал картину от лишней детали. Картина от этого только выигрывала.
Владыкин многие процессы своего творчества не мог объяснить ясными, обыкновенными словами и удивлялся, когда Нина говорила вслух то, что в нем самом лежало где-то очень глубоко, в темноте. Он был менее образован, чем Нина, хотя никогда ни себе, ни ей в этом не признавался. Нина была ему так необходима, как тюбики с красками. Без Нины он навряд ли «выбился бы в люди», как любила она выражаться иронически. Она помогала ему двигаться вперед, заставляла его читать книги и упорно работать.
Нина для Владыкина была тем «сильным человеком», которого она искала в нем. Володя, возможно, это чувствовал, но никогда над этим не задумывался. Подкупало его в Нине и то, что она красивая и ни в чем его не стесняет; и то, что она коммунистка и совершенно самостоятельная, – это тоже он считал необходимым привеском к своему общественному положению.
«Она ведь у меня боевая… Она у меня коммунистка».
Владыкин боялся Нины, трусил перед ней и часто думал, что если б не она, он давно спился бы. В этом он не ошибался. Ему необходимо было чувствовать все время чей-то окрик.
Владимир любил после попойки пойти к Нине каяться, плакать и ругать себя.
– Ну вот, даю тебе слово, Нина, что с этого дня бросаю пить. Сейчас лягу спать. Завтра с утра за работу. Только не сердись, Нина.
– Я не сержусь. Мне-то какое дело!..
– Вот видишь, ты сердишься… Прости меня, Ниночка. Я так виноват перед тобой… Я негодяй… Хочешь – все время буду сидеть дома и работать? Запри мои сапоги, – предложил он неожиданно. – На, спрячь деньги…
– Да ну тебя к дьяволу! Как это все противно! – говорила Нина.
Владыкин хотел, чтобы жена с ним обращалась сурово, устраивала ему скандалы, требовала от него отчета в деньгах. Он любил каяться и плакаться перед Ниной. Она старалась в такие дни дома не ночевать и как можно реже видеть его.
10
В квартире Онегиной имя Нины не упоминалось. Первый, кто произнес это имя полным голосом, был Миша. Ирина с удовольствием услышала, что Нина «похварывает», как выразился Владыкин. «Она у меня похварывает».
– Бедняжка, – заметила Ирина Сергеевна.
Онегина увидела в этом некоторую неполноценность соперницы, это придало больше смелости. Еще после встречи в театре Ирина Сергеевна, решив, что Нина ни о чем не догадывается, подумывала, как бы в наиболее обидной форме сообщить ей об этом. По расчетам Ирины Сергеевны, Нина немедленно должна была покинуть Владыкина. Если же останется все по-прежнему, то по крайней мере будет приятно сознавать, что самолюбие этой коммунистки в достаточной мере уязвлено. И вот, когда Владыкин на несколько дней отлучился из Москвы, Онегина послала ему на дом лимонных хризантем и письмо в плохо запечатанном розовом конверте.
Был выходной день. Нина только что в мыльной пене помыла волосы и теперь, перевязав, как чалмой, мохнатым полотенцем голову, пила чай и читала газету. Она искренне обрадовалась лимонным хризантемам.
– От кого это?
– От актрисы Онегиной, – ответил посыльный и ушел.
Нина не имела привычки читать письма, адресованные мужу, и не любила, когда Володя распечатывал ее письма. Но имя Онегиной, цветы, розовый надушенный конверт – все это было любопытно.
«Милый Вово», – начиналось письмо. И дальше в интимных выражениях Ирина уведомляла, что сегодня как раз годовщина «наших наслаждений». Все необходимые приготовления к этому «сладчайшему юбилею» она уже сделала и думает пригласить только Синеокова, Бориса, Женю Фитингоф и еще кое-кого из посвященных в «нашу тайну». В постскриптуме Онегина писала, что как ей ни тяжело пребывание в «подполье», но она довольна и тем, что он с ней по-настоящему счастлив. «Теперь не так пресна твоя жизнь с болезненной женой. Бедняжка! Мне ее даже жаль. До свидания, мой талантливый Вово. Мои руки соскучились по твоей могучей шее. До свидания-дания-дания!..»
Нина покраснела до корней волос. Она сразу почувствовала себя очень усталой и разбитой… «Ну да, все знали… И Синеоков… Вот почему этот трус и приспособленец с таким презрением меня оглядывал… И Женя Фитингоф… Вот почему я замечала в ее глазах ко мне жалость… Ну да, я жалкая… Боже мой, как я обманута!..»
Нина позвонила Левашеву. Илья сказал, что он давно об этом знал, но не рассказывал Нине, потому что не хотел ее огорчить.
– Как глупо! Это просто подло! Ты знал, что меня обманывают, и молчал. Это предательство! – говорила Нина голосом, полным отчаяния и слез.
– Пойми, Ниночка… Я много думал… Но не решался… Ты понимаешь…
– Ничего я не понимаю!
– Хочешь, я приду к тебе сейчас и все объясню.
– Можешь не приходить. Ты мне не нужен, – резко сказала Нина и положила трубку.
Она легла на диван и громко заплакала. Как в детстве. Навзрыд…
Уже два раза звонили и стучали в дверь. Нина не хотела открывать. Ей никого не хотелось видеть. Однако продолжали звонить.
– Кто там?
– Это Колче, – услыхала она из-за двери робкий голос.
Она не разобрала фамилии, да это ей все равно.
– Зайдите попозже.
– Я на одну минуточку… Проходил мимо… Мне Владыкин сказал, что вы больны.
– Где вы видели Владыкина? Где Владыкин? – закричала Нина и, не помня себя от бешенства, рванула дверь.
На пороге стоял Миша.
– У Онегиной, – смущенно сказал он.
Нина удивилась, узнав того самого мальчика, которому она уж когда-то открывала дверь и о котором в то утро так нежно расспрашивала у Володи. «Неужели и этот знал?..»
Миша заметил встревоженное лицо, мокрые серые глаза, развязавшееся на голове полотенце, босые ноги в коричневых туфлях. Он смотрел на Нину необыкновенно нежно и робко. Она ни слова не произнесла, резко повернулась и прошла к себе в комнату. «Неужели и этот знал?..» Миша оставался в нерешительности: уходить или нет? В пальто, держа в руке кепку, он несмело вошел в Нинину комнату. Нина сидела в уголочке дивана, уронив голову на валик. Промытые каштановые волосы рассыпались. На полу лежало мохнатое полотенце и лимонные хризантемы.
– Что с вами? – спросил Миша испуганно.
Он услыхал плач.
– Что с вами, Нина? – спросил он со всей своей нежностью, готовый что угодно сделать, лишь бы она не плакала, готовый на все.
– У меня большое горе, – сказала Нина, подняв голову. Слезы текли по смуглым скулам. – Меня предали. Меня очень предали.
Нина предложила ему сесть и, как бы рассуждая сама с собой, все рассказала Мише.
– Вы не думайте, что я ревную, – закончила она. – Но предательство – вот что страшно. Все-таки я ему верила. Живешь с человеком, а он предает. Это страшный удар, Миша.
– И вы ничего не знали?
– Вот в том-то и дело, что ничего. – Нина пожала плечами и отвела со лба волосы. – Понимаете, сколько унижений. Все знали, кроме меня… И этот Синеоков… Вы знаете, этот Синеоков – мое давнишнее унижение.
Нина говорила медленно, задумчиво. Иногда она насмешливо улыбалась.
– Дмитрий – полное ничтожество. Приспособленец… Господи, а я в него когда-то была влюблена… Как я рада, что он об этом никогда не узнал!.. Я просто счастлива… Но что мне теперь делать, Миша? Посоветуйте…
– А я думал – вы больны… Понимаете, ко мне пришли Синеоков, Владыкин и еще этот маленький, рыжий…
– Борис Фитингоф.
– Да, да… Смотрели мои работы. Хвалили. Потом затащили к Онегиной. Там обедали. Я спрашиваю про вас, а Владыкин говорит, что вы больны. Мне так жалко вас вдруг стало…
– Какая сволочь! – сказала Нина. – Мало того, что он меня предавал. Ему еще надо было перед ней оправдываться… вероятно, эта Онегина требовала легализации. Она и пишет про подполье… Вот он и говорил, что я больна… Знаете – больная жена; как ее бросить? Ах, какая сволочь!.. Но что же мне теперь делать?
– Я знаю, что надо делать, – сказал Миша и почему-то встал. Он был гневен, глаза сверкали. Он даже был красив в эту минуту. – Я знаю, что надо делать! Я отомщу за вас, Нина!..
– Ну вот еще, – произнесла она, улыбнувшись углами губ.
– Честное слово, я отомщу за вас. Я талантливей этого Владыкина. Я сильней его… Я его ненавижу!
– Ну садитесь, Миша… Ну успокойтесь, – говорила ласково Нина, не переставая улыбаться. – Не надо так волноваться… Ну садитесь, мой дружок… Один Миша Колче мне сочувствует в мире…
Михаилу как-то сразу стало неловко за свое бурное поведение.
– Придвиньте стул ближе ко мне, – продолжала Нина. – Ну рассказывайте, где вы росли? У вас есть мама? Почему вы так робеете?
Миша разглядывал Нину, ему хотелось коснуться лбом ее изогнутых ресниц.
– Вы знаете, – сказал он, – когда я первый раз вас увидел, мне тоже хотелось спросить: где вы росли? О чем вы думаете? Но, к сожалению, нельзя так сразу… Мне хотелось с вами дружить.
– Вот теперь и будем дружить, – сказала серьезно Нина.
– Я вас ждал. Два дня ждал… Очень волновался. Почему вы не пришли?
Нина ответила, что некогда было, но главным образом не пришла потому, что она не художница.
– Когда Владыкин, помните, сказал: «Она ведь у меня художница», – я возмутилась, но мне неудобно было тут же сказать об этом… Но что мне теперь делать? – продолжала Нина. – С Володей я не буду жить. Я его никогда особенно и не любила… Вначале думала, что он сильный человек, но уж давно увидела, что просто барахло слюнявое… Все не могла решить порвать с ним… Барахло… Труха…
– И мало талантливый, – прибавил Михаил.
– Это неверно. Он очень талантливый… Он фальшивый. Это верно. Труслив и только думает о себе… Его фигура не соответствует внутреннему содержанию.
– А почему, Нина, он так груб? И все харкает?
– Стиль. Манера. Особый вид демократичности, – усмехнулась она.
– Кхырр, – передразнил его Миша. – Га-а!.. Помните, как он крикнул, когда я первый раз к вам пришел? «Нино!»
Нина искренне засмеялась.
– Вы это заметили? Это хорошо, что вы заметили. Я думала, что только одна я замечаю… Но что теперь делать?
– Пойдемте в кафе, Нина. По дороге что-нибудь придумаем. У меня есть деньги. Я вчера получил гонора…
В это время пришел Левашев. Нина сразу помрачнела, Левашев, поправляя очки и посапывая носом, оглядывался.
– Ниночка, мне надо с тобой поговорить наедине, – сказал он.
– Можешь при нем говорить – сухо сказала Нина, показывая на Мишу. – Он все знает.
– Ниночка, – повторил несколько раз Левашев. – Нина, прости меня. Ты права. Я обязан был тебе об этом сказать, но, знаешь, я не мог. Я очень виноват перед тобой… Я страшно виноват…
– Давай об этом больше не говорить, – перебила его так же сухо Нина. – Выйдите с Мишей в другую комнату, я переоденусь.








