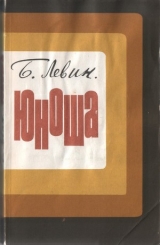
Текст книги "Юноша"
Автор книги: Борис Левин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)
В своем дневнике, который Дмитрий вел изо дня в день известным одному ему шифром, он записал: «Сожительствую с Женей Фитингоф. Глупа. Болтлива. Кожа, как наждачная бумага».
Синеоков надеялся на лучшие времена, когда можно будет опубликовать дневник. У него в комнате висел портрет Анри Бейля… В дневнике была такая запись: «Борис, брат Жени, в достаточной мере противен. Но ловкач».
Онегина ждала Владыкина. Она перебирала в памяти все игранные ею женские роли и никак не могла найти подходящей для встречи Владимира.
«А может быть, – думала Ирина Сергеевна, – на этот раз никого не играть? Может быть, Владыкин – мое последнее пристанище. Возможно, это то, что ты так долго искала. Твое счастье… Ты будешь любить и будешь любима».
В темно-малиновом бархатном платье с кружевным воротником Онегина встретила Владыкина мягкой улыбкой и антрацитовым блеском черных глаз.
6
Вот уже несколько дней у Миши замечательно бодрое настроение. «Я вступил в полосу везения. Теперь пойдут удачи…» Особенных причин для такого оптимизма не было. Из двадцати рисунков, предложенных им в журналы, приняли только три. Правда, хвалили, выдали аванс, но сказали, что рисунки малоактуальны и непонятны массовому читателю.
О зачислении в университет ранее будущей осени нечего было и думать. Декан физико-математического факультета внимательно выслушал Мишу, но никак не мог понять, почему в отношении Колче надо нарушать правила приема.
– Желающих поступить очень много. Мы ни для кого не делаем исключения. В будущем году, на общих основаниях – милости просим.
Откуда же этот ликующий оптимизм? Откуда эти флейты и валторны? Задуманная картина. Вот что гремело оркестром и создавало впечатление огромной удачи. Он напишет, как Яков Свердлов, решительным движением отстранив председателя Учредительного собрания, взялся за колокольчик. «Первый звонок» – так Миша назовет картину. Это осмысленное название. Первый звонок диктатуры пролетариата. Для Миши это название имело еще свой смысл. Он всегда, начиная новую картину, считал все написанное им до сих пор ученическими упражнениями, а вот сейчас будет настоящее, зрелое. «Мой первый звонок в искусстве». Десятки деталей и подробностей возникали в голове. Колокольчик сиял блеском молодого месяца. Флагом восстаний алел отворот кожаной тужурки Свердлова. «Ну, полный чекист!..» В председателе он изобразит всю подлость, все лицемерие, всю ложь уходящего мира. Неизбежный закат и вместе с тем сопротивление и ненависть. Этот страшный мир… Они б отрубили голову Марксу… Застрелили б Энгельса… Председатель – это тот страшный мир… Сопротивление, ненависть и неизбежный закат… Хотелось немедленно приступить к работе. «Спокойней, Миша, спокойней!» – сдерживал он себя.
Ему представлялась будущая картина событием в искусстве, ослепительным ударом разорвавшейся бомбы среди тусклых холстов прочих художников… Конечно, на выставку придет Владыкин и эта Нина. Миша с ней холодно поздоровается… Михаил смотрел владыкинские картины. Они ему мало понравились. Это добротно и лучше других, но Владыкина губят передвижники… Глядя на его работу, кажется, что уж где-то что-то похожее видел… «Какое мне дело до Владыкина? У меня свой путь… В фигуре Свердлова дать как можно больше хладнокровия, уверенности и презрения…»
Миша ни о чем не мог думать, кроме своей картины. Минутами она вспыхивала перед ним, и он слышал всеобщее одобрение… «Спокойней, Миша, спокойней!» Наспех ел, много курил, все время возникали новые детали и подробности. Приготовив подрамник, он по особому своему способу загрунтовал холст. Отобрал краски: черные, золотые, красные, белые. Миша любил запах красок. Краски его волновали, как цирк – детей.
Прежде чем приступить к работе, он прочел биографию Свердлова.
Первый раз Якова Свердлова арестовали, когда ему было шестнадцать лет. Хоронили социал-демократа Бориса Рюрикова, недавно освобожденного из тюрьмы, где его держали семь месяцев в одиночной камере без света и свежего воздуха. Товарищи несли гроб. Пели «Марсельезу» и «Вы жертвою пали». День был сырой. С Волги дул холодный ветер. Дорога грязная. Полиция разгоняла толпу. Торговцы запирали лавки. Среди провожающих выделялся курчавоволосый, толстогубый мальчик. Он пел громче всех. То он разворачивал красную ленту от венка так, чтоб все могли прочесть надпись: «Не надо плакать, а мстить», то доставал платок из кармана, и оттуда незаметно выпадали прокламации, то зачем-то нагибался, и воздух потрясало гулом: «Долой самодержавие!» Это он приколол прокламацию к крышке гроба. Это он, когда гроб выносили из церкви, прибил прокламацию к дверям храма. Полиция его заметила.
– Кто этот паренек?
– Яша Свердлов с Покровки. Сын гравера, – сообщили шпики.
На следующий день его арестовали.
Жандармы лаской и угрозами старались выпытать у кареглазого, тощего мальчика все то, что он знал о своих товарищах социал-демократах. Они полагали, что это им удастся без всякого труда, и крайне удивились, услыхав энергичный бас, совершенно непропорциональный весу тела:
– Категорически отказываюсь давать какие-либо показания.
По освобождении из тюрьмы Якова никуда не принимали на работу. Партийная организация послала его в сормовские мастерские. Там рабочие работали по тринадцать часов в день. Квалифицированный токарь получал один рубль двадцать копеек, чернорабочий сорок копеек. Беспощадно штрафовали. За утрату номера – пятьдесят копеек, за неисправную работу семьдесят пять копеек, за нарушение тишины один рубль, за ослушание мастера – один рубль. Заработок выдавали один раз в месяц. Продукты приходилось брать по заборной книжке из заводской лавки, где все товары были дороже и хуже. Рабочие жили в казарме по двадцать – двадцать пять человек в каморке. Семейные вместе с холостыми. Больниц и школ не было, только трактиры.
Кабак со слепым цимбалистом… Тяжелый труд и беспросветная нужда. Чахоточные дети.
По отчетам акционерного общества «Сормово», завод давал ежегодно прибыли несколько миллионов рублей.
Свердлов организовал там подпольные кружки, проводил массовки, митинги, руководил стачками, распространял прокламации. Жандармы несколько раз производили у Якова обыск, но не к чему было придраться. Одеяло, подушка, папиросы, зубная щетка, гребешок. Не к чему было придраться. Все-таки арестовали и выслали под надзор полиции в Нижний. Ему запретили выезжать из города, но он уехал на партийную работу в Кострому. А возможно, и не в Кострому. Охранники не знали, где он. Департамент полиции разослал в четырнадцать губерний приказание: «В случае обнаружения местожительства Якова Свердлова обыскать его, арестовать и препроводить его в Нижний Новгород». У него не было местожительства. И комнаты не было, и адреса не было. Как его найти? Он останавливался то у знакомых, то у товарищей, то у рабочих. В каждом городе у него свои. Казань, Саратов, Нижний, Пермь. Где его искать?.. Ищите его! Ищите в Поволжье. Ищите в рабочих районах…
Летом 1903 года, когда произошел раскол социал-демократической партии на меньшевиков и большевиков, Свердлов примкнул к течению Ленина. До этого жандармы называли Якова «Малыш», теперь переименовали в «Махровый». А он сам себя называл «Андрей». Пятый год застал его на Урале, в Екатеринбурге. Уральские рабочие прекрасно знали Свердлова и очень ему верили. Когда среди них появлялся Яков, они чувствовали себя революционней и беспощадней. Он рабочим был так же необходим, как кислород, как кровь, как красный флаг в демонстрации. Его всегда выбирали председателем собраний.
– Андрея! Давай Андрея!
Яков доставал револьверы, патроны, кинжалы. Создавал боевые дружины и призывал рабочих:
– К оружию, товарищи! К оружию!..
После разгрома пятого года его арестовали. В тюрьме была масса знакомых и масса работы. Организовал кружок пропагандистов, читал лекции, рефераты, дискутировал с меньшевиками и эсерами. Яков в тюрьме так же неустанно работал, как и на воле. Его посадили в одиночку. Его перевели в другую тюрьму. И только когда объявляли голодовку, он перевязывал полотенцем живот и лежал неподвижно…
После трехлетнего пребывания в тюрьме Свердлов немедленно отправился на партийную работу, в самое опасное место – в Москву. Через несколько месяцев его арестовали и выслали в Нарымский край, в самое отдаленное место. Он бежал в Петербург. Десять тысяч километров на подводах, на лодках, в трюме парохода, в товарном вагоне… В Петербурге его арестовали и опять выслали в Нарым. Свердлов совершил пять побегов, и все неудачно. Пешком – через тайгу, и в лодке-душегубке – по Енисею. Лодка опрокинулась. Спасли и выслали в самый отдаленный пункт Нарымского края. К нему приехала жена с ребенком. Он не видел их много лет. В тюрьме, в ссылке Свердлов часто вспоминал семью. Жена – товарищ по партии. Он писал друзьям: «Ей трудно приходится. Нелегко, должно быть, с младенцем в камере. Вот это печалит меня…»
Когда приехали жена и ребенок, полицейские успокоились, полагая, что теперь Свердлов не убежит. Напрасно. Совершенно напрасно. Через две недели Яков убежал, и на этот раз вполне удачно. Четыре месяца он работал в Петербурге. Яков писал статьи для «Правды», руководил деятельностью рабочих депутатов в Государственной думе. Спасаясь от шпиков, он не выходил на улицу.
Его выдал провокатор Малиновский.
Свердлова выслали в Туруханский край, в деревушку Курейку, в двадцати пяти километрах за Полярным кругом. Морозы, ветер и бесконечные снега. Месяцами кромешная тьма. Месяцами – сивый день и сивая ночь. В такое время особенно тоскливо…
Яков Михайлович много читал и написал несколько книг: «Очерки Туруханского края», «Крушение капитализма», «Раскол в германской социал-демократии», «Очерки по истории международного рабочего движения»… Ловил силками зверя и птицу. В письмах к товарищам он писал: «Не век же проживу здесь. Я ведь из той категории человеков, которые всегда говорят: „Хорошо, а могло быть хуже“. Я не помню точно, но предполагаю, что, когда тонул, думал так же: могла бы быть и тяжелее смерть». Еще он писал: «Чуть-чуть потеплело. С треском ломается лед. Не хочется с берега уходить. Полетели гуси. Они летят низко, сворачивая в сторону у самой деревни…»
Узнав о февральской революции из приветственной телеграммы 14-го Сибирского полка, посланной на имя ссыльных, Свердлов немедленно собрался в путь. До железной дороги тысяча километров. Днем и ночью ехали ссыльные. Ни в тюрьме, ни в ссылке, никогда так медленно не тянулось время. Скорей, скорей в революционный Петроград!..
Партия послала Якова на Урал, но там он пробыл недолго. Уральские рабочие командировали его делегатом на Всероссийскую апрельскую конференцию большевиков. На этой конференции Якова Михайловича избрали в члены Центрального Комитета.
Он был «дегустатором» в партии и знал, как лучше и полезней использовать того или иного товарища. Он обладал прекрасной памятью. Ленин называл его «богатейшей памятной книжкой партии».
В июльские дни Свердлов с балкона особняка Кшесинской приветствовал восставших рабочих, солдат и матросов своим мощным басом.
Буржуазные газеты прозвали его «стальной черный дьявол».
На Шестом съезде партии Свердлов делал организационный доклад. Шестой съезд партии постановил свергнуть диктатуру буржуазии. Яков работал в тех органах, которые непосредственно были связаны с рабочими и солдатскими массами.
После Октября Свердлов – председатель ВЦИК. Он руководит съездами Советов, организует советскую власть. Под его руководством проходит Первый Всероссийский съезд трудящихся женщин. Он разрабатывает декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Ни один параграф конституции советской власти не разрабатывается без участия Якова.
Ленин часто говорил: «Столкуйтесь со Свердловым»… «Сговоритесь со Свердловым»… «Созвонитесь со Свердловым»…
В период своей второй эмиграции Владимир Ленин много раз желал лично встретиться с Яковом Свердловым, но не удавалось. Два человека боролись за одно и то же дело, жили одними идеями, знали друг о друге, но никак не могли встретиться. Они познакомились только после февральской революции…
Свердлов возвращался с Украинского съезда партии. Он курил трубку, смотрел в окно, что-то записывал в записную книжку, и все время ежился. Ему казалось, что в вагоне холодно. На остановках приходили местные работники, рассказывали о своих нуждах, жаловались и советовались с Яковом. В Орле железнодорожники стали его просить выступить на митинге. Ему не хотелось выступать: плохо себя чувствовал, – но не мог отказать. Он вышел из вагона в осеннем пальто поверх кожаной куртки. Март. Почернелый снег. Угольное небо… Яков говорил железнодорожникам орловского узла о конгрессе III Интернационала. Он говорил мало: плохо себя чувствовал.
В Москву приехал больным. Первый день он еще работал: днем – в Совнаркоме, ночью – в президиуме ВЦИК.
Пришел домой, смерил температуру – около сорока. «Вот так штука», – удивился Свердлов и велел придвинуть телефон ближе к постели…
За полчаса до его смерти к нему приехал Ленин. Яков приподнялся, стал что-то возбужденно и горячо говорить. Владимир Ильич взял за руку и сказал:
– Успокойтесь. Все будет сделано… Усните, постарайтесь заснуть, вам будет легче.
Свердлов стих; казалось, заснул. Наступила тишина. Ленин на цыпочках вышел из комнаты. Больной начал стонать и через несколько минут умер.
Его хоронили восемнадцатого марта, в день Парижской коммуны.
Ему было тридцать четыре года…
Мишу взволновала биография Свердлова.
Какой замечательный человек! Тридцать четыре года. Да, но отсчитай четырнадцать на тюрьмы и ссылки. Остается чистых и то не совсем чистых двадцать лет. Юноша! Как много успел сделать! «Мне сейчас восемнадцать, и совершенно чистых, а я еще ничего», – огорчился Михаил. С некоторым удовольствием подумал о том, что Свердлов был невысокого роста. И Ленин тоже. И Пушкин. Миша вспомнил: он где-то читал, что все великие люди невысокого роста. «Яков Свердлов, вероятно, был чуть-чуть выше меня…»
7
Полоса везения продолжалась. Замечательно хорошо работалось. Вначале немного задерживали руки. Миша сменил трех натурщиков, не мог подобрать нужные ему руки. Дело было не в натурщиках. Руки Якова Свердлова печатали в подполье прокламации. Несли красный флаг. Руки помнили одиночную камеру и снег за Полярным кругом. Потом эти руки подписывали Конституцию советской власти. Всего этого не надо забывать. Все это надо отобразить в картине. С руками приходилось трудно.
Иногда Миша думал, что он пишет гениальную картину. Иногда брало отчаяние, и думал, что очень плохо. Убого. Бездарно. Тускло. Он вспомнил работы Микеланджело, Леонардо да Винчи, Тициана, Рафаэля, Рембрандта… Да, даже французы: Манэ, Дерен, Сезанн, Гоген, Дега… Мише делалось страшно. Ему казалось, что по сравнению с великими художниками планеты он просто ничтожество. Он робел, днями не подходил к мольберту…
Так бывает и с литераторами. Сидит литератор за письменным столом, перед ним чистый лист бумаги, перо, чернила, и вдруг встают горы: Стендаль, Шекспир, Флобер, Бальзак, Толстой, Гоголь, Достоевский… Как они писали! Боже мой, как они писали! Литератору мучительно стыдно браться за перо.
Михаил чаще всего думал, что картина его гениальная… «Смелей, смелей! Нет мне дела до Рембрандта. Нет мне дела до да Винчи. Я вооруженней их, я передовей… Юлий Цезарь сейчас проиграет сражение любому отделенному командиру Красной Армии… Смелей, смелей, Миша, нажимай! Полным голосом работай… Слава стучится в дверь. Очень нужна мне эта слава».
В дверь стучался Пингвин. Он приходил за папиросами, за щепоткой чаю и просто поболтать.
Вечерами Миша ходил с ним гулять по Москве. Ему нравилось идти рядом с длинноногим, высоким Пингвином. Пингвина бывало трудно вытащить на улицу. Он предпочитал, лежа в кровати, читать книги. Читал все, что попадало под руку. Возможно, он был прав, когда говорил: «Меня занимает самый процесс чтения». Книги у него были очень-очень разные. История культуры вишни. Комплект «Сатирикона». Справочная книжка рыболова. Самоцветы России. Душевные болезни. Разрозненные тома Ленина. Переписка Маркса и Энгельса. Сборник исторических задач по математике. Том Дарвина. Много беллетристики. Книги путешествий. «Искусство рукопашного боя», где на двухстах страницах, с рисунками и фотографиями, излагалась тактика кулачного уличного боя. В конце этой книги сообщалось, что лучшее средство самозащиты – это «бежать без оглядки». «Если вы бегаете быстро, не обращайте внимания на самолюбие, бегите без оглядки».
В комнате у Пингвина был угол, оцепленный веревкой. Это место называлось: «уголок военного коммунизма». Тут стоял помятый, заржавленный примус. Висела пожелтевшая бязевая рубаха в узелках – словно насекомые. Висели плакаты времени военного коммунизма: «Донецкий уголь должен быть наш». «Все на борьбу с вошью!» И тут же большая визитная карточка с загнутым углом и надписью славянской вязью: «Встань, умойся, причешись и на прививку попросись». На перевернутом вверх дном котелке лежали высохшая вобла и винтовочный патрон. В остальной части комнаты у Пингвина было безнадежно грязно и беспорядочно. Сам Пингвин каждый день брился и любил чистую сорочку.
– Хорошо, что в жизни есть одеколон и чистые сорочки…
Миша с Пингвином шатались по Тверской, бродили по переулкам Арбата. Заходили в пивную, пили пиво. Миша узнавал от Пингвина все новости литературного и художественного мира. Так он узнал про Бориса Фитингофа и Дмитрия Синеокова.
– Борис – вот это действительно экземпляр! Это экземпляр… Что Владыкин!.. Вы все время, Миша, упоминаете Владыкина. Хотите с ним состязаться… Я убежден, что вы его талантливей… Но что Владыкин по сравнению с Фитингофом? Щенок… Вот если ваши работы, и не так работы, как вы лично понравитесь Борису… Но вы не понравитесь Фитингофу, – вздыхал Пингвин. – В живописи Фитингоф, так же как в литературе, мало понимает, а сами вы держитесь петушком… Вы не понравитесь Борису. Нет в вас здорового подхалимажа…
И Пингвин не то кряхтел, не то смеялся, опустив глаза в пивную кружку.
– Вы хотели бы жить, Миша, во время Великой французской революции? – спрашивал он неожиданно.
– Нет. Я бы хотел жить во время великой русской революции, что и делаю… А хотелось бы жить… Очень хотелось бы жить при полном социализме… Сейчас еще много обезьян.
– Вы не дурак, – замечал Пингвин, улыбаясь краешком губ и блеском черных глаз…
Однажды днем, когда Миша собирался пойти обедать, позвонил телефон. Михаил подумал, что это Нина, и важно произнес:
– Я вас слушаю.
– Землячок! Ты что же это не показываешься? Зазнуля!
Он сразу узнал медлительно-певучий Танин голос, но почему-то не решался об этом сказать.
– Кто говорит? – спросил он почти сурово.
– Да Таня, Таня. Будьте ласковы, он меня не узнал! Три недели в Москве и на глаза не показывается. Нехорошо, Мишунчик.
Она просила немедленно прийти к ней. Она угостит его таким обедом, что ему и не снилось. Таня хотела видеть Мишу, говорила с ним сердечно и, как со всеми, запросто. Михаил же – то холодно-равнодушным тоном, то озабоченно-деловым, то рассеянно-небрежным – отвечал коротко, хотя в душе радовался, что Таня позвонила и он может пойти к ней.
– Загляну. Хорошо. Постараюсь сегодня.
– Вот и ладненько. А то строит из себя бог знает кого…
Миша пришел вечером. В вязаном черном платье с красными молниями Таня по-прежнему была величественно-красива. Высоко держа голову, она несла свое тело. Завитые шафрановые волосы искрились. Белые руки, белая шея, оголенные плечи наполняли комнату, освещенную розово-абажурным светом, спокойствием и запахом свежего сена.
Они сидели на ковровом диване. У изголовья – Таня, подогнув маленькие ноги в голубых туфельках, обложив себя вышитыми плюшевыми подушечками, а рядом Миша. Между ними пепельница – металлическая рука, куда Михаил стряхивал пепел папиросы.
– Ну рассказывай, землячок, как там, в нашей Белоруссии. Дожди?
Миша никогда не скучал по Белоруссии. Напоминание о том, что он тоже из Белоруссии, его неприятно удивляло.
Михаил сожалел, что рос в самой неинтересной, как ему казалось, из республик, входящих в СССР. «Лучше бы в Татарии, Дагестане, Узбекистане – все-таки какая-то экзотика».
– В Белоруссии все в порядке… Ну, а как… – он хотел спросить: «Ну, а как ты живешь?», но не знал, как сказать – «ты» или «вы», поэтому старался обойтись без этих местоимений. – Ну, а как Сладкопевцев? – спросил Миша.
– Схватился! Давно его забыла. Он оказался нехорошим человеком.
Таня рассказала о том, как по приезде в Москву Сладкопевцев продавал ее вещи, заставлял писать раввину письма, чтоб тот присылал денег.
– Мне это было противно. Я отказывалась, но он бил меня. Вся в синяках ходила… Помнишь мое бархатное платье – ты еще хотел меня в нем рисовать? Тоже продал. Я так любила это платье, – сокрушалась она.
Сладкопевцев все время звал ее коровой и гнал из комнаты.
– Но этот номер не прошел. Я обратилась в жилтоварищество, и там пригрозили ему, чтоб он без хамства и не забывался, где живет.
Сам он обедал в столовой, а она сидела голодная и плакала. Собиралась уезжать.
– Но тут я забеременела, и надо аборт.
В больнице других навещали мужья, любовники. Приносили цветы, конфеты. К ней никто не приходил.
– Я лежала одна, как сука.
– Подлец! Какой подлец! – возмутился Миша.
– Это верно. Сладкопевцев нехороший человек. Но еще спасибо, что он ничем не заразил меня… Вот лежу, завтра надо выписываться, а мне свет не мил. На душе, Миша, такая тяжесть! Рядом со мной помещалась одна женщина. Очень хороший человек. Я ей все и рассказала. К этой женщине приходил муж, тоже очень симпатичный. Они переговорили между собой и взяли меня вот в эту квартиру, – и Таня пальчиком ткнула в плюшевую подушечку, что лежала у нее на коленях.
– Как в эту квартиру?
– Ну да. Мой муж тогда был ее мужем.
– Ничего не понимаю, – изумился Миша.
– Что ж тут непонятного? Я переехала к ним жить. Думала, пока устроюсь, поживу у них, но Анатолий в меня влюбился. Вера Исааковна это заметила и молча ушла. Она гордая. Я поступила по-свински, но что мне было делать? Жить-то хочется. Ей лучше, чем мне, – у нее есть специальность: она врач.
О муже Таня сообщила, что он хороший человек и любит ее. Только он очень занят и редко бывает дома.
– Всюду хожу одна. Анатолий мне достает билеты в театр. Он хочет, чтоб я развивалась. Живем скромненько. Жалование у него небольшое… В жизни так мало удовольствий, – вздохнула Таня. – Всего хочется: прилично одеваться, прилично кушать… Но зато у нас квартирка хорошая. Совсем отдельная. И смотри, какая роскошная ванная!..
Таня вскочила и показала Мише ванную комнату, а заодно и всю квартиру.
– Это комната Анатолия… Он очень тихий: не пьет, не курит. Еще ни разу худого слова не сказал. Когда дома, сидит и читает… А здесь балкон… Понравилась тебе наша квартирка? – спросила она, усаживаясь на прежнее место.
– Ничего.
– Все хорошо, только часто скучаю по Белоруссии… Как-то встретила Сладкопевцева. Я его нарочно зазвала, чтобы показать, как живу… Ты знаешь, он ко мне дико приставал. Я ему говорю: «Вы мне не нравитесь», а он лезет и лезет. Господи, где его самолюбие?.. Расскажи, Мишенька, о себе… А то все я болтаю… Пингвин тебя очень хвалит. Правда, ты талантливый?
Миша подвинулся ближе и обнял ее.
– Я люблю, когда меня обнимают, – сказала Таня и положила голову на Мишины колени. – В жизни так мало удовольствий, – вздохнула она глубоко.
Михаил дрожащими пальцами перебирал шафрановые волосы.
– Правда, у меня мягкие волосы?
– Очень.
– Я красивая, Миша?
– Очень.
– Ты же художник. Ты же понимаешь… Я сама знаю, что красивая… Из-за этой смазливой рожи, – сказала она с некоторой грустью, – все дела происходят… А хорошо в нашей Белоруссии! Сейчас там дожди, грязь… Как-нибудь туда съезжу… Речки, горки, ляды… «А у перепелочки грудка болит», – запела Таня.
Чудесная песня. Волнующая песня!.. В комнате абажурно-розовый свет и запах свежего сена.
Миша одной рукой расчесывал Танины волосы, другой – ласкал красные стрелы на ее черном платье.
– «Ты ж моя, ты ж моя перепе-олоч-ка…» Пингвин у нас часто бывает… Он ко мне дико приставал… «А у перепелочки…» Тебе, Миша, нравится Пингвин?.. «ножка болит…» Ой, не надо так, больно… «Ты ж моя, ты ж моя…» Миша, ты меня вспоминал?.. «перепелочка-а…»
С этого вечера не было дня, чтоб Миша не встречался с Таней. Иногда Таня приходила к нему и оставалась ночевать. Утром она всякий раз раскаивалась:
– Боже мой, что я совру Анатолию? Придется сказать, что после театра задержалась и осталась ночевать у подруги.
– У тебя есть такая подруга?
– У каждой женщины есть такая подруга. Сколько раз, – добавила она с улыбкой, – эта подруга и у меня так ночевала!..
В этот период Миша читал «Красное и черное» Стендаля и думал, что он Жюльен Сорель. Курил трубку. Ежедневно ходил в парикмахерскую. С мужем Тани Михаил разговаривал снисходительно-вежливо.
Неоднократно Миша предлагал Тане вообще переселиться к нему.
– Что ты, милый мой! – отвечала она на это. – Приедет твой дядя и, будьте ласковы, обоих нас выставит из комнаты… Выбейся сначала в люди. Там посмотрю… Потом, – говорила она очень искренне, – Анатолий для меня так много сделал, что я не могу поступить с ним по-свински… И мне с ним не плохо. Зачем мне уходить? – недоумевала Таня. – У тебя же нет ничего. Ты мне не можешь дать того, что Анатолий…
– Упрощенный материализм, – заметил Миша.
– Понимай, как хочешь…
Когда Анатолий уезжал в командировку, Миша оставался ночевать у Тани. Так случилось и на этот раз. Но в поздний час ночи позвонил телефон и Анатолий сказал, что ему не достали на поезд билета и он приедет сейчас домой.
– Подогрей чего-нибудь. Я голодный, Танечка.
Таня испуганно сообщила об этом Мише. Михаил наспех оделся и взволнованно-громко сказал:
– Я через балкон.
– Да что ты, обалдел! – Таня замахала широкими рукавами зеленого шелкового халата. – Балкон давно замазан… И при чем тут балкон? – возмутилась она. – Смело можешь пройти черной лестницей. Вполне успеешь, никто тебя не заметит… Только сейчас же уходи, сейчас же…
Миша, униженный, уходил черным ходом. «Как это все отвратительно и низко! – думал он, закуривая. – Пошло. Любовник… Ну какой я любовник? Отвратительно… Связался с глупой бабой… На кой черт это мне?»
Калитка была на цепи. Пришлось нагнуться. В эту минуту Михаил услыхал звонкий голос Таниного мужа. Анатолий стоял у крыльца парадной двери и с кем-то разговаривал.
– Тебя это удивило… Прежде чем идти домой, я всегда звоню. Не люблю попадать в неловкое положение. Надо уметь пользоваться телефоном. А то еще натолкнешься на этого вундеркинда, чересчур восхваленного тобой, Пингвин.
– На Колче, – прокаркал Пингвин.
– Он ничего, кажется, парень. Но я не люблю вундеркиндов… Что-то в них есть уродливое…
Миша тоже терпеть не мог вундеркиндов. Сгорая от стыда, он притулился в уголок калитки. Может быть, выскочить и объясниться? Вызвать на дуэль?.. Но вместе с этим он почувствовал и какую-то симпатию к мужу Тани.
– Это пустяки, – продолжал Анатолий. – Мы сами с усами… Все это мелочи жизни. Но вот у меня что-то неладное с почками, Пингвин… Под глазами мешки. Быстро устаю. Вот это худо.
– Почки – плохо, – согласился Пингвин. – Триппер – это еще «Как хороши, как свежи были розы!..», а почки – звонок оттуда.
– Ты утешишь!.. Ну, прощай, Пингвин! Завтра рано вставать. Это тебе, бездельнику, можно ни черта не делать. И как тебе не надоест?
Парадная дверь хлопнула. Миша услыхал удаляющиеся шаги Пингвина. Михаилу не хотелось с ним встречаться, пошел в гостиницу переулками.
У дверей его комнаты стоял Пингвин.
– Вот хорошо, – сказал он. – Вы мне нужны. Вас редко можно застать дома. И когда вы есть, стучишь, стучишь – все равно не открываете… Ваши работы хочет посмотреть Дмитрий Синеоков. Если не возражаете, тогда он завтра придет. Благодарите меня, это я его натравил на вас.
– Великолепно, великолепно, – пробормотал Миша.
Он твердо решил больше не встречаться с Таней. Это унизительно. Глупо. Бегать по ночам. Мне не надо сомнительного чужого счастья. У меня будет свое, такое же сомнительное… Бегать по ночам. Подлезать под калитку… Девятнадцатый век. Феодализм.
Утром Михаил позвонил Тане:
– Я к вам никогда не приду.
– Что-нибудь случилось?
– Ничего особенного. Только я не любовник. Я не гожусь для этой жалкой роли. Простите меня, Таня, но я к вам больше не приду.
– Не ты, так будет другой.
– Не сомневаюсь.
– Подумаешь, Художественный театр! Нашел, чем пугать. Ты еще глупый. То он безумно влюблен и хочет с балкона прыгать… Как угодно. Просить не стану.
– Прощайте, Таня. Не сердитесь.
– Мне не на что сердиться. Бывайте здоровеньки… Дай вам бог. А я себе всегда найду.
– Не сомневаюсь.
В это утро Миша был уверен, что он ничтожество и картина его «Первый звонок» бездарна.
8
Дмитрий Синеоков давно знал Пингвина: сталкивался с ним в редакциях. Пингвин отличался от других журналистов не только слишком длинной фигурой, но и характером поведения. Он был молчалив и Синеокову казался всесторонне, особенно политически, образованным. Вначале Дмитрий принимал его за партийного и соответственно разговаривал с ним. Узнав, что Пингвин беспартийный, он не изменил к нему своего отношения, как обычно в таких случаях, а сохранил осторожно-почтительное внимание. Улыбался с таким видом, что мы, мол, друг друга вполне понимаем. Встречая Пингвина на улице, подходил к нему и шел с ним вместе. «Длинноногий иронист», – называл он его в душе… Пингвин был непонятен Синеокову. «С восемнадцатого года быть в партии, участвовать в гражданской войне… И все это потом „променять“ на писание фельетончиков!.. Чудак! О, будь я на его месте!.. У меня бы не так-то легко отобрали партбилет…»
Когда Пингвин рассказал о художнике Колче, это заинтересовало Синеокова. Ему давно хотелось выдвинуть («открыть») новое дарование. То, что рассказывал Пингвин о Мише, вполне подходило. Племянник какого-то ответственного работника. Комсомолец. Недавно приехал из провинции… Дмитрий, как бы невзначай, осведомился у Пингвина:
– Он комсомолец?
– Да, – не задумываясь ответил Пингвин.
Он знал: скажи иначе, навряд ли Дмитрий Синеоков снизошел бы пойти на дом смотреть картины неизвестного художника, хоть будь тот трижды гениален. Поэтому Пингвин еще раз, как бы невзначай, упомянул о партийном стаже Праскухина.
– Это все хорошо… Только жаль, что не рабочий, – сказал Синеоков и записал Мишин адрес и телефон.
Прежде чем пойти к Колче, Дмитрий посоветовался с Борисом Фитингофом. В таких делах он всегда советовался с Борисом.








