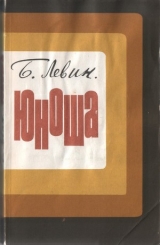
Текст книги "Юноша"
Автор книги: Борис Левин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц)
– Что ты, милый мой, что ты! – говорила нежно Елена Викторовна и старалась смотреть ему прямо в глаза, но медвежьи глазки его убегали.
– Ты не огорчайся, – успокаивал он ее. – Я так хорошо изучил поведение нормального человека и так ловко могу прикинуться нормальным – да это и не очень трудно, – что меня еще надолго хватит.
Относительно того, что прикидываться нормальным легко, слышал не раз Миша. Не зная почему, но он при этом бурно, неудержимо смеялся.
Миша редко наблюдал, чтоб родители его ссорились. Иногда замечал безмолвные вспышки ненависти. Это выражалось в хлопанье дверьми, в обмене ненавидящими взглядами, в свирепом молчании. Но раз произошла страшная ссора между отцом и матерью, в этой принял участие и Миша.
Осенью, в мокрый вечер, пришел человек в вороной жеребковой куртке с барашковым воротником, в кепке и в блестящих калошах. Щуря глаза, он уверенно спросил у Ксении:
– Ксенофонт Колче у себя?
Она не успела ответить, как он сам без стука вошел в кабинет, подкрался сзади к Ксенофонту Ксенофонтовичу и еще холодными руками зажал ему глаза.
– Угадай! – сказал вошедший.
Ксенофонт Ксенофонтович вздрогнул и легко отряхнул с лица незнакомые холодные руки. Узнав гостя, он радостно улыбнулся:
– Евсей! Вот не ждал никогда!
– А ты все толстеешь, – сказал Евсей, похлопав его по животу, и заржал: – Ого-го-го!
– А ты все такой же. Какими судьбами? Раздевайся.
– Все тебе будет доложено. Покажи, где тут у тебя умыться, и потом я жрать хочу, как собака.
Во время еды они вели оживленный разговор, часто прерываемый дикими возгласами, нелепыми движениями, громким смехом.
– А помнишь козу?
– Физика. Как же! «Вся-а-а-к-к-к-о-е те-е-е-л-л-о м-е-е… господа, не смейтесь, а то вон из кла-а-а-а-а-с-са, ме-е-е», – дрожащим мекающим голосом передразнил Ксенофонт Ксенофонтович. – Но самое замечательное – это молитва!
– А у француза, – напомнил Евсей, неожиданно встал и с серьезной физиономией, округлив глаза, прочел: – «Рано утром, вечерком, преблагий господи, баба ехала пешком, преблагий господи, в ситцевой карете, преблагий господи…»
– Чего я никогда тебе не прощу, это когда ты у меня списал перевод и латинист поставил тебе пять с минусом, а мне кол. Почему ты не признался?
– Нашел дурака! Тогда бы он мне поставил кол, – сказал весело Евсей, довольный тем, что ему когда-то удалось получить незаконную пятерку.
– А где сейчас Катя Нейфах! Замечательная девушка!
– Катя Нейфах была удивительная девушка… Ты помнишь историю с собакой?..
Это были друзья детства, однокашники, и теперь вспоминали черт-те что.
Когда Ксения убрала тарелки и поставила на стол два стакана чаю и сахар, Евсей достал из жилетного кармана перочинный ножичек и начал оттачивать спичку. Не глядя на Ксенофонта Ксенофонтовича, который в это время полулежал на кровати, он кивнул головой на соседнюю стену и спросил:
– Там кто-нибудь у тебя есть?
– Сын.
– Комсомолец?
– Да.
– Тогда надо тише, – заметил Евсей.
С присвистом, высасывая из зубов остатки пищи, он спросил:
– В твоем распоряжении лошадь имеется?
– Имеется, – удивленно ответил Колче.
Тогда Евсей придвинул ближе к кровати кресло, в котором сидел, и очень тихо, но твердо сказал:
– Дело в том, что я бегу из социалистического рая… Я тебе сейчас все объясню.
И он рассказал Ксенофонту Ксенофонтовичу о том, что до последнего месяца он работал в организации РСДРП (меньшевиков), был связан с заграничным центром и что в Москве они собирались на Плющихе.
– Но вот недельку тому назад, когда я вернулся из Сочи – я там отдыхал в нашем доме отдыха, – иду на Плющиху, меня предупредили, что там идет обыск. Возвращаясь домой, смотрю – на окнах занавески опущены. Это условный знак. Ночевал в другом месте. У меня на квартире тоже был обыск – ждали меня. Несколько дней прятался в Москве и потом решил бежать. Адрес твой мне был известен: ведь Александр Праскухин – мой шеф. Бюрократ!
– Бюрократ? – жалеючи переспросил Ксенофонт Ксенофонтович и, закурив, приподнялся, уселся на кровати.
– Бюрократ, – беспощадно подтвердил Евсей и продолжал: – Я считаю, что большевики совершенно развратили русских рабочих и нам никакой работы вести среди них невозможно. Слежка. Система доносов. Я считаю, – сказал он очень уверенно, – что сейчас самая главная наша работа за границей. Только оттуда, через II Интернационал можно еще оказывать давление… Вот мне и нужна лошадь, чтоб добраться до Полоцка, а там уж меня контрабандисты переправят.
Ксенофонт Ксенофонтович молчал, изредка кончиками пальцев оттягивая веки (это он так всегда, когда волнуется).
– Полагаю, что ты мне в этом пустяке не откажешь – ведь ты когда-то вместе с нами был в ссылке… Что ж ты молчишь?
– Нехорошо, – сказал медленно Ксенофонт Ксенофонтович. – Все это очень нехорошо.
– Хорошо или нехорошо, – рассердился Евсей, – это предоставь судить мне самому. В данном случае я к тебе обращаюсь не как к товарищу по гимназии, а думаю, что тебе еще дороги интересы рабочего класса, и если ты человек принципиальный…
– Нехорошо, – сказал на этот раз громче Ксенофонт Ксенофонтович. – И какого черта ты ко мне за таким делом обратился?
– Ах, даже так? – презрительно заметил Евсей. – Что ж, твое дело. Не смею настаивать. Не тебя первого засасывает болото благополучия и обывательское мирное житие. Твое дело… Тогда у меня такая просьба: разреши денька два побыть у тебя здесь. Хотя мне это очень неприятно – и стеснять тебя, и видеть тебя, – резко закончил Евсей, – но я приду только ночевать.
– Мне это тоже очень неприятно, – сказал Ксенофонт Ксенофонтович. – И… про болото и про благополучие – это чепуха все. Этим меня не уязвишь.
– Да, я вижу, ты слишком толст, – съязвил Евсей, стараясь быть как можно спокойней.
– Это чепуха все, – не слушая его, продолжал Ксенофонт Ксенофонтович, – но я врагов советской власти укрывать не буду. Я не коммунист, но ты уходи отсюда, – неожиданно закончил он взволнованный и встал, тяжело дыша.
Евсей побледнел, поднялся и хотел уйти, но задержался и ехидно произнес:
– Прости, что я нарушил твое спокойствие. Но зря волнуешься. Раз ты уж такой борец с врагами советской власти, то будь последовательным, будь принципиальным, Ксенофонт, а не бесхребетным интеллигентом. Будь последователен и звони сейчас же куда следует. Тебя наградят, и твоя служебная совесть будет спокойна. Стыдно быть бесхребетным интеллигентом, товарищ Колче! – сказал игриво-иронически Евсей. – Звони куда следует! – почти крикнул он на Ксенофонта Ксенофонтовича.
– И позвоню-у! – выпалил Ксенофонт Ксенофонтович, дыхнув прямо в лицо Евсею, приподымая плечи и вытягивая вперед голову.
– Звони! Звони! – кричал с визгом Евсей и матерился. – Звони, председатель!
– И па-а-зван-ню-у, – решительно прорычал Ксенофонт Ксенофонтович и взял телефонную трубку.
Евсей до самого прихода сотрудника молчал. Сидел, посвистывал и ногой постукивал о ножку стола, изредка презрительно оглядывая Колче, который теперь лежал на кровати и усиленно курил, заложив руки за голову.
Увели Евсея. Дождь горстью крупных капель ударил в окно. Покачивались деревья. Ксенофонту Ксенофонтовичу стало невыносимо жаль Евсея. Его мучила совесть. «Как это я так?» Он удивился своему поступку и очень огорчился.
Когда пришла Елена Викторовна, он ей рассказал обо всем.
– И хорошо сделал, – одобрила она.
Елена Викторовна в это время пила чай с молоком и, как показалось Ксенофонту Ксенофонтовичу, очень самодовольно надкусывала принесенное с собой пирожное с кремом. Она часто после работы или заседания приносила с собой в портфеле кондитерские изделия.
– Конечно, – сказал раздраженно Ксенофонт Ксенофонтович, – по-твоему, предавать товарищей – это очень хорошо.
– Я не понимаю тебя, – заметила Елена Викторовна, пальцем стирая с губы выдавленный крем.
– А что ты понимаешь? – злобно перебил Ксенофонт Ксенофонтович. – Ничего ты не понимаешь!
– Чего ты злишься? Противно слушать, – обиделась Елена Викторовна.
– А мне противны такие люди, как ты, которые легко могут предавать. Общественница! Савонарола. Развратили всех… Это все из-за тебя.
– Болван! – отчеканила Елена Викторовна, посмотрела на него с ненавистью и встала, чтобы уйти.
Этого меньше всего желал Ксенофонт Ксенофонтович. Ему хотелось ругаться, грызться, и он поспешил ее остановить градом обидных слов:
– Бездельники! Бюрократы! Паразиты! Ничего не делаете, обжираете рабочих.
– Как ты смеешь! – повернулась к нему Елена Викторовна. – Ты не смеешь! – крикнула она, готовая на него броситься с кулаками.
Только этого и надобно было Ксенофонту Ксенофонтовичу.
– Все равно, – сказал он, на этот раз чересчур спокойно, – как ни старайся, тебя в партию не запишут. – Он знал ее больное место и это произнес особенно четко и уверенно. – Хуже нет, – прибавил он, – когда беспартийные стараются быть ортодоксальней коммунистов. Савонарола!
В это время вошел Миша. Он все слышал из своей комнаты и теперь вошел и поразился.
Маленькая мать стояла, разъяренная, сжимая кулаки, против богатыря-отца.
Несмотря на огромную разницу в росте и весе, они были похожи друг на друга.
«Какие они оба противные!» – подумал про них Миша и сказал с отвращением:
– Как вам не стыдно!
– Пшел в свою комнату! Не вмешивайся не в свое дело, щенок! – брезгливо прикрикнул отец.
– Я тебе покажу, какой я щенок! – крикнул Миша и изо всей силы стукнул кулаком по столу так, что зазвенела мамина чашка с недопитым чаем.
– Он имеет право вмешиваться. Он – комсомолец, а это политическое дело! – кричала мать.
– Вот вы какие!.. Сидите на моей шее, – произнес жалобно Ксенофонт Ксенофонтович и уже у дверей своей комнаты, кивнул злобно в сторону Миши, прибавил: – Правду говорил Евсей, что вот из таких молодчиков готовят фашистов…
Все разошлись по своим комнатам и в течение многих дней избегали друг друга.
Однажды Ксенофонт Ксенофонтович прочел в «Правде» письмо в редакцию за подписью Евсея. Евсей очень убедительно и искренне писал, что до сих пор вся его работа в рядах меньшевистской партии была предательской по отношению к рабочему классу. Он призывал всех товарищей, которые его знают, порвать со II Интернационалом, оплотом капиталистов, и честно работать с советской властью… «Единственная защитница трудящихся… правильно руководимая ленинской партией… Надо отдать весь мозг, все свои силы стране строящегося социализма… Отечество мирового пролетариата».
– Ото плут! – сказал весело по-украински Ксенофонт Ксенофонтович. – Ото мошенник! Ото стервь! – и с газетой в руках вошел в комнату к Елене Викторовне и попросил прощения…
В общем, Миша был доволен своими родителями – ведь могли быть и хуже.
Если Миша еще не знал, какова будет его основная специальность, то зато он твердо был уверен в том, что живопись – это его побочное занятие. Его учитель, художник Яхонтов, был другого мнения. Он говорил Мише:
– Ваше основное занятие – живопись, живопись, живопись, а все остальное чепуха. Вы – талант. Поймите раз и навсегда: вы – талант, а таланты так же редки, как крупные алмазы.
Слышать это, конечно, было приятно Мише. Он любил, когда его хвалили. Но смешно: почему он должен верить художнику Яхонтову?
– Почему? – спрашивал он. – Вот вы говорите – я талант, но почему? Объясните, Аркадий Матвеевич. Талант – это же не мистика.
– А черт его знает почему, – отвечал на это, не задумываясь, Яхонтов. – Мне уже пятьдесят пять лет, – говорил он, – я побывал в Париже и в Италии. Кое-что видел на своем веку, так что верьте мне – вы талант.
– Но почему? – приставал Миша. – Объясните!
– Объяснить я не могу, и этого, вероятно, никто не может. Но у вас такой цвет, что иногда он мне снится. Когда я смотрю ваш пейзаж, ваши картины, я волнуюсь, я сильней дышу. А я видел на своем веку картины не хуже ваших, смею вас в этом уверить, – прибавлял он обиженно. – Раз я говорю, вы талант, значит, это что-нибудь значит. А почему? Черт его знает почему? Я сам не понимаю!
Художник Яхонтов многих вещей не понимал и в этом охотно признавался. Он смотрел на мир теми же глазами, которыми смотрели и тысячу лет тому назад, и мало над чем задумывался. Он, например, до сих пор не мог понять, как это человек произошел от обезьяны. Миша ему неоднократно объяснял происхождение человека.
– Так-то так, – неохотно соглашался Аркадий Матвеевич. (Разговор обыкновенно происходил во время работы. Мишины мольберт и холсты хранились в мастерской у Яхонтова. Мишина комната выходила окнами в сад, и там было темно для живописи.) – Так-то так, – неохотно соглашался Аркадий Матвеевич, осторожно мешая кистью белила, – но скажите, если обезьяны превратились в людей, так почему они вот сейчас не превращаются? Почему мы этого не замечаем?
Он любил пофилософствовать во время работы.
Миша ему рассказывал подробно все, что знал о происхождении человека. Он ему говорил о скелетах человекообразных обезьян. Он указывал на червеобразный отросток слепой кишки, зубы мудрости, остатки волосяного покрова и многое другое, что человек получил от своих далеких предков.
– Так-то так, – неохотно соглашался художник Яхонтов и неожиданно делал физиономию: мол, меня не проведешь, и хитрым старческим голосом напевал: «Все туманно… Как все туманно!»
Обыкновенно этот разговор заканчивался любимой репликой Аркадия Матвеевича:
– Все правильно, но об этом лучше умолчим, как писал Пушкин, и в конце поставим «вале».
И что в данном случае надо понимать под словом «вале» – знал один художник Яхонтов.
Между тем Аркадий Матвеевич и сам, как никто, был чрезвычайно похож на облезлую обезьяну. Тяжелый подбородок, узкие жалобные губы и длинные волосатые руки. Он никогда спокойно не стоял на месте, а когда разговаривал, то все время махал руками, будто отгонял мух, и собеседника обыкновенно припирал к стенке.
Густоволосатый Яхонтов был добросовестный художник. У него все было на месте. Есть такие и литераторы, у которых все правильно – и эпитеты, и прилагательные, и завязка, и развязка, и идейка современная – все правильно, но вот чего-то не хватает, и читать скучно. Неинтересно. И если прочтешь, то забудешь. Приблизительно так обстояло и с картинами художника Яхонтова. И рисунок четкий, и все пропорции соблюдены, и перспектива есть, но вот чего-то не хватает. У такой картины долго не постоишь.
Аркадий Матвеевич и сам был о себе такого же мнения.
– Я художник-середняк, – говорил он Мише про себя. – И такие нужны.
В самом деле, и такие нужны. Аркадий Матвеевич, действительно, побывал и в Париже, и в Италии, и сейчас мог бы вполне соревноваться со многими художниками-середнячками в Москве, но он этого не желал.
– Тут спокойней, и мастерская есть, – рассуждал он. – Лучше быть средним художником здесь, чем в Москве. Там середняков и без меня хватает, а посмертную выставку мне и так устроят. Верно, Миша?
Художник Яхонтов жил холостяком. Каждую весну, когда Аркадий Матвеевич ходил с Мишей на пейзажи, он всегда ему рассказывал одну и ту же историю: как в молодости он любил одну девушку, а она его не любила.
Последние годы Яхонтов большей частью писал юбилейные картины. Их охотно покупали клубы за недорогую цену. Картины свои он всегда подписывал: «А. М. Яхонтов».
Миша никогда не подписывал своих работ. Он говорил:
– Надо так работать, чтобы и без подписи все знали, что это твои картины.
Аркадий Матвеевич по своей собственной инициативе устроил у себя в мастерской выставку Мишиных картин. Почти никто не пришел. Пришли только Елена Викторовна с двумя своими знакомыми, и то им было очень некогда и они спешили.
Разговоры с Яхонтовым на тему о происхождении человека натолкнули Мишу на мысль изобразить это в красках. Гиббон, оранг, шимпанзе, горилла и человек стояли, взявшись под ручку, семейным портретом и одинаково лукаво улыбались. Внизу углем Миша нарисовал их скелеты. Эту картину он шутя нарисовал специально для Аркадия Матвеевича. И как ни протестовал Миша, Яхонтов настоял, чтобы эта картина участвовала на выставке.
«Портрет шизофреника», «Взятие Бастилии», «Красноармейские части вошли в город», «Последняя атака». Это были все картины. Затем шли пейзажи, акварель. Дул ветер, лил дождь, проглядывало сквозь тучи солнце, с крыш сбрасывали снег, мычала корова. Потом еще наброски и рисунки. Серия рисунков – герои «Войны и мира» Льва Толстого в нашу эпоху.
Елена Викторовна сказала, что в общем ей нравится, но непонятно и неактуально. Такого же мнения были и ее знакомые. Один из них довольно резко спросил Мишу:
– Почему у вас в картине «Красноармейские части вошли в город» нарисована ночь, луна, окраина и на скамеечке какой-то парень – это, должно быть, у вас рабочий?
– Да, – ответил Миша.
– Почему же этот рабочий сидит и тискает девушку? Или почему в «Последней атаке» в буденовках скачут среди красноармейцев Энгельс и Маркс?.. Хотя это еще с натяжкой можно понять, но нелепо… И самое дикое, вы написали взятие Бастилии людьми в толстовках, гимнастерках – в современных костюмах. Ведь это искажение исторического факта!
Другой мамин знакомый говорил более мягко и не на тему Мишиных картин.
– Это футуризм, – сказал он уверенно. – Но если футуризм как мелкобуржуазное течение еще имел почву до семнадцатого года, то сейчас…
Серия рисунков к «Войне и миру» всем понравилась.
– Хорошо типы сделаны, и хорошо, что Пьер – белогвардеец. Но почему Андрей Болконский – красный командир? Это совершенно непонятно.
Миша хотел объяснить, возражать, но они все спешили высказаться и уйти.
– Не обращайте внимания, – сказал Яхонтов, когда ушли посетители выставки. – Они ничего не понимают. Вас всегда будут ругать, но таланта вашего никто не отнимет.
Когда Мишу хвалили, он испытывал прилив силы, дрожь пробегала по телу. Все-таки он считал, что живопись – это побочное занятие, основное – другое, еще неизвестное, но что-то очень значительное.
Ранней весной Елена Викторовна получила письмо от брата. Александр Праскухин писал, что осенью уезжает на работу в торгпредство в Литву на год, а может быть, и больше, и если Миша собирается в Москву, то на этот срок может занять его комнату.
Миша начал готовиться к отъезду в Москву, но в это время его исключили из комсомола. Вот как это случилось.
Таня, жена старого раввина, уехала в Москву. Ее увез в Москву музыкально-вокальный сатирик-юморист Сладкопевцев.
Мать Тани умерла четыре года назад. Это была высокая женщина с лицом, похожим на помятое вафельное полотенце. От нее пахло щелоком, и влажная кожа на руках ее светилась. Она была прачка и стирала белье сумасшедшим. В свободные дни она пила водку, валялась в канаве и хрипло орала: «Возьми мою родилку на кадилку!» По пятницам Таня вместе с своей матерью мыла подоконники и пол в квартире раввина. В прачечной лечебницы было жарко и душно, мать Тани часто босиком выбегала на мороз и ветер, чтобы охладиться. Она простудилась и умерла. Тане тогда минуло четырнадцать лет.
Раввин предложил ей переселиться к нему: «Будешь у меня по дому хозяйничать, работы немного – сможешь и учиться». За четыре года раввин так привык к Тане, что она незаметно стала его любовницей. Черноглазая, с морковными волосами, Таня очень быстро на хлебах раввина выросла и расцвела. Миша помнил ее некрасивой, веснушчатой девочкой с крысиной косичкой. Она иногда вместе со своей матерью приходила на кухню к Ксении и всегда пряталась за юбку матери. Когда Ксения давала ей конфету, Таня долго языком передвигала конфету то к одной щеке, то к другой. Теперь Миша, встречая ее на улице, удивлялся: откуда такая величественная походка? Миша с ней раскланивался, и она отвечала медленным наклоном головы, чуть улыбаясь.
Однажды в мастерскую к художнику Яхонтову пришел раввин в застегнутом наглухо черном пальто и в коричневом котелке. Он был похож в одно и то же время на Мефистофеля и на козу с вспотевшими голубыми глазами. Раввин любил живопись и нередко заглядывал в мастерскую. Перед самым уходом он предложил Аркадию Матвеевичу написать портрет Тани.
Через несколько дней случилось так, что Таня вместе с Мишей поднимались на верхний этаж мастерской.
– Вот хорошо, – приветствовал их старый художник, – прямо замечательно! Миша, пишите портрет самой красивой девушки в Белоруссии. Я бы сам написал, но у меня получится не так экстравагантно, хуже, – объяснил Аркадий Матвеевич.
Из мастерской Миша вместе с Таней отправились к ней на квартиру, чтоб выбрать соответствующее платье для портрета. Она примеряла свои лучшие платья и всякий раз, появляясь из-за ширмы, спрашивала:
– Ну как? Ничего?
– Да так, – отвечал неопределенно Миша, деловито разглядывая ее со всех сторон.
И в зеленом бархатном, и в голубом вязаном, и в шелковом красном, и в палевом, и в синем – всякий раз, когда Таня выходила из-за ширмы, она была стройней и новей. Мишу поражали ее величественные жесты. Правда, платья были дорогие, красивые, заграничные (раввину из Америки присылали родственники и друзья; они же ему присылали деньги, шоколад и какао), но надо уметь их носить. Мише нравилась Таня во всех платьях, но дело в том, что у него было желание писать ее голой, и об этом он не решался сказать. Наконец Таня вышла в своем обыкновенном домашнем сарафане, села рядом с Мишей на диван и огорченно сказала:
– Вам не нравятся мои платья?
– Нет, – смутился Миша, – мне нравятся, но я хотел бы, – признался он, – писать вас голой.
– Совсем? – спросила просто Таня.
– Не совсем. Совсем – это будет не то, – сказал Миша. – Совсем голой – это будет не искусство… Я еще сам не знаю, как.
– Ага, – сказала Таня, о чем-то догадываясь, вскочила с дивана и ушла за ширму.
Через несколько минут она вышла голая, но в лакированных туфельках, в голубых рейтузах и розовом бюстгальтере.
Это было так неожиданно и ярко, что Мишу обожгло. Это было ослепительно.
– Ну как? Ничего? – спросила она так же озабоченно, как пять минут тому назад.
Правую руку она ткнула в бок, а левой рукой легко придерживала затылок и медленно поворачивалась перед Мишей на носках, как перед зеркалом. Золотистые подмышки шевелились солнечной пылью.
– Ну как? Ничего?
Миша молча встал, приблизился к ней и хотел погладить ее спину, дотронуться до ее сверкающих плеч.
– Ну-ну, будьте ласковы!.. – она погрозила притворно-строго пальчиком и молнией скрылась за ширму.
Миша покраснел.
Когда она оделась и опять села рядом с ним на диван, Миша все еще был взволнован.
– Так как же вы меня будете рисовать?
– Как хотите, – ответил он, совершенно подавленный.
– Тогда лучше в бархатном. Это самое дорогое платье. Вы знаете, и портниха, которая мне перешивала, тоже говорит, что такой вельвет ей и в довоенное время не попадался. Она понимает: она ведь шила когда-то губернаторше.
Таня в автобусе часто ездила в областной город к портнихе, в театр, к маникюрше, к парикмахеру.
Когда Миша собирался уходить, Таня попросила его в столовую завтракать. Стояло много разнообразной еды. За столом сидел раввин и молчаливо, очень важно – казалось, только одними толстыми плюшевыми губами – обгладывал маслину.
Миша отказывался завтракать.
– Ну тогда выпейте чашку шоколаду, – предлагала Таня. – Выпейте же, – говорила она певуче, с легким украинским акцентом, – с бисквитиком. Будьте ласковы. Выпейте же или чего съешьте.
Несмотря на обилие вкусной и разнообразной пищи, Миша ни до чего не дотрагивался. Ему еда здесь была противна, так же как бывает противна растущая на кладбище малина. На кладбище бывает много малины, она жирная, спелая, сочная, но есть ее неприятно.
На улице Миша купил пачку папирос, первый раз в жизни закурил. Легкое головокружение доставляло удовольствие.
Теперь каждый день Миша встречался с Таней в мастерской. После работы он провожал ее до дому, но к ней никогда не заходил. Самое приятное бывало – вдруг вместо работы отправиться с Таней в кино, на дневной сеанс, и в темноте то сжимать, то гладить ее руку. Миша не знал, о чем с ней говорить. Иногда он подтрунивал над раввином.
– Как старик? Небось с ним не особенно сладко? – спрашивал он нарочно развязно.
– Не, отчего же, – отвечала Таня, как всегда, слегка нараспев. – С ним жить можно: он еще крепкий и не обижает. Потом я в город езжу, там с людьми встречаюсь.
– Разве вас раньше обижали?
– А как же! – отвечала она так, как будто иначе и не могло быть. – Я натерпелась.
Миша много раз хотел пригласить Таню к себе домой, но всякий раз стеснялся сказать ей об этом. Ему казалось, что она сразу догадается, для какой цели он ее зазывает к себе. Дома у него давно были заготовлены бутылка портвейна и конфеты. Всегда, когда он открывал шкаф и вино и конфеты попадались ему на глаза, он краснел и прятал свои припасы подальше.
Вот раз, после дневного сеанса в кинематографе, он предложил ей:
– Пойдемте сейчас к нам. У нас в саду жасмин расцвел, и я вам наломаю вот такой букет!
И он показал руками, какой это будет большой букет.
Таня пошла, хотя все время торопилась:
– К обеду поспеть, а то он не любит, когда запаздываю.
Она раввина называла «он».
Миша пришел с Таней к себе в комнату. Она села прямо на кровать, зевнула и сказала:
– Как у вас тут хорошо! Прохладненько.
– Да, – согласился Миша, думая о том, с чего начать. (Предлагать ей вино, заготовленное с заранее обдуманной целью, было просто невозможно.) – Да, – произнес он еще раз, решительно подсел к ней, обнял ее и сказал взволнованно: – Таня, вы очень хороши.
– Это все находят, – ответила она, доставая из сумочки краску для губ.
– Таня, – прошептал Миша, крепче прижимая ее к себе. – Таня, – сказал он очень серьезно, – я вас не люблю, но у меня другое к вам чувство. Таня, я хотел бы, Таня…
– Никогда в жизни! – почти вскрикнула Таня и вскочила с кровати. – С вами?! – сказала она, глянув на Мишу с некоторой ненавистью, и захлопнула сумочку. – Никогда!
Она подошла к окну, отдернула занавеску, но быстро задернула ее опять. У окна стоял больной идиот, приплюснув побелевший нос к стеклу, с вывернутыми красными веками. По безвольной опущенной нижней губе его стекала слюна.
– С вами – никогда! – повторила твердо Таня, будто Миша был тот идиот, что стоял сейчас за окном.
Между тем Таня была вовсе не такая добродетельная. Но до сих пор ни один человек так откровенно не говорил с ней, как Миша. Первый раз в жизни в этих делах она почувствовала себя неловко и поспешила уйти.
В полуоткрытую дверь медленно и важно вошел черный кот, перекатывая зеленые глаза, точно капсюли с касторкой.
– Пошел вон, собака! – бросился на него в бешенстве Миша и захлопнул дверь.
Миша лег на кровать лицом вниз и почувствовал себя жалким и ничтожным.
«Ну да, я урод. Я страшный урод, меня никто не полюбит, – думал он в отчаянии. – Я некрасивый и маленького роста. Больше никогда не буду расти, у меня рано развились половые железы…»
Набожные евреи, а особенно старые еврейки сожительство раввина с Таней переносили как большое личное горе. Их это оскорбляло и возмущало, хотя они старались думать, что Таня вовсе не жена раввина, а просто прислуга. Общественного скандала они избегали – у раввина были большие заслуги и он имел прекрасное происхождение. Отец раввина был раввином, дед был раввином и дед деда был тоже раввином. Раввина знали в Праге и в Америке. Иногда он, чтобы задобрить Таню, говорил ей: «Ты знаешь, мой ландыш, мы, может быть, уедем с тобой в Сан-Франциско». И слово «Сан-Франциско» звучало для Тани синим и необыкновенным.
Тане у раввина жилось хорошо. Шелковые чулки, три пары туфель, платья, колечки, какао и еженедельные поездки на автобусе в город. Раввин был тоже доволен. Он цвел от любви и радости!
Прекрасная старость!
Но вот приехал музыкально-вокальный сатирик-юморист Сладкопевцев, и все пошло прахом. Сладкопевцев гастролировал по городам Белоруссии. Он выступал со своими песенками и куплетами в кинематографах Минска, Могилева и Витебска. В Витебске Сладкопевцев вспомнил, что, собственно, он и сам вырос в Витебской губернии. Роскошного куплетиста, в лакированных штиблетах и с хризантемой из стружек белого батиста, потянуло на родину. Ему захотелось посмотреть те места, где он когда-то бегал босиком и ел булки с черничным вареньем. К тому же был месяц май, дорога не пылила, и листья на березе блестели, как перья чижика. Насвистывая что-то из своего богатого репертуара, он сел в автобус и поехал в родные края.
«Кстати, – думал он, – там есть кино; дам три концерта и – обратно».
В первый же вечер он разочаровался в своей поездке. Ни знакомых, ни кафе здесь не было. Его никто не знал. Ему было скучно и немного грустно, как всегда бывает, когда после долгого отсутствия вновь попадаешь на родину. Он, зевая и лениво притоптывая «лакирашками», выступал перед своими соотечественниками, которые пришли послушать московскую знаменитость. Знаменитость равнодушно оглядывала серую публику и без ужимок и вдохновения выполняла свои обязанности перед администрацией кинематографа.
Как ныне сбирается хищный буржуй… —
пел он вполголоса. И когда ему кричали: «Громче!» – он показывал на свое горло – мол, в дороге простудился – и продолжал так же вяло:
В своей кровожадной миссии —
Взошедшего солнца украсть поцелуй
У нас, пролетарьев России,
Так громче, музыка, играй победу…
– Раз, два, – притоптывал он без энтузиазма и аккомпанемента.
Но вот в начале последнего сеанса Сладкопевцев заметил Таню. Он заметил ее заграничное вязаное пальто, синий берет, лицо ее издали блеснуло тузом червей среди черных девяток, восьмерок, валетов и засаленных дам.
«Откуда здесь такая фокстротная девуля?» – удивился Сладкопевцев.
И, обращаясь исключительно к Тане (это заметили и другие), он во всем блеске исполнил свой коронный номер. Это были давнишние, любимые его куплеты, которые заканчивались грустным философским завыванием:
В жизни живем мы только раз.
Извиваясь, он скользил и падал, он размахивал руками, подбегал к рампе, готовый соскочить со сцены, и застывал на месте, вытягивал шею, улыбался, двигал плечами, грустно качал головой.
Он пел:
Мы ведь любим только вас:
Не забыть твой…
Здесь он особенно вытянул шею, долго шарил глазами по лицам присутствующих и вдруг, будто невзначай, остановил свой взгляд на Тане, улыбнулся, топнул ножкой, утвердительно мотнул головой.
…черный глаз.
В жизни живем мы только раз.
Он так произносил это «В жизни живем мы только раз», будто хотел сказать: «Раз такое дело, граждане, так ничего тут не попишешь».
Тане очень понравились эти куплеты. Собираясь лечь спать, она разбудила раввина и в одной рубашке, притоптывая босой ножкой по коврику, подражая всем ужимкам и движениям гибкого куплетиста, спела: «В жизни живем мы только раз».
– Ложись скорей, бесенок, простудишься, – сказал влюбленный и счастливый раввин.








