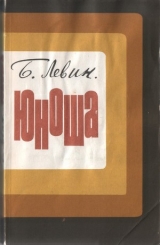
Текст книги "Юноша"
Автор книги: Борис Левин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц)
– Сколько вам лет?
– Вчера в дороге исполнилось восемнадцать, – охотно и так же возбужденно продолжал Миша. – Это уже очень много! Через каких-нибудь двенадцать годков будет тридцать, и финиш. Как мало сделано, и как мало осталось! Вы знаете, товарищ Праскухин, – произнес он, как равный, и сел верхом на стул, – тридцать лет – время реализации накопленного капитала. Вот почему и надо спешить как можно больше накапливать, чтобы было что реализовать. «Дзэт из дзэ квешен», – произнес он по-английски и перевел: – «Вот в чем вопрос», – будто сомневался, знает ли дядя эту потрепанную фразу из монолога Гамлета.
– Это неверно, – сказал Праскухин. – Мне через три года сорок, и я…
Но он не закончил своей мысли, заметив ироническую улыбку на полуоткрытых Мишиных губах, и сурово спросил:
– А что вы будете делать в Москве?
– Учиться. Полагаю специализироваться в области математики и физики, – заявил важно Миша. – Потом я и художник…
И то, что Миша художник, и то, что «полагает специализироваться», показалось Праскухину ненастоящим, его раздражал нахальный и слишком самоуверенный Мишин тон.
– Да, но вы ведь и комсомолец, – напомнил он, подчеркивая, что Миша забыл самое главное.
– Ну что ж, – соврал Миша. – Прикреплюсь к заводской ячейке, вот и все. – Он вскочил со стула, подошел к книжной полке и, пробежав по корешкам, сказал: – Как мало у вас книг по естествознанию и философии!
Праскухин ничего не ответил. Книг по философии и естествознанию действительно мало на полке. Но выслушивать это от Миши было неприятно. И не объяснять же этому пареньку, что и тех книг, которые стоят на полке, он тоже не успевает прочесть, потому что каждый день возвращается с работы в двенадцать часов ночи, а то и позже.
Позвонил телефон, и снизу сообщили, что приехала машина за товарищем Праскухиным. Александр Викторович надел пальто, молча вышел. Когда шел по коридору и спускался по лестнице, он еще думал о Мише и жалел, что у Елены такой сын, но, выйдя на улицу и садясь в машину рядом с шофером, Праскухин забыл о племяннике.
Его удивило, что сегодня за ним приехал новый шофер.
– А где Шура? – спросил он.
– Она больше ездить не будет, – ответил шофер. – Ей остался последний год в институте, и больше ездить не будет.
– А вы тоже учитесь?
– А то как же!.. Но я только на третьем курсе. Еще до весны придется поездить.
– Где же это вы все учитесь?
– Я в МИИТе, Шура…
Александр Праскухин не слушал. На его памяти за последние три года меняется уже пятый шофер, и все они учатся. А вот он… «Реализация накопленного капитала», – вспомнил Мишины слова… «Реализовать-то у вас уж и нечего, товарищ Праскухин… Вот извольте ехать в Литву. В тысяча девятьсот одиннадцатый год…»
Перед уходом из Центросоюза, когда заведующий личным столом вручил ему билет и плацкарту на поезд в Ковно, Праскухин попросил, чтобы тот ему дал письменную справку, сколько за последние три года сменилось шоферов, которые ездили с ним, и где они сейчас работают.
– Это мне нужно… Сделайте это сейчас, – попросил он. – В справке должны быть указаны только те шоферы, которые меня возили. Только меня, – повторил он.
Ему дали эту справку.
Иван Мохнатов выбыл из Центросоюза такого-то. Сейчас работает инженером-механиком на заводе имени Дзержинского… Так… Александр Деньков выбыл такого-то. Сейчас работает в Ленинграде в Радиевом институте… Так, так… Егор Лепехин убыл такого-то, сейчас экономистом в Госплане… Прекрасно… Александра Урюкова освобождена от работы со вчерашнего дня, ввиду личного заявления. Учится последний год в Институте путей сообщения…
– Оч-чень хорошо… – сказал Праскухин, аккуратненько сложил справку, спрятал ее в бумажник.
Он пришел в ЦК, в тот отдел, где десять дней тому назад просился, чтоб его послали на партийную работу.
– Ты еще не уехал? – спросили у него.
– Я сегодня еду, – ответил он озабоченно. – Но вот что я хотел тебе сказать. – Он вынул справку и подробно рассказал о четырех шоферах, которые его возили в течение трех лет.
«Все эти шоферы пооканчивали высшие учебные заведения, а он просит такую мелочь, как послать его на партийную работу. Он с двадцать третьего года…»
– Это ловко, – перебил его мысли товарищ, которому он показал справку. – Это ловко, – повторил он, возвращая ему бумажку. – Говоришь, и пятый учится?
– Ну да, – ответил Праскухин.
– Это ловко, – еще раз сказал товарищ, закурил. – Ты слышал? – спросил он у сидящего напротив работника.
– Я слышал, – ответил тот с таким выражением, что, мол, его-то трудно удивить такими делами. И в свою очередь рассказал, как этим летом он был на переподготовке и командиром полка той части, куда он был призван, оказался бывший вестовой штаба, где он когда-то был комиссаром.
– Командир полка в мирное время – это не в гражданской войне. Это надо кончить Военную академию. Вот что это, – закончил он и тоже закурил.
– А вот я вам расскажу: у нас была домашняя работница, – вмешался в разговор и третий, который пришел сюда за каким-то делом и до сих пор сидел молча в стороне, – так эта домашняя работница сейчас работает сотрудником в институте у академика Иоффе…
– Хватит, товарищи! Надо работать…
Праскухин ушел, и у всех было такое впечатление, что он просто зашел сюда случайно, чтобы попрощаться перед отъездом. И у него самого было такое же впечатление.
Миша был недоволен своим разговором с дядей. Он думал, что был слишком болтлив и мало солиден и совсем не такой, каким хотел показаться Александру Праскухину. Он съездил на вокзал, привез на извозчике чемодан, одеяло и подушку, холсты и мольберт.
Миша спал на диване, когда вернулся Праскухин. В комнате пахло яблоками и красками. Праскухин разбудил его, сказал холодно:
– Я уезжаю, Миша. До свиданья. Будьте здоровы.
И только когда захлопнулась дверь и в коридоре стихли шаги Александра Викторовича, Мише стало невыразимо жаль, что он не успел с Праскухиным поговорить как следует и что тот его не понял. Хотел вскочить, догнать его, крикнуть: «Дядя!» – и все ему рассказать, и все ему объяснить. Миша ярко вспомнил весь этот нелепый утренний разговор с Александром Праскухиным и замычал от досады. И это «дзэт из дзэ квешен», и эта декламация Маяковского, и эта «реализация накопленного капитала»… Зачем это надо было? Как это все неумно!.. И вспомнил, что он сказал про яблоки: «сентябрьская медь и осенняя прохлада…»
– Ой, как это надуманно и плохо!.. – простонал Миша.
И вспомнил, что он сказал про маму и папу: «старики». Как это пошло!
Ему было мучительно стыдно за весь давешний утренний разговор с Александром Праскухиным.
Огорченный и усталый с дороги, Миша, не раздеваясь, заснул на диване.
У Миши было письмо от Яхонтова к профессору живописи Владимиру Германовичу Владыкину. Прежде чем пойти к профессору, Миша распечатал письмо, – вдруг там что-нибудь унизительное: «Подающий надежды… Мой ученик… Способный паренек…» Миша терпеть не мог этого жалостного бормотания. Письмо оказалось коротеньким, вполне достойным и без знаков препинания.
«Дорогой Владимир Германович… познакомьтесь с тов. Колче посмотрите его работы и вы увидите что это очень талантливый художник а самое главное ни на кого не похожий до свидания буду в Москве обязательно увидимся и еще поспорим…»
«С таким письмом не совестно», – и Миша тщательно заклеил конверт.
Профессор Владыкин жил на самой шумной улице – на Мясницкой. На десятом этаже. Лифт не работал. Миша насчитал триста пятьдесят девять ступенек. Он передохнул, поправил галстук и позвонил. Дверь открыла женщина, с первого взгляда чем-то напоминавшая Аделаиду. Она удивленно посмотрела на Мишу и серьезно, по-ребячьи, кивнула каштановой головой.
– Здравствуйте!
Она так тихо и робко уронила это «здравствуйте», что Миша смутился и, не глядя на нее, спросил как можно солидней:
– Товарищ Владыкин дома?
– Володя, к тебе! – крикнула она полным, свежим голосом и скрылась.
В высоких американских зашнурованных ботинках кирпичного цвета (трофей интервенции; таким ботинкам сносу нет, – кто воевал на колчаковском фронте, тот помнит эти ботинки, да и на деникинском они попадались, но реже; зато на деникинском хороши были английские кожаные безрукавки: мягкие, теплые – на фланельке, с шоколадными пуговицами) и в длинной рубахе с воротником, подпирающим подбородок, вышел молодой буролицый профессор Владыкин.
– Вы ко мне? Заходите, товарищ, – сказал он озабоченно.
Миша вошел в комнату. Профессор сел в кожаное кресло, заложил ногу на ногу и, издав горлом звук, будто собирался отхаркнуться, разорвал конверт. Прочел письмо, приветливо посмотрел на Мишу.
– Вы будете Колче? Очень приятно.
Когда он произнес: «Вы будете Колче?», Миша, сам не зная зачем, слегка приподнялся со стула. Потом он с досадой вспомнил об этом: что-то тут было заискивающее.
Владыкин сказал, что с удовольствием посмотрит Мишины картины, но когда это сделает – не знает. Во всяком случае не сегодня и не завтра.
– Посудите сами… – вздохнул молодой профессор, достал записную книжку, и Мише стало известно, что это чрезвычайно занятой человек.
Он преподает в высшей школе живописи и на рабфаке; кроме того, он член редколлегии теоретического журнала «За революционную живопись», кроме того, он член секретариата Общества пролетарских художников; кроме того – общественная работа на заводе; кроме того, он бригадир очень важной юбилейной комиссии, где еще до сих пор ничего не сделано, и, кроме того – ведь самому-то тоже нужно когда-нибудь писать? У него третий месяц пылится загрунтованный холст.
Миша ему посочувствовал.
– А чтоб прийти к вам, – сказал Владыкин и опять издал кархкающий звук, и на этот раз подошел к плевательнице. – А чтоб прийти к вам, – продолжал он, садясь на прежнее место, – на это дело надо потратить два-три часа. Ведь вы-то сами не потащите свои полотна ко мне, на десятый этаж?
– Нет, отчего же, я потащу, – охотно согласился Миша.
Он хотел угодить профессору. Ему нравился Владыкин – и то, что он такой занятой, и то, что это здоровенный высокий парень с длинными руками и широкими кистями. «Лицо простое, и весь он такой демократический. Вот именно демократический». Мише нравился Владыкин. Миша хотел походить на него, носить такие же американские ботинки с такими же крепкими подметками, как у Владыкина. «Сильный, волевой человек. Вот с таким хорошо вместе драться за новое, настоящее искусство».
– Это пустяки, Что десятый этаж. Я притащу.
Профессор улыбнулся. Верхняя поросячья губа подвернулась, обнажив розовую десну, остренькие белые зубки. Он улыбнулся, потому что подумал: «От этого мальчика так легко не отделаешься».
– Вот что, – сказал Владыкин решительно. – Я попрошу жену, она художница, я ей вполне доверяю, – и он хозяйским голосом крикнул – Нино! Нинуся!
Она вошла в комнату и строго спросила:
– Что надо?
На этот раз она напомнила Мише не Аделаиду, а Таню. Таню, когда она идет по городу, важная и недоступная. «Нет, она не похожа ни на Таню, ни на Аделаиду. Она то и то… Брови, как спинка пчелы, и их хочется гладить…»
– Что? – повторила она.
У нее брови темнее волос, спущенных на лоб, и в серых глазах бледно-голубой блеск. Она поворачивает голову, и тонкая шея, обтянутая смуглой кожей, и шейные позвонки нежно просвечивают детскостью. Миша разглядывал ее. «Она очень русская. Вот почему она напомнила и Таню и Аделаиду. Где она выросла? Она стройная, и плечики у нее приподняты… Хорошо ли тебе здесь, на десятом этаже, на Мясницкой улице? Счастлива ли ты? Лицо у нее грустное и мягкое. Это хорошо, что грустное. Я не люблю розового благополучия. О чем она думает? Где ты выросла? Хорошо ли тебе?»
Миша разглядывал Нину, хотел ей понравиться и дружить с ней.
Владыкин попросил жену – не сможет ли она пойти вот к этому товарищу и посмотреть его работы.
– Сделай это, Нинуся, сходи, посмотри и расскажешь мне.
Она согласилась и спросила у Миши адрес и телефон.
Миша сообщил телефон и неожиданно для себя стал рассказывать, что телефон не его, а Праскухина, что Праскухин – его дядя и уехал в торгпредство в Литву на год, а может быть, и больше.
Он рассказывал и чувствовал, что Владыкиным совершенно неинтересно и не к чему знать, кто его дядя и куда он уехал, но Миша не мог остановиться и, краснея и злясь, сообщил даже о том, что Праскухин – большевик с семнадцатого года и участник гражданской войны.
Он недовольный уходил от Владыкиных. Как это глупо получилось! Когда шел сюда, он был бодр, уверен в своей силе. Он нес с собой много смелых мыслей о живописи, современном рисунке, а вместо этого что-то мямлил про дядю. Как это глупо получилось! Они еще подумают, что он хвастался. И кто его тянул за язык!
Вспомнив, что картины придет смотреть жена профессора, он окончательно расстроился. «Только этого не хватало, чтоб еще какая-то баба вмешивалась в мои работы! И почему я согласился? Надо было отказаться и уйти… Вот невезенье… И вчера то же самое… Этот дурацкий разговор с Праскухиным. Вот невезенье!..»
– Какой симпатичный ребенок! – сказала Нина, когда Миша ушел. – И как он смотрел на меня своими теплыми глазками! Откуда забрел к нам этот неказистый петушок, Володя?
– Из Белоруссии приехал. Сходи, посмотри. Яхонтов – помнишь того чудака-художника, что у нас в прошлую зиму обедал? – хвалит его, но я должен сказать тебе, что и вкус же у Яхонтова, – и профессор издал кархкающий звук.
– Когда ты отучишься от этого «хырр»? – заметила Нина. Она стояла у окна, сосредоточенно что-то разглядывала. – Это очень противно.
За окном брезентовое небо, темно-красные крыши, черные провода; к стеклу прижались, нахохлив перышки, два голубя с неподвижными глазами незабудок.
3
Дети, в школу собирайтесь:
Петушок пропел давно…
Попроворней одевайтесь:
Смотрит солнышко в окно, —
и папа нагибался, целовал еще сонную шейку Нины. Нина думала, что у папы мармеладные губы, крепче стискивала глаза, складывалась перочинным ножичком и нарочно громко храпела, как взрослая.
– Ах, ты так? – говорил папа.
Он знал все ее хитрости и – залезал холодной ладонью под одеяло. Нина немедленно вытягивалась, разжимала веки. От папы пахло одеколоном и табаком. Папины седые усы, его черные глаза, солнце на потолке и солнце на умывальнике – это детство. Это и сейчас иногда снится.
Нина не любила вставать, придумывала всякие причины, как бы дольше поваляться в кровати.
– У меня пузо болит, – жаловалась она, корчилась и хваталась за щеку, будто у нее болели зубы. – Ой-ой, как болит!
– Врешь, маленькая крыса, врешь, – и папа стягивал одеяло.
А Нина не давалась и просила:
– Ну папочка, ну дорогой, ну миленький, ну золотой, ну еще немножечко.
Тогда папа шел к Петиной кроватке, а Петька выпрыгивал оттуда – и прямо к Нине. Они обнимались, смеялись и дрыгали ногами – устраивали мельницу.
Папа хватал их за пятки. Петька вырывался, а Нинину пятку папа крепко держал в руке и говорил:
– Сейчас отвинчу и съем, как клубничное мороженое.
Тут поспевал на помощь Петя, спасал Нину, и они опять лежали вместе, дрыгали ногами, устраивали мельницу.
Папа сидел возле усталый, просил:
– Дети, серьезно, вставайте, а то там все остынет. Сегодня же воскресенье.
Нина не любила обливаться холодной водой – тельце ее сжималось, дрожало. Гимнастику она тоже не любила. Петя все это проделывал добросовестно. Потом они сидели в столовой, и Нина пила какао из блюдечка с золотыми ободками. Напротив сидел Петя, макал баранку в какао и все время под столом размахивал ногой, чтоб задеть Нину. Нина на это не обращала внимания, пальчиком разводила капли какао на клеенке и отгоняла мух. Папа пил чай и читал газету. Такое утро и запах клеенки – это детство. Это и сейчас иногда снится. После завтрака все шли в сад. Папа без шляпы. На нем белый китель. Цветет жасмин, звонят колокола, и облака совсем тюлевые. В этот день обедали все вместе, а на ночь, как всегда, давали простоквашу. Папа укладывал спать.
Старый толстый слон, слон, слон
Видел страшный сон, сон, сон,
Как мышонок у реки
Разорвал его в куски.
Он тушил свет и уходил к себе, а дети не спали. Нина рассказывала страшные истории. Петя любил слушать, но очень просил ее перестать, потому что темно и он боится. Самые страшные истории – это про хронят. Хронята – такие большеголовые, горбатые существа, с детскими ручками. Они сильные уроды и живут на чердаке. Днем спят, а по ночам бродят стайками.
– Слышишь? Это они топают по крыше.
Хронята – злые, завистливые, едят покойников, все что попало и пьют помойки.
– Слышишь? Топают по крыше своими кривыми ножками.
Вчера Нина вместе с Дарьей пошла на чердак за бельем и заигралась с маленьким хроненком – уж очень он был симпатичный, и не заметила, как Дарья ушла, а она осталась одна. И ей стало жутко. Большие хронята почувствовали, что ей жутко, проснулись, обступили ее со всех сторон и тоненькими злобными голосками запищали.
– Зачем трогаешь нашего детеныша-а?..
Обступили со всех сторон и стали щекотать, хотели выколоть глаза и сделать горбуньей, но она вырвалась, и теперь они ее ищут.
– Слышишь? Топают по крыше.
– Зажги свет! Папа! – вопил Петя.
Нина знала много страшных историй – про кладбища, про нищих, про калек – и умела выворачивать веки и шевелить ушами, а Петя не умел выворачивать веки и двигать ушами и не мог придумать ни одной страшной истории. У него был вытянутый, заостренный череп, клок бурых волос на височке и два передних зуба такие большие, что торчали наружу.
Весной они все шли на кладбище, где под небольшим мраморным памятником за железной оградой лежала мама. Нина осторожно ступала по кладбищенской жирно-зеленой траве. В этот день папа много рассказывал о маме – какая она была умная, добрая и ласковая. У нее были волосы до колен и такие же мягкие и такого же цвета, как у Нины. Она всех любила. И как мама болела и страдала. Ее бы надо было отвезти в Петербург и там делать операцию, тогда бы она не умерла, но у папы не было денег и никто ему не одолжил.
В этот день они ходили в церковь, молились богу. Дома Нина долго разглядывала мамину карточку. Ночью снилась мама. В черной карете с большими фонарями – горели восковые свечи – проехала мама мимо их дома и жалобно смотрела мраморными глазами на окна детской. Петя уверял, что ему то же самое снилось. Нина не верила – так не бывает, чтоб люди видели одинаковые сны.
– Честное слово, я видел маму. Черную карету. Горели свечи, и глаза – вот такие мраморные.
– Не верю. Дай еще раз честное слово.
– Честное слово!
– Ага, ты сказал «тесное слово».
– Ничего подобного. Я сказал – честное слово. Вот тебе три раза: чэстное, чэстное, чэстное слово!
– Поклянись большой клятвой, тогда поверю.
Петя изо всех сил бил себя кулачком в грудку, так что там ухало, и говорил большую клятву:
– Пусть я провалюсь сквозь землю, если вру, отвались у меня язык, если вру, пусть я к завтрему сдохну, если вру, выпади у меня зубы и пускай я ослепну, если вру, пусть меня загрызут собаки и кошки лакают мою кровь, если вру, пусть меня бог превратит в крысу, будь я хроненком, если вру, пусть меня украдут нищие, если вру… Теперь веришь?
– Не считается, – отвечала серьезно Нина. – Ты забыл про папу.
– Что про папу? – переспрашивал Петя, хотя великолепно знал – что: ему этого не хотелось говорить.
Нина оглядывала его беспощадными глазками.
Петя стукал себя в грудку:
– Пусть умрет папа, если вру… Теперь ты уж веришь?
– Скажи все вместе и сначала.
Петя медленно и отчетливо повторял большую клятву, но Нина все равно не верила: так не бывает, чтоб людям снились одинаковые сны.
Петя учился хорошо, в дневнике у него было много пятерок и написано: «отлично», «отлично», «отлично». У Нины только две пятерки – из поведения и закона божия, а то все тройки, тройки, тройки. От них чернело в дневнике, как от галок… Петя дружил с Ниной, объяснял ей уроки и решал задачи, но она все равно не понимала и только переписывала начисто. Нина рассказывала Пете все, что у них случалось в школе и о чем говорят между собой девочки, а когда она спрашивала, о чем говорят между собой мальчики, он не говорил. Ей ужасно хотелось знать, о чем говорят между собой мальчики.
Однажды, когда они уже легли спать и потушили свет, Петя рассказал, что в Нину влюблен Гриша Дятлов и что Гриша ее имя вырезал ножичком на своем ремне с внутренней стороны. Петя его за это избил. Нине понравилось, что в нее влюблен Гриша Дятлов, и она просила Петю больше не бить его, потому что она все равно не выйдет замуж за Дятлова: он бедный и плохо одет. Она выйдет замуж за богатого, и пусть Петя тоже женится на богачке, тогда у них в доме будет всякая всячина, она сошьет себе шубку такую же, как у Иды Гамбург, и каждое лето они будут ездить на дачу.
При переходе в четвертый класс у Нины была переэкзаменовка. Нина боялась экзамена, хотя все лето готовилась к нему, – но тут началась война, гимназию заняли под лазарет и экзамены отменили. На радостях Нина купила три ленточки (она очень любила ленточки), пирожное «наполеон» – себе и Пете – и первому же встречному нищему отдала серебряный гривенник, как и обещала в случае перевода в следующий класс.
Нина читала «Войну и мир», думала, что она – Наташа Ростова, а Петя – Николай Ростов, а ее жених будет таким, как Андрей Болконский. Пьер ей не нравился.
Встретившись с Гришей Дятловым, она спросила, правда ли, что он был в нее влюблен в прошлом году. Гриша покраснел, ничего не ответил. Они молча гуляли по главной улице, в садике ели мороженое с вафлями.
Вечером она об этом рассказала брату. Петя рассердился, назвал ее шлюхой, строго-настрого приказал, чтоб она больше никогда в жизни не смела гулять с Дятловым.
– Ты знаешь, он ходит к проституткам!
Нина испуганно спросила, кто такие проститутки. Петя мрачно объяснил, что проститутки – это падшие женщины. Это ей тоже было непонятно, но она не решилась дальше расспрашивать брата. Нина почувствовала себя в чем-то очень виноватой, тщательно мыла лицо и, главным образом, руки горячей водой, золой и мылом.
Дятлов записался в отряд по переноске раненых с вокзала в лазарет. На рукаве у него был красный крест, и он курил папиросы. Это был длинный мальчик, с худенькой шеей, большими серыми задумчивыми глазами и глубокой выемкой в желобке под прозрачным носом…
Папа считал, что война – это безумие. Нина не раз слышала, как он говорил: «У белого медведя будет морда в крови». Белый медведь – это Россия. Когда в школе запретили немецкий язык, папа сказал, что это невежество и очередная наша российская глупость. Папа преподавал географию в мужской гимназии. Его любили гимназисты и папин предмет считали не важным, так как знали, что папа им все равно двойки не поставит.
Он читал вслух рассказы Чехова. Петя не слушал и уходил к себе в комнату. Нина внимательно слушала и смеялась тогда, когда и папа смеялся.
Папа любил говорить:
– Чехов – величайший писатель печальной русской действительности, Достоевский – величайший мыслитель печальной русской действительности, Некрасов – величайший певец печальной русской действительности.
Он частенько повторял, даже когда играл в шахматы и думал совсем о другом:
– «Когда придет то времячко (приди, приди, желанное), когда народ не Блюхера, и не Милорда глупого, – Белинского и Гоголя с базара понесет?»
Он иногда играл на гитаре и пел «Очи черные, очи жгучие». Когда пел, его глаза, тоже черные и жгучие, увлажнялись. Нина сидела возле, на диване, подогнув ноги, и тихонько, но очень серьезно подтягивала. Они пели «Средь шумного бала случайно», и «Укажи мне такую обитель», и «Стояли мы с тобой на берегу Невы». Петя не умел петь, завидовал Нине. Папа никогда ему не разрешал подтягивать, говоря: «Не мешай нам, Петр. У тебя, мой милый, не голос, а козлетон».
К папе часто приходи Сергей Митрофанович. Он тоже учитель – преподает математику, и гимназисты его ужасно боятся, Сергей Митрофанович не страшный. Он белокурый, добрый, заразительно смеется. У него мягкие светлые волосы, коричневые строгие глаза. Он часто покашливает, у него привычка – все время длинными пальцами зачесывать назад волосы. Его длинные тонкие пальцы просвечивают.
Сергей Митрофанович и папа иногда пили водку, закусывали селедкой, солеными огурцами, картошкой в мундире и ругали директора гимназии, Государственную думу и все российские порядки. Чаще всего они пили крепкий чай и играли в шахматы.
Папа долго думал, склоняясь над шахматной доской, и мурлыкал «Три юных пажа покидали навеки свой берег родной», наконец делал ход, собираясь разыграть испанскую партию.
Сергей Митрофанович играл молча, но вдруг, после какого-нибудь папиного ошибочного хода, запевал:
– «Три юных пажа покидали…» Вот тебе, вот тебе мат!
Папе не верилось, что игра кончена, и он все еще разглядывал шахматные фигуры.
– О чем думаешь? Некуда тебе идти. Мат.
Отец сочинил стихи про войну. Нина их аккуратно, большими буквами переписала в тетрадку.
Настал четырнадцатый год
Машинно-газового века,
С культурой двинулись вперед
Вражда и зависть человека.
Вильгельм пророчески молчал,
И англичанин укрощал
Спокойно водную стихию.
Внезапно, как небесный гром,
Раздался выстрел в Сараеве…
И, потрясая кулаком,
Вильгельм очнулся в страшном гневе,
А Франц поднялся на дыбы,
Мечом заржавленным бряцая,
И вот затрясся от пальбы
Белград – жемчужина Дуная…
На уроке рукоделия Нина, как и все остальные ученицы, сшила мешочек, стянула его голубой ленточкой. В мешочек она вложила конфеты, нитки, иголку и папиросы – подарок солдатам в окопы. Написала коротенькое письмецо и свой гимназический адрес.
Ответ получила очень скоро. На конверте круглая печать: «Из действующей армии».
«Здравствуйте, уважаемая гимназистка Нина Дорожкина. Мерси за конфеты и папиросы. Нельзя ли нам встретиться и познакомиться поближе? Если вы согласны, то сообщите место, куда прийти, и погуляем с вами. Я сам военный писарь и живу на вольной квартире, недалеко от вашей гимназии. Сердце ноет, грудь болит. Инстинкт что-то говорит… На улице туманно… Все везде кругом печально… С почтением к вам, остаюсь в ожидании…»
Нина показала письмо папе, он сказал:
– Ну да, тыловики все разворовывают! Генералы – что покрупней, а писаря и конфеткам рады. Все воруют!..
При всех сражениях у нас
В припасах были недостатки.
К тому ж у нас любой заказ
Не исполняется без взятки.
Каждый день уходили солдаты на войну.
Играла музыка.
Солдаты пели грустные песни: «Грудью подайсь… Полно, ребята, иди-и-те! В ногу, ребята, иди-и-и-те…»
Нина провожала солдат до самого вокзала.
Она вглядывалась в лица и очень жалела солдат. До слез…
«Вот убьют тебя, и больше не будешь петь. Господи, как же это так? Вот убьют, и больше не будешь шагать. И того. И того. И вон того. Он отстал и хромает. У него болит нога. Милый мой!.. Как мне тебя жалко!..»
Привезли военнопленных. Масса людей пришла на них смотреть. Военнопленным дарили булки, яблоки и папиросы…
Мы все рвались в кровавый бой
За честь и право славянина…
Некоторые бабы, глядя на военнопленных, плакали.
Нина тоже купила французскую булку, отдала военнопленному.
Он взял, сказал по-русски: «Спасибо».
У нее не было денег, а то бы она им купила много булок и много папирос…
Надеясь раннею зимой
Дойти до шумного Берлина.
Потом приехали беженцы.
Они жили на станции, в товарных вагонах.
Прошло полгода, все одно:
То мы врагов одолеваем,
То нас – они, и уж давно
Несется гул над польским краем…
Папа, иронически улыбаясь, читал стихи Сергею Митрофановичу:
До Перемышля от Стрыпы
Бегут австрийцы без оглядки,
И вслед жандармы да попы
Заводят новые порядки…
– Ловко! – говорил Сергей Митрофанович.
Но славный русский генерал…
Здесь папа поднимал мохнатые брови и большой палец:
Родился немцем не напрасно:
Он план Вильгельма разгадал…
Валерьян Владимирович опускал веки и проводил рукой по воздуху:
Так удивительно, так ясно…
Он немцев гвардией пугнул
И, показав свой подвиг ратный,
У Кенигсберга он свернул
На путь далекий и обратный…
– Ловко! Ей-богу, ловко…
У папы голос мягкий, теплый. Лирический.
В народе пущена молва
О том, что продана отчизна…
Папа безнадежно качал головой.
А в Думе жалкие слова…
И все растет, растет дороговизна…
Нине нравились стихи и особенно то, что это сочинил папа. И сейчас (с тех пор прошло пятнадцать лет) она помнит их наизусть. Иногда, лежа на диване и думая о постороннем или слушая чью-нибудь малоинтересную речь, она вдруг усмехнется и скажет: «А в Думе жалкие слова, и все растет, растет дороговизна». Это ее веселит…
Стихи были бесконечно длинные. И Сергею Митрофановичу они начинали надоедать, но папа читал до конца:
Варшава мирно отдана,
За нею Ковно, Брест и Гродно…
Пусть кайзер верит, что война
Для русских гибельно-бесплодна.
Последние строчки отец произнес нарочито фальшиво громко:
Но мы тем временем сберем
Свои нетронутые силы:
И выйдет пахарь с топором,
И бабы схватятся за вилы…
– Вот, вот, – топор и вилы… Еще хомут… Наша могучая российская техника, – заметил Сергей Митрофанович.
– Ты знаешь, Сергей, – оживлялся папа, – я хочу эти стихи напечатать в газете. Пусть знают.
– Ты с ума сошел. Тебя так припечатают, что ты из гимназии вылетишь в два счета. Что ты, господь с тобой! Вот напиши какое-нибудь «ура – да здравствует», тогда напечатают…
– Почему же их не напечатают? Это справедливые стихи.
– Какой ты наивный, Валерьян! Тебе за сорок, а ты еще лопочешь о справедливости. Ты идеалист. География! Таким, как ты, легко жить на свете. Нам, математикам, гораздо тошней…
Нина так же, как и папа, возмущалась войной, Думой, нашими порядками и не любила жандармов и попов. Она даже сочинила стишок: «Все вы в Думе обезьянки, и вашему Родзянке не расхлебать овсянки». Дальше не получилось…
А Петя удрал на войну, но через два дня его вернули. Он заболел и умер. Это было неожиданно и страшно.
Ему открыл дверь папа.
– Входи, Аника-воин. – Папе отчасти нравилось то, что Петя бежал на фронт. – А поворотись-ка, сын!
Пете было не до шуток. Бледный, он едва держался на ногах и жаловался, что у него чертовски трещит башка и глаза болят.
Вечером Нина сидела у его кровати, и Петя рассказывал, как он ехал с солдатами на войну. В товарном вагоне чертовский холод, всю ночь топили печку, кипятили чайник. Солдаты ему дали хлебных сухарей, Петя пил чай из жестяной кружки. Кружка горячая. Чертовски жгло руки. Он всю ночь подкладывал дрова, следил, чтоб печка не потухла, а солдаты спали. Пете совсем не хотелось спать, но на рассвете он все-таки вздремнул. Его разбудил жандарм, сказал: «Вылезайте, господин гимназист!» Чертовски не хотелось вылезать. Жандарм высокий, с бородой как у царя Александра III.
– Может быть, в самом деле поехать к царю? – произнес в раздумье Петя, с трудом поднимая веки.








