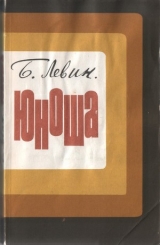
Текст книги "Юноша"
Автор книги: Борис Левин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц)
Отряд Костецкого на рассвете повел наступление. В отряде были офицеры и георгиевские кавалеры. После первых же выстрелов малообученные рабочие бросили окопы и бежали. Белогвардейцы, решив, что все кончено, подтянулись, выстроились и с песнями вошли в город. Играл оркестр. Сквозь тучи прорывалось солнце золотыми погонами. Буржуи повысыпали на балконы, открыли уже замазанные было на зиму окна. Звонили в колокола. Барышни бросали мокрые астры к ногам офицеров.
В это время Никита с отступившими фронтовиками и очухавшимися рабочими ударили с боковых улиц. А тут еще из-за реки подоспели бондари во главе с председателем Совета, кожевником Горфинкелем. В отряде Костецкого паника. Бегут офицеры и георгиевские кавалеры, прячутся по дворам, их нагоняют и пристреливают. Сам Костецкий с несколькими офицерами забежали в реальное училище и оттуда отстреливаются. Бросили гранату. Горит реальное училище. Костецкий выпрыгнул со второго этажа и побежал. Его нагнал Никита у магазина «Дешевка – 20 и 30 копеек каждая вещь» и с размаху пробил ему череп рукояткой нагана.
Замазывайте окна снова, буржуи!
Через месяц Никита уехал в Самару – там наступали чехи – и, перебывав почти на всех фронтах, вернулся в двадцать шестом году домой. Его ждала Аделаида как героя. Она слышала о нем, хотя Никита ей писем не писал. Она ждала его как героя. Аделаида работала в мастерских Швейпрома, была членом профсоюза и в ленинский набор вступила в партию. Она читала книги, газеты, посещала собрания, партийную школу. В ней исчезли покорность и робость, она как-то вся выпрямилась и теперь прожектором были освещены все темные уголки ее прошлой жизни. И пьяница отец, и терпеливая мать, и нужда, и хозяйка Рохлина явились перед ней в новом свете.
– Как это я раньше ничего этого не понимала! – удивлялась она. – И как смешно, что у нас когда-то был царь!..
Она гордилась тем, что ее брат – участник гражданской войны, революционер. Она ждала его с нетерпением, чтоб поговорить с ним как с равным и удивить его своим сознанием, партийным билетом и общественной работой. Она хранила для него заметочку из местной газеты, где в числе отличившихся работниц мастерских Швейпрома упоминалась и она. «Это ему будет приятно», – думала Аделаида. Слушала ли она докладчика, читала ли книгу, она всегда мысленно рассуждала с Никитой. А когда прочла «В людях» Максима Горького, написала Никите длинное письмо.
Но она не знала адреса и письмо осталось неотправленным.
Аделаида ждала брата-коммуниста и усиленно готовилась к этой встрече, хотя думала, что все равно он, конечно, умней ее, больше понимает и больше читал. Она ждала его как героя и немножко робела перед предстоящей встречей. Ей было стыдно за прошлое. Ведь она-то в его памяти осталась такой, как была тогда…
И вот он приехал. Аделаида, вернувшись с работы, застала его у себя в комнате.
С трудом узнала Никиту. В серой толстовке, узеньких брючках. Опухшее лицо, вялые усы.
Она обняла его, поцеловала. На нее дыхнуло винным перегаром.
– Как ты живешь, Аделаида? – спросил он простуженным, тоже каким-то опухшим голосом и попросил у нее рублевку на опохмелку…
Он каждый день пил. Днем спал. Приходил ночью грязный, пьяный и плакал. Аделаида раздевала его, вытирала за ним блевотину и укладывала его в кровать. Иногда, особенно когда он плакал и жаловался на свою судьбу, ей хотелось бежать из комнаты, чтоб никогда больше его не видеть…
По утрам в воскресенье Никита приходил к торговцу Якову Семеновичу.
Тот встречал его радушно:
– Почтение герою-пролетарию! Давненько не захаживал.
– Ничего, что натопчу? – спрашивал Никита, виновато оглядывая свои рваные штиблеты.
– Пустяки… Валяй прямо!.. Чаю с молочком налить? А то можно чего и покрепче.
Яков Семенович доставал из буфета графин с водкой, нажимал грушу, привязанную к висячей бронзовой лампе над столом, и вошедшей прислуге говорил ласково:
– Нюшенька, сооруди-ка нам колбаски, селедочки, огурчиков.
После выпитой рюмки Яков Семенович морщится, крутит бритой головой, говорит: «Хорошо!» – и наспех закусывает.
– Не плохо, – соглашается Никита и вытирает рукавом толстые губы; отламывает маленький кусочек золотистой булки.
– Еще по одной, что ли? – спрашивает хозяин и наливает только Никите, а свою рюмку закрывает ладонью.
– Я одну выпил – и ша, – объясняет он. – Пей без меня, Кузьмич. Папироску хочешь? Закуривай… Я сам хоть некурящий, но папиросы всегда в кармане. Люблю угощать… Ну, как, вообще твои дела, Никита?
– Какие мои дела, – говорит печально Никита и дрожащими руками наливает себе еще, и еще, и еще и выпивает подряд много рюмок.
Лицо у него раскраснелось, нос лоснится, и он ест колбасу, не сдирая шкурки.
– Ну, а как твои дела, Яков Семенович? Как торгуешь? – спрашивает Никита развязно и сразу осмелев.
– Какая это торговля! Одни неприятности, – жалуется хозяин. – Дали мне уравнительного три тысячи… И, веришь ли, тебя мне стесняться нечего, все мои заработки – это то, что я ем. Вот надо жену послать в Кисловодск, так, веришь ли, стыдно признаться – не знаю, как выкрутиться… Нюшенька, дай-ка нам еще огурчиков… И скажи, пожалуйста, Никита, – спрашивает он задумчиво, – что они думают там, наверху? Издай приказ не торговать – не будем. А то, с одной стороны – торгуй, а с другой стороны – бьют налогами и жить не дают.
– Нет никакой справедливости, – мрачно говорит Никита, и в зубах у него хрустит огурец, рассол стекает по подбородку.
– Ха, справедливости! – Яков Семенович взмахивает руками. – Ишь, чего захотел! Ничего нет. Масла нет, мануфактуры нет, гвоздей нет, яиц нет… А нас душат.
– И правильно, что душат, – выпаливает Никита и небрежно отодвигает графин. – Не жалко! Паразиты вы трудящихся масс!
– Что это ты? – строго спрашивает хозяин. – Или ты пьян? Так иди, выспись… А то с ним по-человечески, а он – как свинья.
– Я б тебе показал «свинья», если б не моя болезнь. Если б не алкоголизм, – произносит Никита с болью и стучит кулаком по столу. – Забыл, Яшка, как я тебя окопы копать гнал! Ты! Нэпман!.. Голый враг! Живешь во как, а скулишь…
– Не пей, будешь тоже жить по-человечески, а орать нечего, – и Яков Семенович убирает подальше от Никиты графин и рюмки.
– Паразит ты! Вот что! – Никита сжимает кулаки, как наганы.
– Ну, ну, ну… надоели мне эти разговорчики, – храбрится хозяин и говорит сердито: – Иди домой, Никита.
Из соседней комнаты выходит с шумом жена Якова Семеновича. Черноволосая, остриженная под мальчика, в бухарском цветистом халате, в узорчатых туфлях на очень высоких каблуках, она пухлыми пальчиками придерживает халат у белой шеи и визгливо кричит:
– Яков, что ты с ним церемонишься! Звони в милицию, и его уберут. – Свирепо оглядывая мужа, она продолжает, сверкая красным ртом, будто в комнате и нет Никиты: – Пьянчужка, выгнанный из партии, и ты с ним церемонишься, – и хлопает дверью.
Никита встает, молча идет к выходу. Возвращается, стучит кулаком по столу:
– Погоди, буржуйское отродье!
– Плевать я на тебя хотел. Вон убирайся, а то в самом деле милицию позову, – говорит с достоинством Яков Семенович.
Никита ничего не слышит. Всхлипывая, подходит к нему, берет его за лацкан пиджака, трясет и жалким голосом спрашивает:
– Яшка, скажи, я тебя окопы рыть гонял?
– Ну гонял… Так что ж с того? – замечает хозяин, освобождая свой пиджак.
– Если б не моя болезнь, – кричит Никита и бьет себя в грудь, – если б не мой алкоголизм, – и еще сильней бьет себя в грудь, – я б в жизни к тебе, врагу, на порог…
Никита облокачивается на подоконник, плечи его вздрагивают. Он рыдает.
К нему подходит хозяин, нежно берет его под руку.
– Успокойся, Никита Кузьмич. Успокойся. Ты еще оправишься. Еще покажешь себя, – и совместно с Нюшей легонько подталкивает его к выходу.
На прощанье Яков Семенович дает ему полтинник – опохмелиться.
Вечером Никита сидит в пивной и скрежещет зубами:
– Прохвост я! Буржуйский прихлебатель!
И он отчаянно мотает лошадиной головой над недопитой кружкой пива…
Миша познакомился с Никитой Кузьмичом в мастерской Яхонтова. Художник говорил, что это замечательная натура, это именно то, чего он ищет для своей будущей картины.
– И, главное, человек не занят… Только одно плохо – редко трезвый.
На это Никита беспомощно улыбался.
– Он мне пока не нужен, – говорил Яхонтов про Никиту, как про вещь. – Может быть, Миша, временно вы его используете?
Миша внимательно разглядывал Никиту и, не зная еще, для чего тот ему нужен, спросил, хотя ему и так было известно:
– Вы участник гражданской войны?
За Никиту ответил художник:
– Вы не знаете! О, он тут в семнадцатом году такие дела раздраконивал! Ведь он подавил офицерское восстание… Вот бы написать такую картинку! Любой клуб купит.
Мише был неприятен торопливый и, как ему показалось, слишком бесчувственный рассказ Яхонтова, а также и то, что художник говорил о Никите небрежно, в третьем лице.
«Старое трепло», – думал про Аркадия Матвеевича Миша и очень тепло и дружелюбно оглядывал Никиту. Уходя, он спросил у него:
– Вы не собираетесь, товарищ Никита? А то пошли бы вместе. По дороге поговорили бы.
Они зашли в пивную. Миша заказал пива. Никита рассказал ему про своего отца, про голод, про унижения. Рассказал про германскую войну, про гражданскую, как он был два раза ранен, и как потом служил в Омске, в Сельсоюзе, как запил, как деньги растратил, и как его исключили из партии, и то, что его пробовали лечить, но бесполезно, и как он опустился до того, что ходит к торговцу Якову Семеновичу пить водку.
– Я всю свою подлость отлично сознаю и ничего с собой не могу сделать, – закончил он печально. – Бывают минуты, что хочешь удавиться: такая неохота быть подонком жизни в наше время. Ходишь кругом, как шпион, и все от тебя шарахаются.
Мишу вся эта история очень взволновала. Он всячески утешал Никиту и уговаривал его взять себя в руки:
– В таких случаях самое главное – воля, товарищ Никита. По всем вашим рассказам я вижу и по вас – вы волевой человек. Вы должны, вы обязаны напрячь свои силы, – убеждал его горячо Миша. – Начнете работать и в партию вступите.
– Пожалуй, теперь не примут, – огорченно заметил Никита.
– Почему? Примут. Обязательно примут. Только начните работать… А вы волевой человек. Вы такой энергичный. Я вижу по вас…
Вечером Миша рассказал про Никиту Ксенофонту Ксенофонтовичу.
– А ты знаешь, папа, – заключил растроганно Миша, – мне кажется, что Никита в некоторой степени продукт нашего времени. Фронт, революция, победы. Сильное напряжение. Вдруг нэп. Отступление. Вчерашние враги пируют. Должно быть, еще и это его подкосило.
– Все это твоя фантазия, милый мой, – ответил Ксенофонт Ксенофонтович. – Нэп тут ни при чем. И ничего его так не подкосило, как зов предков. Наследственный алкоголизм, – пояснил он и важно добавил: – Приведи его ко мне. Я его буду лечить гипнозом.
Доктор Колче вылечил Никиту. Никита пробыл в лечебнице полгода, и не было дня, чтоб он не заходил на квартиру к Колче. В больничном халате он сидел в комнате у Миши, или читал книгу, или рассказывал, как он в «гражданку» давил беляков и какие у него были замечательные фронтовые товарищи.
В больнице его часто посещала Аделаида. Она подружилась с Ксенией и Еленой Викторовной.
По выздоровлении Никита поступил слесарем на завод сельскохозяйственных орудий и руководил военными занятиями в школе, где учился Миша. Он был приглашен туда кружком Осоавиахима по предложению Михаила.
Весной и летом Никита вместе с Ксенофонтом Ксенофонтовичем ходили ловить рыбу. Они могли весь день просидеть у реки с удочками, не проронив ни слова.
…Миша зашел к Никите. Он хотел попросить Никиту Кузьмича, чтоб тот пошел с ним на открытое комсомольское собрание, где стоит вопрос об исключении Миши из комсомола.
Никита сидел за столом и заканчивал сборку нагана. Части нагана блестели от оружейного масла.
Миша, не поздоровавшись, сел на табуретку к уголочку стола и думал о своем: идти ли ему на собрание, или не идти? «Нет, не пойду. Лишнее унижение».
– Нет, – произнес он громко и тяжело вздохнул.
– Чего это ты так вздыхаешь, Михаил? – спросил Никита, вставляя в рамку нагана барабан.
– Тяжело жить, – сказал тихо Миша. – Очень тяжело.
– Это тебе-то тяжело? – удивился Никита. – Ты горя не видал. Вот пожил бы, как я, при старом режиме…
– Да мне какое дело, что вы жили при старом режиме. При крепостничестве еще хуже было, – раздраженно заметил Миша.
– Ты горя не видал, – повторил Никита. – Вам, молодежи, теперь только жить и жить… А вот раньше…
– Мне надоело это «раньше». Мало ли что было раньше! – перебил его Миша. – Слушай, Никита… – начал он и замолк.
– Чего тебе?
– Видишь ли… – и опять не договорил.
Миша думал: сказать, что вот сегодня на собрании стоит вопрос об исключении его из комсомола, и попросить Никиту, чтобы тот выступил в его защиту. Никита – рабочий, его любят ученики.
– Видишь ли…
– Да ты говори. Чего тебе?
«А вдруг он откажется и не пойдет… Или пойдет и еще выступит против. С него это может статься. Он сейчас такой стопроцентный. Хуже Аделаиды». И Миша с неприязнью посмотрел на Никиту и даже подумал о том, что вот он, Миша, два года тому назад для него так много сделал, а Никита неблагодарный…
– Посмотри, как машинка работает, – и Никита несколько раз щелкнул из нагана… – Завтра пойду в тир. Прошлый раз из семидесяти очей пятьдесят три выбил, – сказал он, приподымаясь и вытирая тряпкой большие руки. – Здорово работает! – Он щелкнул еще несколько раз, отложил револьвер и вышел из комнаты.
Миша посмотрел на наган и подумал: «Вот застрелиться – и никаких тебе унижений».
Патроны стояли на подоконнике золотыми столбиками. Миша взял теплый скользкий наган и зарядил его.
«Вот теперь нажать… Все равно рано или поздно придется умирать… Вот нажать… И никакие тебе Галузо… И никаких тебе неприятностей… Глупо стреляться. Не так глупо, как страшно. Я не боюсь. Вот нажму – и все».
За стеной старушечий голос убаюкивал ребенка и пел по-белорусски:
А у перепёлицы хлебца нема…
Цыц, мая, цыц, мая перепё-о-лица!
Безнадежная, тоскливая песня…
«Ничего хорошего в жизни. Только унижения. Оскорбления…»
А у пере-пё-о-лицы хлеб-ца…
«Зачем это мне? И всегда „хлебца нема“. Зачем мне страдания, когда я могу застрелиться? Застрелись, застрелись, застрелись!»
Послышались шаги Никиты.
«Скорей, скорей! Не бойся!..»
Цыц, мая, цыц, мая перепё-о-лица…
«Застрелюсь, застрелюсь, застрелюсь. Где тут сердце? Вот тут сердце».
Миша нажал курок, раздался выстрел…
Когда Миша пришел в сознание, то первое, что он сказал матери:
– Это, мама, нечаянно… Вовсе не из-за того… И всем говори, что это нечаянно…
Отец приехал недельки через три, когда Миша уже выздоравливал. Он вошел смущенно, сел на краешек стула возле Мишиной кровати, долго потирал руки. Затем плутовато подмигнул сыну, сказал:
– Ну как? «Стрелок весной малиновку убил…»
Мише это показалось пошлым. Он рассердился и повернулся лицом к стенке.
– Не обижайся, Михаил, – оправдывался Ксенофонт Ксенофонтович. – Это я из диктанта… В младших классах нам учитель диктовал: «Стрялок вясной молынавку убыл». Он нарочно так диктовал, чтоб мальчики делали ошибки.
Миша повернул остриженную круглую голову и улыбнулся.
Отец внимательно оглядывал Мишу, потрогал его волосы.
– Совсем мох, – сказал он, убирая руку, и задумчиво добавил: – Возможно, тебя надо было поместить не в хирургическое отделение, а куда-нибудь ко мне в палату.
– Если ты пришел издеваться, мог бы вовсе не приезжать, – отчетливо произнес Миша, насупив крохотные бровки.
– Не сердись, мой друг, не сердись. – Ксенофонт Ксенофонтович опять потрогал Мишины волосы, опять заметил: – Совсем мох. – Он уселся удобней, повторил – Не сердись, мой друг. Не сердись… В твои годы я тоже стрелялся. Только более удачно, – сказал он тише.
– То есть как? – удивился Миша.
– Очень просто: я попал в сердце и убил себя, – произнес печально Ксенофонт Ксенофонтович.
В другое время это Мишу рассмешило бы, но сейчас он испуганно посмотрел на отца, коснулся коленки Ксенофонта Ксенофонтовича и сказал тревожно: «Папа!», будто хотел разбудить его.
– А что, напугал? – неожиданно весело, даже подпрыгнув, спросил Ксенофонт Ксенофонтович.
– Ну уж и напугал, – заметил Миша позевывая.
Дома Елена Викторовна осведомилась у Ксенофонта Ксенофонтовича, как он нашел здоровье Миши.
– Все так же, – ответил он хмуро. – Без перемен.
– Как! – изумилась мать. – Ведь я у него вчера была… И все в порядке, и рана заживает.
– Рана – пустяки, – сказал озабоченно Ксенофонт Ксенофонтович. – Эгоизм и самолюбие – вот что по-прежнему разъедает его мозг, в его возрасте это опасней всего… Отсюда и выстрел… А рана – пустяки: она заживет…
Раз Мишу навестил и Никита Кузьмич. За полчаса своего пребывания он произнес одну фразу:
– Гляжу я на тебя, гляжу и удивляюсь – чего тебе не хватает?
– Комсомольского билета, – ответил поспешно Миша.
– Ты же его сам бросил, – сказал с упреком Никита. – Мне же ребята все рассказали, – добавил он неодобрительно, нажимая на слово «все».
Миша вернулся из больницы побледневший, нахальней и наглей. Он сидел на скамейке в саду, грелся на солнышке, читал романы Дюма «Три мушкетера» и «Двадцать лет спустя».
Листья на деревьях пожелтели. Некоторые сумасшедшие играли на площадке в крокет, другие бродили по дорожкам сада, усыпанным листьями, улыбались, сами с собой разговаривали.
Один сумасшедший, с горящими голубыми глазами, решительно шагал прямо по траве, размахивал широким рукавом, словно шашкой, и без конца выкрикивал: «По золотопогонникам – пли! По золотопогонникам – пли!» Полы халата бежали за ним, как парус.
Больной – маленький, рыжий и тощий еврей, – завернувшись в халат, точно в одеяло, прискакал на одной ноге к скамейке, где сидел Миша, бросил таинственно записочку и ускакал дальше – ходом шахматного коня. Иначе, как ходом коня, он не передвигался. За ним числилась только одна туфля, потому что вторую он бы все равно потерял, прыгая на одной ноге.
Миша развернул и прочел:
«Для научного эксперимента по рецепту Хавкина желателен ваш субъективный ответ: что является критерием истины?»
Миша бросил записку.
Ему надоели сумасшедшие, и толстый отец, и старательная мать, и Ксения, и вкусные обеды, и бессмысленный Дюма. Он с нетерпением ждал, когда придет письмо от Александра Праскухина, чтобы уехать в Москву. Книги были уложены. Холсты свернуты. Чемодан (старый кожаный чемодан Ксенофонта Ксенофонтовича, с двумя отделениями и крепким замком) упакован. И какой-то большой кусок Мишиной жизни тоже был упакован и замкнут.
2
Скорый поезд Бигосово – Москва вбежал в дождь. Миша по привычке проснулся рано. Посмотрел в окно: черные ели, мокрые телеграфные столбы и – серо. Дождь. В Дорогобуже дождь, в Вязьме дождь, в Гжатске дождь, в Москве тоже дождь. По всей республике дождь. Затянуло небо со всех сторон, и клюет и клюет. Такой надолго… Какое количество граждан сегодня, выйдя на улицу, подымет воротники, подумает, а то и скажет: «Вот и лето прошло!»
Хотя только начало сентября и еще безусловно будут ясные дни, и золотая паутинка, и абрикосовый закат, но лето, действительно, прошло. Как это грустно! Особенно невесело в этакое прорезиненное утро одинокому пожилому человеку. Он проснулся и кашляет. На полу окурки и дырявый фиолетовый носок. А самое печальное – это то, что он в комнате один… «Где ты, моя подруга? Где ты?.. Возможно, в это утро, в этот же час, где-нибудь в Орле, в Ленинграде, а возможно, тут же, в Москве – на Плющихе, на Таганке или еще ближе… Ты тоже проснулась и думаешь о том же… Я почти уверен, что так оно и есть, только мы не знаем друг друга… Мы очень похожи и одинаково мыслим. Вместе нам было бы хорошо… Быть может, вчера в аптеке, когда я покупал „хлородонт“, я тебя видел… Мы встретились на улице, и ни мне, ни тебе не пришло в голову остановиться и заговорить запросто. Мы прошли мимо, а надо было остановиться и обрадоваться. Но это дико. Ответственный работник Центросоюза. Плановик. Товаропроводящая сеть. И вдруг – остановил на улице незнакомую гражданку… Ни я, ни ты никогда этого не сделаем и так и не узнаем друг друга. При социализме, когда наступят прозрачные отношения между людьми… Сейчас это дико… Пройдем мимо и никогда не узнаем друг друга. А вместе нам было бы очень хорошо… Я бы меньше курил… Хватит скулить, товарищ Праскухин! Вставайте! Вам сегодня надо ехать в Литву. В Ковно. Вставайте!.. Сейчас, вот докурю… Нам вместе было бы хорошо…»
Александр Праскухин, ответственный работник Центросоюза, большевик с семнадцатого года, командир бригады на уральском фронте, мечтал о подруге, как юноша.
«Никто не виноват, что ты вовремя не женился… Глупая формулировка – „вовремя не женился“. Жениться! И слово-то феодальное… „Слышен звон бубенцов издалека…“»
– Жених, – произнес он громко, и это его рассмешило. Он бросил папироску и закурил другую.
«Как мне не хочется ехать в Ковно! Все равно, что ехать в тысяча девятьсот одиннадцатый год царской России. Помещики. Лавочники. Гимназисты… Как мне не хочется ехать в это дурацкое Ковно!» – подумал он с раздражением.
Дней десять тому назад он разговаривал в ЦК. Он говорил, что ему надоело планировать и торговать. «Я с двадцать третьего года администрирую. Пошлите меня на партийную работу. На партийной работе люди учатся, растут… Вот давайте поеду на Урал, там меня знают рабочие». Ему сказали, что сейчас надо ехать в торгпредство в Литву, и обещали, когда вернется из Ковно, послать на партийную работу. Он в это плохо верил.
– С двадцать третьего года на административной работе! – произнес он с обидой. – Обалдеть можно! – добавил он зевая и достал со столика часы, – было еще рано: семь часов. – Обалдеть можно, – повторил он, сбросил с себя одеяло и обеими короткими волосатыми ногами стал на пол.
Он взял черное галифе со спинки стула и с досадой отложил его в сторону, вспомнив, что придется надевать костюм, жилет, запонки, галстук. Он привык к сапогам, к гимнастерке, к туго затянутому ремню, а сейчас придется надевать жилет, запонки, галстук.
– Ничего не поделаешь!..
Он подошел к зеркальному шкафу и остался собой недоволен.
– Гаврик, – сказал он о себе. – Типичный гаврик.
Он чувствовал себя плохо в непривычной одежде: плечи чрезмерно широки, ростом он стал еще ниже, все время такое чувство, будто чего-то не хватает и некуда девать руки. Он то застегивал пиджак, то расстегивал, то одну руку держал в кармане пиджака, другую клал за борт, то обе руки глубоко засовывал в карманы брюк, и тогда ему хотелось свистеть. Обрадовался, когда нашел задний кармашек в брюках. «Это хорошо, можно положить браунинг».
Потом вспомнил про орден Красного Знамени, извлек его из полевой сумки и теперь пристраивал к пиджаку. Обыкновенно Александр Праскухин не носил ордена.
Скорый поезд Бигосово – Москва подходил к Можайску. Миша читал журнал «Прожектор» и думал о Москве, о живописи, о математике. Его картины всем понравились: о нем написали статью в газете. «Успехи советской живописи… Талантливый художник М. Колче… Редкое сочетание идейной и эмоциональной насыщенности…» Его без всякой командировки приняли в университет. На экзамене все удивлялись, как он много знает… Он подал заявление в ЦК ВЛКСМ, его восстановили в комсомоле и даже перевели в кандидаты партии… Он ведет общественную работу на заводе имени Ильича (бывший Михельсона), где ранили Ленина. Его любят рабочие. Он обучает рабочих математике и ведет там изокружок… В клубе висит его картина «Последняя атака»: среди других кавалеристов – Маркс, Энгельс и Ленин в буденовках, и вовсе не на богатырских, а на обыкновенных лошадях. Конечно, у них в клубе, наверно, висит репродукция с картин этого бездарного натуралиста Пчелина «Покушение на Владимира Ильича». Надо будет разоблачить. Это не искусство. Рабочие согласны с Мишей – это не искусство…
Он написал письмо домой: «Вот видишь, мама, я тебе говорил…» Он просит ее приехать. Пускай приезжает вместе с Ксенией. Деньги он им вышлет на дорогу. Ксения ни разу не была в Москве…
А что сейчас дома? Папа спит. Он поздно лег. Мама ушла на службу. Нет. Она еще пьет чай… Александр Праскухин… Интересно, какой он… Александэр Праскухэн. Любопытно, какой он – Александэр Праскухэн.
– Я за это лето съела сорок кур, – мужским голосом сообщила своему соседу сидящая напротив Миши черноглазая гражданка.
Миша вздрогнул и уронил журнал.
У гражданки очень короткая шея. Впечатление такое, что голова от туловища отделена одним мясистым ошейником.
– Неужели? – удивляется сосед.
– Уверяю вас: я за это лето съела минимум сорок кур, – убежденно повторяет она.
– Да не может быть! – фальшиво сомневается сосед, поглаживая бородку.
Мише противна и напудренная дама и этот мягкоулыбчивый пассажир. Уткнувшись в «Прожектор», Миша думает:
«Завтра же запишусь в библиотеку… Надо будет обойти все музеи…»
И еще Миша думает о том, что он в Москве встретил замечательную девушку. Он с ней подружился. Она все понимает, и с ней можно говорить обо всем…
– Но, боже мой, как я безобразно растолстела! Меня муж не узнает.
– Узна-а-ет. Небось бедняга истомился. – И сосед бесстыдно оглядывает мощные формы пассажирки.
«Пошляки! – думает о них Миша. – Животные!»
Он выходит в коридор…
– Какой милый мальчик! – замечает гражданка, когда Миша вышел. – Какой-то заграничный и все молчит.
– А вы неравнодушны к мальчикам. Ой, неравнодушны! – поет сосед и нежно кладет руку на загорелое плечо пассажирки.
– Только без этого, – говорит она строго, отодвигается и достает из ридикюля губную помаду…
Миша стоит у окна. Убегают черные ели, мокрые телеграфные столбы. Серо. Дождь… Он подружился с этой девушкой. Она не такая, как все. Она без лицемерия и фальши, с ней можно говорить обо всем…
Александр Праскухин укладывал чемодан. Это были недолгие сборы. Несколько смен белья. Верхние рубашки. Носовые платки. Носки. Бритва. Ботинки с коньками.
Уборщица подметала комнату. Она подымала с пола каждую бумажку, клала на стол и говорила:
– Посмотрите, Александр Викторович, – может быть, нужное?
Среди поднятых бумажек оказалась и вчерашняя телеграмма от Елены, где она сообщала, что Миша выехал. Праскухин разгладил телеграмму, зачем-то положил ее под пепельницу, подошел к телефону и справился, когда прибывает скорый Бигосово – Москва.
– Только что прибыл, – ответили ему.
Он даже немного заволновался: так было интересно, что сейчас увидит сына сестры. Праскухин любил свою сестру. Его радовало, что у нее уже взрослый сын-комсомолец. О том, что Миша стрелялся и исключен из комсомола, Праскухин не знал. Миша категорически запретил матери писать об этом брату.
Праскухин приготовился встретить его ласково. «Племянник. Сейчас в комнату войдет какое-то теплое существо…»
Миша багаж сдал на хранение, решив, что неудобно «вваливаться с вещами», и взял с собой только небольшой баульчик. Он хотел прийти к дяде столичным и серьезным. Он знал, что до Охотного идет первый номер автобуса. Никого не расспрашивая, сел рядом с шофером и поехал. Дождь перестал. Асфальт гладкий. Миша смотрел и окно и ничему не удивлялся. Он себя чувствовал так, будто в Москве прожил много лет, а сейчас возвращается с подмосковной дачи, где проводил лето. Страстная площадь. Пушкин. Поэт стоит, слегка наклонив голову в железных кудрях. «Мировой писатель, – подумал о Пушкине Миша. – Кто у нас еще мировой? Гоголь, Толстой, Достоевский. Писателей много, а вот художников нет. Ученых тоже много: Менделеев, Ломоносов, Ленин… А еще?» Все время приходили на ум имена мировых ученых, но принадлежащих другим странам. Это его рассердило, и он весело подумал: «Все наши. И Лаплас наш, и Ньютон наш, и Фарадей наш, и Дарвин наш, и Рембрандт наш, и Шекспир наш, и Кант наш, и Гегель наш, и, конечно, Маркс наш».
Автобус резко затормозил и остановился у Охотного ряда. Как Мише ни не хотелось, ему пришлось спросить, где тут бывшая Лоскутная гостиница. Она была рядом.
С некоторой тревогой Миша медленно подымался по чугунным лестницам старинной гостиницы. Перила были обиты потертым красным бархатом. На площадках лестницы тускнели высокие зеркала в деревянных и бронзовых рамах. Миша останавливался у каждого зеркала и туже затягивал черный галстук. Его раздражала передняя запонка. Она все время выскакивала, блестела и вела самостоятельный образ жизни у Мишиной шеи.
Он долго блуждал по темным и длинным коридорам, где пахло то жареным луком, то кошками, пока нашел нужный ему номер.
Миша, хотя и знал дядю по фотографическим карточкам, представлял себе Александра Праскухина высоким и мужественным и теперь удивился, увидев человека небольшого роста, с серыми, как у мамы, глазами, и больше всего его поразили темно-русые усы. Прямо – как у бухгалтера. И голос у Праскухина тоже обыкновенный и ничем не примечательный.
– Вы Миша? – встретил его нежно Александр Викторович, улыбаясь глазами. – Раздевайтесь. – Взял у него баульчик и даже хотел помочь снять пальто.
Баульчик раскрылся, оттуда выпали румяные домашние булочки, покатились по паркету антоновские яблоки.
Миша покраснел. Александр Праскухин помог ему собрать с пола булочки и яблоки. Последнее яблоко, с засохшим листочком, он крепко-накрепко вытер белоснежным платком и так надкусил, что из яблока просочилась пена.
– Я люблю антоновку, – одобрил Праскухин. Он сидел в кресле, заложив ногу на ногу.
– Мне тоже нравятся эти яблоки, – оживленно и неестественно заговорил Миша. – В них много сентябрьской меди и осенней прохлады.
Он хотел понравиться Праскухину, и что бы он ни говорил, у него выходило фальшиво и крикливо. На вопрос дяди, как мама и папа, он небрежно заметил, что старики живут неплохо.
Праскухина покоробили и «старики» и «сентябрьская медь».
Миша, заметив на столе заграничный паспорт Праскухина, как-то театрально приподнял его и сказал громко, не своим голосом: «Краснокожая паспортина!»
– Помните у Маяковского? – И неожиданно появившимся баском он торжественно продекламировал: – «С каким наслажденьем жандармской кастой я был бы исхлестан и распят за то, что в руках у меня молоткастый, серпастый советский паспорт». Здорово? – спросил Миша.
– Ничего, – очень тихо и без всякого восторга заметил Праскухин, внимательно оглядывая Мишины ботинки, длинные коричневые чулки, завернутые у колен, и широкий черный галстук.
Ему все меньше и меньше нравился этот юноша.
– Прекрасный поэт! Замечательный поэт! – возбужденно повторял Миша, шагая по комнате. – Куда до него Демьяну! – сказал он авторитетно, остановился, чиркнул спичкой, закурил папиросу.
Праскухин в поэзии мало разбирался. Однако он любил Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Кое-что ему нравилось у Блока, кое-что и у того же Маяковского. За Демьяна он обиделся. Он привык с самого начала Октябрьской революции читать стихи Бедного в «Правде». Потом он прекрасно помнит, какое огромное значение эти стихи имели на фронте во время гражданской войны… И теперь этот самонадеянный юнец росчерком жеста снизил Демьяна. Праскухин почувствовал в этом личное оскорбление и хотел ответить Мише резко и грубо, но сдержался, сумрачно спросил, поедая уже третье яблоко:








