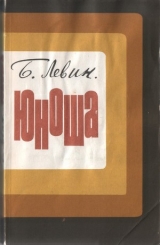
Текст книги "Юноша"
Автор книги: Борис Левин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
Черноваров, лежа в кровати, подумал о Мише: «Обомнется и ничего будет». Докурил папироску (он всегда курил перед сном), повернулся на бок и немедленно заснул.
5
У Нины была удивительно тонкая талия. Она одевалась со вкусом.
Всегда чего-то не хватало. Платье в порядке – туфли худые, или еще что не так.
Владыкину (он одевался по-простецки: длинная шерстяная рубаха, ремень и те самые ботинки, о которых мечтал Миша) нравилось появиться с Ниной в театре, чтоб на нее смотрели и чувствовали, что это его жена. Она ему принадлежит. Любуйтесь. Я хозяин. Мое.
Нина не выносила этой владыкинской черты. И когда на людях он еще это подчеркивал разговором, она просто негодовала:
– Я запрещаю со мной так обращаться. Меня нельзя положить в карман или передвинуть с одного места на другое. Пойми ты это раз и навсегда!
Владыкин обещал держать себя подобающе, но быстро забывал об этом. В гостях или когда у них кто-нибудь сидел, он по-прежнему распоряжался хозяйским баском: «Ну, жена, собирайся: пора домой», или «Женка, подойди сюда, я тебя поцелую». Нина ярко краснела, делалась ненатурально веселой или незаметно огорченной… Вот почему, когда пришел Миша и Владыкин пробасил: «Нино», она вошла и грубо спросила: «Что надо?»
А если б Нина слышала, как он говорил о ней со своими товарищами где-нибудь в пивной или в ресторане!..
– Она у меня умная… С самостоятельными идейками.
Он искренне радовался, что у него красивая и умная «баба». Слегка выпив, рассуждал о ней так, словно Нина покорный, влюбленный в него раб.
Какое право он имеет так разговаривать? Нина – коммунистка. Равная. Совершенно самостоятельная… И никакой этой экономической зависимости. Наоборот, когда Владыкин был в неизвестности, они жили исключительно на зарплату Нины… Кто дал ему право так обращаться?.. Причем, когда они остаются вдвоем, находит же он другие слова и держит себя совсем иначе. Значит, он сознает. Это еще подлей… Неужели ему непонятно, что подобное поведение унижает не только ее, но и его самого? Ведь он же коммунист… «Мужик. Большой мужик сидит в нем где-то в глубине», – думала Нина в такие минуты с отвращением о Владыкине.
У других грубоватость Владыкина пользовалась успехом. «Простой, хороший парень». Если бы он был служащим почтового ведомства или вагоновожатым, никто бы этой простоты не замечал, но Владыкин был талантливый художник. Картины Владыкина, так же как и его внешность, подкупали добротностью. Синее – так это синее. Конь – так это конь. Партизаны дышали ненавистью, в них чувствовались социальные корни. Бунинские Захары Воробьевы, дожившие до революции. Изморозь. Снег. Месть. Кровь. Лес. Отчаяние. Все это было настоящее. Рядом с этим неотесанная фигура Владыкина, его грубоватость принимались за силу, пришедшую из гущи народа.
Владыкин один из первых начал писать картины советского жанра, преимущественно из гражданской войны. В этом его большая заслуга, и она была по достоинству оценена… В то время еще многие художники писали обнаженных женщин, букеты, фарфоровые вазы, ковер и небо, девушку у окна – все то, что когда-то прельщало капиталистические салоны. Столица и усадьба… Многие художники считали, что самое главное – это фактура, цвет, свет, линия. На выставках преобладали: радужные спирали, круги, параболы, детали машин, математические формулы. Были картины, склеенные из кусочков материи, жести, воблы, обрывка газеты, окурка, подошвы. Эти художники отрицали все: и рисунок, и краску… Они старались доказать, что пролетариату вообще не нужна живопись. Весь этот суррогат выдавался за революционное отображение действительности, за передовое искусство.
Появление полнокровных полотен Владыкина было встречено как долгожданный дождь в засуху. Это было как раз вовремя. Добросовестно написанные картины пользовались большим успехом: их охотно смотрели, о них много писали в печати. Сразу стало ясным, что весь хлам, который до этого процветал на выставках, – это просто продукция малодаровитых людей. И было приятно, что революционные картины написал не бледнолицый молодой человек с коричневыми пятнами под глазами, а участник гражданской войны, здоровый парень с бурой шеей. Поэтому грубоватость и простоту Владыкина приняли как должное, как силу, вышедшую из недр страны. Тем более что манера говорить, отхаркиваться, широкий шаг – все это было не напускное, а органичное.
Между тем Владыкин, сын малосемейного, довольно богатого лесничего, окончил реальное училище и учился год в университете. В Красной Армии он, правда, был с девятнадцатого года, но в боях не участвовал. Он работал в снабженческих органах, глубоко в тылу. Однокашники его не любили. Несмотря на большой рост и видимую силу, Володю Владыкина считали трусом. В этом не раз школьники убеждались на деле. Шли ли всем классом в драку – Владыкина не было впереди… Или вот: постановили сумасброду латинисту не отвечать урока, поклялись. Кто нарушил клятву? Владимир Владыкин. Ему за это латинист поставил четыре с минусом, хотя отвечал Владыкин на двойку. Трусость и вероломство во Владыкине мальчики заметили с первых же лет совместного с ним обучения и прозвали его «Чечевичная похлебка». Выскочка. Желание угодить начальству… Когда однажды Владыкину незаслуженно – потому что учитель спрашивал не то, что было задано, – поставил кол, никто ему не сочувствовал. Огромный верзила плакал, растирая кулаками слезы.
– Господин учитель… Господин учитель, вы этого не задавали… Ей-богу…
Противно смотреть!
Фронтовые товарищи, которым приходилось сталкиваться с Владыкиным, прекрасно знали его слабые звенья и считали его далеко не первосортным коммунистом. Ему не особенно доверяли. Когда он прославился, они были неприятно удивлены. Всячески отрицали ореол боевых заслуг Владыкина, представление о которых вызывали его картины. Фронтовые товарищи, зная Владыкина как человека, не подозревали в нем таланта. Слава Владимира Владыкина им казалась непонятной, не совсем заслуженной.
Когда Нина познакомилась с Владыкиным, он произвел на нее такое же впечатление, как на Мишу, на меня, на вас. Фронтовик. Крепкий коммунист.
Нина знала за собой множество мелких изъянов и думала, что она недостаточно хорошая коммунистка. Чрезвычайно добросовестно выполняла партийные обязанности, но все время испытывала такое чувство, что она делает второстепенное, главное делают другие, а ей никогда и не поручат этого главного. Особенно робела, сталкиваясь с коммунистами-рабочими, хотя они к Нине относились хорошо. Владыкина она считала намного сильней себя: «Он гораздо органичней коммунист».
Первые года нэпа они обедали в студенческих столовках, редко бывали в театре, редко ужинали. Душное лето для Нины и Владимира отмечалось подстриженной травкой на бульваре, консервной банкой в руках мальчика-рыболова, идущего босиком к реке.
Нина любила начало весны. Капель. Прозрачный воздух. Окрепшее солнце. В городе сразу шумней, и весь день – словно утро. Еще в конце февраля Нина, придя домой из фабзавуча, где она преподавала обществоведение, оживленно говорила:
– Володечка, весна! На улице продают мимозы. Скоро тепло…
Блестели глаза. С холода сизые, бумазейные Нинины щеки дышали свежестью. В это время года хотелось хорошо одеваться. В свободные дни она толкалась по магазинам, примеряла шляпы, приценивалась к обуви, выбирала материю на платье, рассматривала модели последних фасонов, но покупать приходилось дешевенький галстучек, простенький гребень. Нина искренне огорчалась, что она худо одета, но вслух об этом никогда не говорила. Владыкин много раз предлагал: он бросит живопись, поступит на службу или опять начнет халтурить в мелких журнальчиках, рисовать диаграммы, плакаты.
– Получу много денег. Купим тебе все, что надо. В июле поедем по Волге. Хочешь? Га-а! – выкрикивал он, как обычно, резким голосом.
– Нет. Ни в коем случае! Ты должен писать, – отвечала твердо Нина.
– Хорошо, моя девочка, я буду работать. Только ты не грусти, моя девочка.
Он присаживался на кровати, нежно гладил широкой ладонью каштановые волосы Нины.
Она подбирала губы, испуганно глядела и нарочно по-детски серьезно, немного певуче говорила:
– Как не грустить! Я круглая сирота. Прошла суровую школу жизни. В люди не выбилась. Вся надежда на мужа.
Нина умела представлять забитых деревенских баб, униженных женщин, оскорбленных детей.
Владыкина все это веселило. Он громко смеялся и работал бодрей.
Слава Владыкина для Нины не были неожиданностью: Нина давно понимала, что он талантлив.
Приятели им завидовали: счастливые люди – редки, а тут живут двое молодых, сильных и любят друг друга… Оба коммунисты. Умные. Красивые. Он известный художник…
Особенно дурно относились к Нине жены приятелей. Им казалось, что Нина недостойна Владыкина.
– Она для него не подходит. Неподходящая пара.
– Правда, – рассуждали они, стараясь быть как можно объективнее, – она недурна, возможно даже не глупа, но что-то в ней есть… надломленное, – утешали они себя, найдя нужное им определение.
Еще они досадовали на то, что Нина была умней их. Они это чувствовали, хотя не смели в этом признаваться. Вначале Нина даже с некоторым удовольствием разговаривала с ними. Ее всегда интересовало, как люди живут. Счастливы ли они? Что им нравится? О чем они думают? Жены приятелей всю жизнь охотней всего рассказывали о себе, так что в лице Нины они нашли прекрасного слушателя. Нина же с ними не откровенничала и никогда ни на что не жаловалась. Это особенно их раздражало… А они всегда жаловались и прибеднялись. Она была им непонятна. Каждая из них думала: «Будь я женой Владыкина, уж я бы знала, как жить… А эта Нина какая-то странная. Нигде не бывает…» Вот еще почему они так ухватились за термин «надломленная». В этом было что-то унизительное для Нины и вместе с тем возвышавшее их. Нина их вполне понимала, только было непонятно, как люди могут жить словно рептилии. Они нигде не работают. Что они делают? Ну, обедают, ну, изредка наспех изменяют мужьям. Ну, новое платье, ну, аборты. Ну, а еще что? Господи, как они могут так жить! Потом стареют, лечатся… И болезни какие-то особенные…
«Доктор сказал, если я буду питаться исключительно репой, то могу еще долго продержаться», – вспомнила Нина, как одна из них жаловалась.
Жить надо, а не «продержаться»… Жить – это, по их пониманию, – с кем-то спать. Когда они говорят: такой-то живет с такой-то, это значит, что такой-то спит с такой-то. Жить – это спать.
Вскоре жены приятелей, а также и сами приятели Нине окончательно надоели, и она как можно реже встречалась с ними… Да ей и некогда было. Ячейка выдвинула Нину в художественный совет ситценабивной фабрики.
Там шла борьба. Дело в том, что расцветку тканей до сих пор разрабатывали рисовальщики, которые еще служили при старом хозяине фабрики. Они и теперь предлагали для ситцепечатания рисунки образцов времен капитализма, а то и феодализма. Ясно, что надо было менять расцветку и рисунки. Приблизить к современности. Пришедшие на фабрику новые художники, решительно отвергнув старые образцы, начали предлагать свои эскизы. У них преобладала расцветка, как они называли, «индустриального мотива». Такой ситец выглядел аляповатым, скучным и некрасивым. Нина возражала. Молодые дружно нападали на нее. Они говорили, что необходимо внедрять в массы социалистические элементы: «Каждый метр ситца, репса, бумазеи должен агитировать за индустриализацию страны». Они говорили: «Объективные условия сейчас таковы…» Нина никогда так не выражалась. Она говорила гораздо проще и тише.
– Хорошо, – возражала она, – но вы ведь дома не повесите у себя занавески с фабричными трубами, ваша жена не наденет блузку, на которой будет нарисовано мельничное колесо или экскаватор. Это же некрасиво… Так почему же вы думаете, что работнице или крестьянке такой ситец понравится?.. И откуда вы взяли, что индустриальная расцветка обязательно темная, коричневая? Нам надо радостные цвета. По-моему, лучше, если будут одеваться в радостные цвета…
И вот потому, что она говорила не совсем уверенно («по-моему») и обыденными словами («некрасиво»), она казалась незащищенной. Ее обвиняли в эстетстве, в том, что «перекликается с правыми художниками», и чуть ли не в том, что она против века. Особенно свирепо выступали интеллигенты, изобличая ее в интеллигентщине и мелкобуржуазности…
Старые рисовальщики говорили о том, что ситец будет «мазаться», что трудно воспроизводить предлагаемые молодыми художниками эскизы. Соглашаясь, что нужна идейность в расцветке и рисунке, они с мягкой улыбкой вопрошали: «Как вы их будете воспроизводить?» Надо же учесть качество ткани, надо знать протраву, краску. Долго рассказывали об устройстве печатной машины, как вращаются валы, о трудности гравирования рисунков и обо всем том, что они знали отлично благодаря своей многолетней работе и что плохо знали молодые художники. Получалось так, что Нину поддерживали старые рисовальщики. Она вовсе не с ними, но противники этим воспользовались и немедленно обвинили Нину в «групповщине». «Она группирует вокруг себя отсталые элементы». Они ей приписывали все то, в чем сами были виноваты. Это они – «групповщина». Это они, несмотря на кажущееся расхождение с правыми художниками, с ними перекликаются. Нина все это понимала, в таком духе высказывалась, называя их леваками и вульгаризаторами.
Обо всем, что происходило на фабрике, она информировала Владыкина и просила его вмешаться в это дело. В данном случае авторитет такого художника, как Владыкин, мог сыграть известную роль. Владыкин одобрял линию Нины, во всем с ней соглашался, но пойти на фабрику не пожелал.
– Стану я вмешиваться… Еще скажут – жену защищаю.
– Это общественное дело, – доказывала Нина. – Ты рассуждаешь, как обыватель…
Владыкин делал только то, что касалось его лично. Он был осторожен и не любил рисковать.
«Эгоист, – думала о нем Нина, – трус», – и больше не возвращалась к этому разговору.
По ее предложению художественный совет ситценабивной фабрики был расширен, туда ввели рабочих. Кроме того, этот вопрос обсуждался на партийном активе, и со многими доводами Нины согласился секретарь ячейки.
Нина получила огромное моральное удовлетворение, когда на первом же заседании художественного совета рабочие стали на ее сторону. Вульгаризаторы были разбиты. Некоторые из них публично признавали свои ошибки и каялись в том, что еще вчера отстаивали с пеной у рта…
Где ваша принципиальность?
Борьба прекратилась внешне. Вульгаризаторы притихли, ходили стайками, с Ниной раскланивались сухо, и она знала, что они выжидают момента, чтобы с новыми силами ринуться в бой…
В фабзавуче, где Нина преподавала обществоведение, было то же самое. Там шумели свои правые, свои левые, свои вульгаризаторы…
Когда Нина поделилась этими впечатлениями с Левашевым, он сказал:
– Это не только у вас. Точно так и везде. Борьба. Классовая борьба!
Левашев пополнел, поседел и выглядел солидней. Он работал в отделе печати ВЦСПС. Книгу о любви так и не написал. Женился. У него был мальчик Юра.
Левашев и Нина дружили по-прежнему.
У Владыкина были свои друзья, хотя по-настоящему он ни с кем не дружил. Слишком был замкнут и слишком самолюбив. Самый ему близкий человек была Нина. С ней он откровенничал и советовался. Она помогала ему мыслить и обобщать идеи. Владыкин это прекрасно сознавал. Советы Нины были ему так же необходимы, как натурщики, как кисти… Если б не Нина, содержание его картин не отличалось бы богатством идей. А это было самое важное. Это то, что и дало известность. С тех пор, как Владыкин прославился, он все меньше советовался с Ниной, да и меньше работал. Вот уже скоро два года, как не прикасался к палитре.
Годы совместной жизни убедили Нину, что Владыкин не тот тип сильного коммуниста, за которого она его принимала в начале знакомства. Она знала все его недостатки: мелкое тщеславие, трусость, беспринципность… Ему доставляли удовольствие неудачи других. Ложь… Нина случайно узнала, что где-то в Калуге живет бывшая жена Владыкина и ребенок.
– Зачем ты это скрывал? – спрашивала она недоумевая.
– Я боялся тебя огорчить.
– Почему? – удивлялась Нина. – Глупо. Очень неумно, Володя.
Она настояла, чтобы он регулярно посылал деньги в Калугу. Владыкин всячески отказывался.
– Я давно их забыл, у меня нет к ним никаких чувств.
– Советские законы учли эту забывчивость чувств и обязали платить деньги, – говорила она с насмешливой улыбкой.
Иногда Нина думала: «Не лучше ли разойтись с Владыкиным? Что нас связывает? По-моему, мы давно надоели друг другу. Почему мы еще цепляемся… Он такой, и такой, и такой… Но ты же тоже не ангел, – возражала она себе. – И во мне немало изъянов… Он меня любит. Это приятно и встречается не так уж часто. Я к нему привыкла… Талантлив… Да, все-таки чем-то он лучше других».
Когда Владыкин возвращался на рассвете домой или вовсе не приходил, Нина никогда у него не спрашивала, где он был. Но если Нина не ночевала дома, он устраивал дикие скандалы. Кричал, что это безобразие, что это почему-то его компрометирует. Он говорил, что страшно беспокоился, хотел звонить в милицию. Затем тревожно заглядывал ей в глаза и умолял сказать, где она ночевала или почему поздно возвратилась домой.
Владыкин ревновал. Ему хотелось, чтоб жена всегда была дома, но то, что Нина коммунистка, он одобрял. В этом было, как ему казалось, что-то лестное. К основной и общественной работе Нины он относился иронически.
– Охота тебе работать! Я тебя и так прокормлю.
Нину это возмущало. Она старалась как можно меньше тратить владыкинских денег.
Владимир любил говорить:
– Я хочу, чтоб моя жена одевалась лучше всех.
Несмотря на то что он был художник, вкус имел лавочника.
Нине никогда не нравилось то, что он ей покупал. Это бывало дорого, шикарно, но некрасиво, не хотелось надевать. Совсем, совсем не Нинин стиль…
Из друзей, с которыми чаще всего встречался Владыкин, Нина терпеть не могла Бориса Фитингофа и Дмитрия Синеокова. Того самого Синеокова… Их часто можно было встретить втроем: высокий Владыкин, энергично шагающий маленький Фитингоф и изящный Синеоков.
Дмитрий по-прежнему курил трубку и хорошо одевался. Отличный галстук, мягкая шляпа, заграничное пальто и широконосые коричневые штиблеты.
Он постарел. Вокруг глаз собрались морщинки, виски посеребрились.
Нина особенно возражала против дружбы Владыкина с Синеоковым.
– Это приспособленец. Как ты этого не видишь!
– Почему? – Володя пожимал плечами. – Никаких оснований… Не надо так скверно думать о людях. Ты всегда о них плохо думаешь, – говорил он нравоучительно.
Владыкин защищал Дмитрия, хотя Нина ему подробно рассказывала все то, что знала о Синеокове и как мать Синеокова ее выгнала. О том, что она была влюблена в Дмитрия, Нина умолчала. При воспоминании она краснела: «Господи, как стыдно! Как я могла полюбить такое ничтожество! Я просто счастлива, что ему тогда не призналась». Если б Нина об этом рассказала Володе, он сразу переменил бы свое отношение к Дмитрию, но она старалась очертить Синеокова как социальное явление, как зло. Владыкин этого не понимал или не хотел понимать. Он говорил, что Синеоков ценный и полезный человек, а у Нины против него личная злоба.
– Дмитрий, что ж… Не может же он отвечать за действия истеричной мамаши… Он был в Красной Армии, работал в «Окнах Роста»… Зря ты о нем так, Нина. Он о тебе лучшего мнения – считает умной, но злой… Это верно. Я как муж подтверждаю. Это в тебе есть… Га-а!.. Женские капризы, – и хлопал миролюбиво Нину по плечу. – Верно, старуха? Га-а! – вскрикивал он, обнажая розовые десны с мелкими зубами, и неуместно, жестко смеялся.
Нина возмущенно отворачивалась. В эти минуты ей был противен Владыкин и его отвратительный смех…
То, что в Нине многие принимали за злость, было ясным пониманием подлинного лица всего того, что раньше ей казалось блестящим.
Когда Владимир в разговоре с Ниной пользовался тем богатым словарем, которым объясняются сотни лет мужья с женами («женские капризы», «злая старуха», «бабьи штучки» и пр. и пр.), Нина содрогалась от злобы – так это было невыносимо – и много дней с ним не разговаривала.
Синеоков действительно был в Красной Армии и работал в «Окнах Роста»… Отец и мать Дмитрия уехали вместе с белыми. Он остался. Во-первых, потому, что большевики это ненадолго, но главная причина – актриса Онегина, с которой его встретила Нина в клубе георгиевских кавалеров. Ирина Онегина, удравшая из Петрограда, заболела тифом. Дмитрий не смел ее покинуть. Первые три месяца он ничего не делал. Пробовал печатать в газете стишки, но их браковали. Случайно, через знакомых поступил на службу в «Окна Роста», но так как пайка не хватало, то еще определился тапером в клубе Запасного полка. Ирина Онегина участвовала в спектаклях, со сцены клуба мелодекламировала («Одна из них белая, белая… другая же алая, алая»). Онегина раньше Синеокова уехала в Москву и оттуда писала: «Милый мальчик. Я опять на сцене. Театр для меня опиум. Все по-старому. Муж – нэпман. Безумно любит. Цветы. С ним скучно. В искусстве ни черта не понимает. Вспоминаю тебя. Тоскую. И. О.»
Дмитрий спешил прославиться и спешил в Москву. Окончательно убедившись, что стихи – это залежалый товар, как ему о них сказали в одном издательстве, он приехал в Москву в самый разгар нэпа и развил бешеную деятельность. Через несколько дней уже многие в Москве знали, что есть такой Дмитрий Синеоков. Причем, кто говорил, что это поэт, кто говорил, что это театральный критик, а кто говорил неопределенно, но значительно, что это стилист.
Дмитрий неожиданно стал теоретиком и идейным вождем художников, отрицающих живопись. «Пролетариату не нужна живопись, – писал Синеоков. – Живопись – утеха пресытившегося буржуа».
В квартире Онегиной встречались музыканты, поэты, артисты, художники. Распоряжался Синеоков. Муж Ирины Сергеевны находился тут же, перед всеми извинялся, всех хвалил и всем предлагал сигары. В темно-сером костюме, седой, с энергичным профилем сигарной кожи и глазами цвета хаки, похожий на индуса, он робел в присутствии представителей мира искусств. Он завидовал последнему музыканту. В салоне жены его мог обидеть любой гость. С ним здоровались снисходительно, с легким презрением. Он был доволен, когда заканчивались разговоры, музыка, чтение стихов и все шли к столу. Здесь он хозяин, а не Синеоков. Вина, ветчина, апельсины, груши, зернистая икра – все куплено им. За столом гости замечали Соломона Марковича, охотно с ним чокались и во всем соглашались.
– Э-э, как там ни спорьте, – говорил он, – а настоящая ветчина лучше, чем нарисованная. Кто бы там ни нарисовал. Хучь Сезан.
– Не Сезан, – ударяя серебряной вилкой по столу, точно камертоном, – а Сезанн, – звонко выкрикивала с другого конца стола Ирина Сергеевна.
Между тем в мире спекулянтов, торговцев, темных дельцов Соломон Маркович считался самым могучим человеком. Его называли «Монька», и это имя звучало, как среди азартных любителей бегов имена лучших лошадей-рекордистов: Петушок, Прюнель. Соломона Марковича боялись и уважали. Говорили с восторгом: «Это дело рук Моньки!» Или предупреждали: «Не вмешивайтесь в пшеницу, тут заинтересованы Монькины люди – вы останетесь без рубашки… Сегодня на бирже свирепствует Монька! Что выделывает! Какие номера выкидывает!» – восхищались им. Самые авторитетные, серьезные нэпманы отзывались о Соломоне Марковиче с каким-то научным подходом, ссылаясь на классиков спекуляции.
– Это человек – запоздалый продукт промышленного капитализма. Митька Рубинштейн ему в подметки не годится. Дай ему волю, он заткнет за пояс Рябушинского.
Онегина относилась к нему скептически, избегала появляться с ним в театре, в концерте, в обществе.
«Жена частника. Как это низко! – рассуждала она. – Частник. Хотя бы назывался коммерсант, капиталист, фабрикант, а то – частник. Жена частника. Все равно, что раньше быть женой подпольного адвоката, врача – тайного абортмахера, мелкого клоуна. Позор! Как я пала!»
Соломон Маркович обожал Онегину, он был благодарен за то маленькое счастье, которое иногда доставляла Ирина Сергеевна, хотя она и причиняла ему много страданий.
Онегина, поздно вернувшись из театра, принимала холодную ванну. Она страдала бессонницей и долго не могла заснуть. В спальне голубой свет. Ирина Сергеевна лежала, запрокинув руки за голову, в шелковом красном халате. Маленькая голова ее светилась золотистой хризантемой.
– Соломо-он! – звала она мужа.
Он спал в гостиной на диване. Заспанный Соломон Маркович входил тихо, садился поодаль в кресло и закуривал.
– Не курить! – командовала Ирина Сергеевна, глядя в потолок.
Он прятал портсигар, заспанный, сидел, опустив голову.
– Соломо-он, – выговаривала Онегина это библейское имя так, как будто на конце три «н», – знаете, Соломон, я когда-то жила с Леонидом Андреевым.
– Что ж поделаешь, что ж поделаешь, – безразлично шептал Соломон Маркович.
– Я жила с Гюи де Мопассаном, Джеком Лондоном, Роденом, с Мамонтом-Дальским.
– Что ж поделаешь, что ж поделаешь.
– Ха-ха-ха! – смеялась она вдруг так звонко и искренне, что Соломон Маркович вздрагивал и тревожно предлагал валериановых капель. – На кой черт мне ваши капли! – говорила она обыкновенным голосом. – Мне просто скучно, я репетирую роль женщины, которая век прожила чужой славой. Я прекрасно произнесла бы этот монолог… Вы знаете, Соломон, еще когда я была маленькой девочкой, я страстно любила театр. Огни. Занавес. Аплодисменты. Я любила не только театр, но все, что соприкасалось с искусством… Художники, писатели, великие артисты, музыканты – мои боги. Я все время жила чужой славой… Вы этого не поймете… Соломон, я когда-то жила с Орленевым… Почему вы молчите? – кричала она. – Говорите: «Что ж поделаешь…» Я когда-то жила с Оскаром Уайльдом.
– Что ж поделаешь, что ж поделаешь, – покорно повторял Соломон Маркович.
– А сейчас я живу с частником. Все равно, что жить с негром. Вы видели Коонен в «Негре»?
Онегина вскакивала с кровати, – подражая Коонен, теребила волосы, топала ножками и исступленно визжала:
– Частник, частник, частник, частник!
Соломон Маркович не знал, играет она или это серьезно, растерянно стоял посреди комнаты и на всякий случай говорил:
– Ирина Сергеевна – это прекрасно.
– Что прекрасно? – спрашивала она строго. – Марш отсюда! Вы мне надоели.
Онегина артистически сбрасывала халат, голая оставалась перед зеркалом и разглядывала себя.
– Я, кажется, старею. Я, кажется, жирею… Только этого не хватало… Господи, как мне скучно!.. «Соломон, – передразнивала она сама себя, кривляясь и высовывая язык, – я когда-то жила с Леонидом Андреевым»… Как скучна-а-а!..
Когда Соломона Марковича за спекуляции, за шантажи посадили в тюрьму, а потом определили ему другое местожительство, то этот прожженный делец совершенно наивно предложил Онегиной поехать с ним на Север.
– Вы с ума сошли! – ответила она негодуя. – Если хоть немножко меня любите – а вы клялись, что безумно, – то как смеете предлагать мне такие условия жизни?.. А потом, – добавила она, – вы, Соломон Маркович, не декабрист, а я не «русская женщина».
Все думали, что теперь Синеоков окончательно переселится к Онегиной. Так думали все, кроме них.
– Вы знаете, Синеоков, – говорила Дмитрию Онегина, – вам надо тартюфить, а то с вашими родителями-эмигрантами и с вашей внешностью пропадете.
– Не беспокойтесь, Ирина Сергеевна. Кое-что наклевывается, – успокоил он Онегину. – Женя Фитингоф – правда, она не блещет происхождением, так же и красотой и только кандидат партии – вчера сказала мне, что мои статьи дышат искренностью. Мы с ней гуляли довольно долго. Полагаю, что еще одной прогулки будет вполне достаточно… Так что обо мне не беспокойтесь. Вот вам хуже, Ирина Сергеевна. Вам обязательно со славой… Хотите пролетарского писателя?
– Нет. Они мне не нравятся. Я их наблюдала. Они все ходят в сапогах и сморкаются в кулак. И потом мне вообще писатели не нравятся. Скажите, Дмитрий, – спросила она деловито, – кто из художников ныне в славе? Только без дураков! Кого вы сейчас считаете лучшим художником?
– Лучшим художником? Пожалуй, Владимира Владыкина, – ответил Синеоков.
– Владимир Владыкин, – повторила Онегина. – Это неплохо звучит. Владимир Владыкин. Приведите его ко мне.
– Только он женат.
– Тем лучше, – заметила Ирина Сергеевна. – Борьба страстей. Соперница. Ревность. Я давно этого не переживала – ни в современных пьесах, ни в жизни…
Где работала Женя Фитингоф и что она делала, толком никто не знал. Нина у нее несколько раз спрашивала:
– Где ты работаешь? Что ты делаешь?
– Масса работы, – отвечала та поспешно. – Я так загружена. Я так занята. Понимаешь, ничего не успеваю делать – так перегружена. Я с утра еще ничего не ела. И вчера то же самое. Легла спать в третьем часу. Жду не дождусь лета, чтоб уехать в дом отдыха и собраться с мыслями. Прямо сваливаюсь с ног…
Она так быстро говорила, что сама плохо понимала смысл своей речи. Слушатели совсем ничего не понимали. При этом деликатные слушатели разглядывали ее миловидное лицо, шмыгающие коричневые глазки, молча во всем с ней соглашались и старались не возражать, лишь бы скорей уйти… Чем быстрей она говорила, тем быстрей шмыгали глазки, словно зрительный аппарат выполнял еще роль счетчика и отсчитывал количество слов, выпускаемых механизмом, Женей Фитингоф. Грубые слушатели долго говорить ей не давали.
– Все это чепуха, – обрывали они ее.
– Дайте до конца высказаться, – умоляла она. – Тогда вам станет доступна моя основная мысль.
Но грубые слушатели, зная, что никакой мысли там нет, холодно прощались и уходили…
Женя Фитингоф. Ее имя никогда не произносили отдельно от фамилии.
Она была искренне уверена, что ей удалось во многом убедить Синеокова. И когда появилась статья Дмитрия, в которой он совершенно противоположно писал о том, что так долго и бурно защищал во весь период нэпа, Женя Фитингоф приписала это своему влиянию. А также подумала, что, кроме силы убеждений, немалую роль сыграли и ее женские чары. В этом она окончательно убедилась, когда Синеоков предложил ей выйти за него замуж. Она согласилась, поставив условием, что будут жить не в одной квартире, а в разных комнатах, так, как жили до сих пор. Женя Фитингоф полагала, что этим самым она вносит передовые элементы в брачную жизнь всего Союза. Дмитрий охотно принял это предложение.
– Синеоков, – говорила она всем своим знакомым, – меня поражает…
Она никогда не называла его по имени, очевидно, считая, что в этом тоже есть какие-то передовые элементы нового быта.
– Синеокову не хватает аналитического подхода к вещам. При его культуре, если он усвоит как следует диалектический материализм, он пойдет далеко вперед. Мы с ним вместе прорабатываем диамат…








