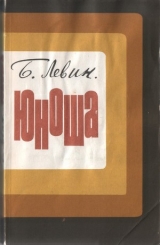
Текст книги "Юноша"
Автор книги: Борис Левин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)
В час ночи ввалились «без пяти минут офицеры» – Андрей Слухач и его ближайшие друзья: Левушка Реблинг (сын владельца мукомольной мельницы), Станислав Довгяло, Сашка Конюхов (у матери магазин готового платья) и Борис Филиппов (отец – вокзальный буфетчик). В одинаковых новых гимнастерочках, затянутые офицерскими широкими ремнями, в шароварах-бриджах из темно-синего сукна, они курили папиросы и были навеселе. Шевровые сапожки сияли. Слухач шел впереди, вразвалку. Сережа наблюдал за ними и жаждал скандала.
– Пришли «беспятиминутные офицерики», – сказал он своим товарищам солдатам, с которыми завтра собирался вместе уезжать на фронт.
– Гренадеры-мародеры, – шепнул один из солдат, – мать их так!
Левушка Реблинг взмахнул рукой и пискливым бабьим голосом воскликнул:
– Смотрите, здесь собрались кастрюльницы всех стран!
Гамбург подскочил к нему и выпалил:
– Ба-алван!
Андрей Слухач, спокойно отстранив приятелей, остался один против Гамбурга.
Музыканты отдыхали.
– Ты что? – спросил он, слегка нагнув голову, толстые веки совсем закрывали глаза. – Пьян? Высеку! – произнес он грозно.
Левушка, Сашка, Борька и Стася закачались от смеха.
– Болван! – И Сережа ударил Слухача в грудь.
Андрей взмахнул рукой, но не успел схватить Сергея. Он увидел перед собой, рядом с Гамбургом, десяток коренастых солдат-артиллеристов. Они стояли в вызывающих позах, готовые драться со Слухачом, его друзьями и со всем миром.
Андрей, оценив положение, – будто ничего особенного не случилось, заметил:
– Неохота связываться.
– Тут не только охотка – и аппетит пропадает, – сказал с усмешкой один из солдат.
Заиграла музыка. Слухач со своей компанией незаметно исчез. Оркестр играл лезгинку. Образовался круг. Военный писарь Демченко, растопырив руки и шевеля пальцами в такт музыке, бочком, на носках прошелся по кругу. Оркестр – быстрей – и Демченко быстрей. Оркестр полез вверх – и Демченко взвился. Он хорошо танцевал. Солдаты и женщины равномерно хлопали в ладоши и подпевали. Сергей завидовал Демченко. Он хотел бы сейчас ворваться в середину круга и так заплясать, чтобы все пришли в восторг… А то еще хорошо бы неожиданно запеть чудным голосом… Или сыграть на скрипке… Сережу когда-то учили играть на скрипке, но из этого ни черта не вышло. «Как жаль, что у меня нет никаких талантов. Народ любит таланты», – огорчался он. Утешил себя тем, что среди революционеров мало кто умеет петь, танцевать, играть на скрипке или на мандолине. «А ораторские способности у меня, конечно, есть», – решил твердо Сережа. Он часто произносил пламенные речи самому себе и всегда оставался ими доволен. На митингах ему еще ни разу не приходилось выступать.
Он пошел провожать высокую блондинку. Она показалась Сереже самой красивой. Действительно, у нее были замечательные голубые глаза. Он галантно взял ее под руку и спросил: «Можно?»
– Только крепче держитесь, – ответила она, намекая на то, что Сережа не особенно твердо стоял на ногах.
– Вы думаете, я пьян? Нисколько. Просто повышенное нервное состояние. Завтра нас отправляют на фронт… Потом рядом вы…
– Господи, когда это уж война кончится!
– Как вас зовут?
– Дуся.
– Прекрасное имя! Чудесное имя!..
Они черной лестницей поднялись наверх. Дуся открыла форточку, просунула руку и отодвинула оконную задвижку. Она влезла в окно, а Сереже открыла дверь.
– Только тихо, – предупредила она, – а то хозяева проснутся.
Она зажгла лампу, и с кухонного столика врассыпную разбежались прусаки. Сережа сидел на табуретке. Они говорили шепотом.
– Есть хочешь? – спросила Дуся и достала тарелку с холодными котлетами. И сама взяла котлету руками и стала есть.
Сережа посадил Дусю к себе на колени, обнял ее и тоже ел.
– Спасибо, моя Дульцинея. Накормила бедного солдата.
– Не балуйся… Дай поесть.
Потом она поставила на стол чашку с компотом из чернослива и опять уселась к Сереже на колени. Он кормил ее с ложечки и изредка целовал Дусины красные руки, потрескавшиеся от мытья горшков и лоханок. Сережа разгрызал косточки чернослива и зернышки вкладывал в Дусин рот. Когда она нагнулась над чашкой, он поцеловал ее затылок и крепко обнял ее.
– Погоди, – сказала она, приподнимая кофточку. – Блузку измажешь. Это блузка – молодой хозяйки. Узнает – со свету сживет.
– Я тебе куплю тысячу таких блузок, – прошептал Сережа и еще крепче прижал Дусю.
– Ты купишь! Когда припечет, тогда вы все такие добрые…
В это время открылась дверь. Шаркая ночными туфлями, в японском халате вбежала синеглазая Маня. Она спешила в уборную.
– Сергей! – воскликнула она и остолбенела.
Дуся соскочила с Сережиных колен, оправила блузку и стала собирать тарелки со стола.
Сергей шатаясь подошел к Мане и смущенно забормотал:
– Ты меня просила зайти… Я завтра уезжаю на фронт…
Маня схватилась руками за голову и убежала. Дуся потушила лампу. Зря она горела. Давно уже светало.
– Уходите! Идите! – торопила она Сережу. – А то сейчас придет хозяйка… Вам ничего, а мне тут жить.
На улице было холодно. Первые заморозки. Желтые деревья. Сергей зашел к Валерьяну Владимировичу. Нина еще не вставала. Он вошел к ней в комнату и сел возле кровати.
– Откуда вы так рано? – спросила Нина.
– Всю ночь пьянствовал… Драка была…
– С кем же вы дрались?
– Помните, я вам рассказывал про Андрея Слухача? Монархист. Сволочь. Он был самый сильный не только в нашем взводе, но и во всей учебной команде… Вот с ним и его компанией у нас вышла драка. Здорово мы им набили.
– Вы же слабый, Сережа. Мне иногда кажется, что даже я вас сильней.
– Если меня рассердить, тогда я очень сильный. Бесстрашный.
– Ну уж и бесстрашный… Выйдите в другую комнату. Я оденусь, и будем пить чай.
– Я зашел на минутку… Сегодня уезжаю на фронт. Вам жалко меня, Нина?
– Жалко.
– Я тоже привык к вам. Не хочется ехать, но теперь нельзя: совестно перед солдатами… Приходите меня провожать.
– Обязательно приду, Сережа.
– Приходите к часу в казарму. Оттуда мы пойдем на вокзал.
– Ладно.
– Значит, я вас буду ждать, Ниночка, – сказал он нежно и вздохнул. – Пойду попрощаюсь с Валерьяном Владимировичем; с Сергеем Митрофановичем я еще вчера попрощался.
К двенадцати часам всех уезжающих на фронт выстроили во дворе артиллерийского дивизиона. Целый час ждали начальства, попа и представителя совета. Они появились все вместе и уселись за столиком, накрытым зеленой скатертью. Дул ветер. Сумрачно. Седой поп в лимонной ризе с серебряными крестами отслужил наскоро молебен. Начальник артиллерийского дивизиона, бравоусый полковник Чембер произнес напутственную речь. Полковник гулко сморкался и чихал: у него был грипп. Он произнес громкую краткую речь, с таким видом, что вот, смотрите, я хоть и простужен, но выполняю свой долг перед родиной. Берите пример с нас – старых вояк. Он говорил, что действующая армия ждет с нетерпением пополнения, чтобы со свежими силами обрушиться на лютого врага и вернуть исконные русские земли, обильно орошенные кровью наших братьев.
– Вы, – кричал, не щадя своего здоровья, полковник. – Сыны! Свободной! России! С честью! Выполните! Свой! Долг!..
Вслед за полковником выступил представитель от совета – меньшевик Тяхницкий. На груди солдатской шинели у него краснел пучок гвоздики, левая рука висела на черной повязке – знак ранения. Сереже и раньше много раз приходилось слушать Тяхницкого. Высокий и тонкий, с лицом трагика, он говорил взволнованно. На митингах его слушали охотно и внимательно. Он подкупал искренностью и черной повязкой. Тяхницкий, собственно, сказал то же самое, что командир артиллерийского дивизиона Чембер, но произнес все это совсем иначе. Полковник говорил слишком старомодно, парадно и громко. Это уже не действовало. Тяхницкий же говорил, как свой брат солдат, проще, залезая в душу, во время речи закусывал от боли нижнюю губу, осторожненько поправлял раненую руку и при этом просил кого-нибудь из близко стоящих застегнуть повязку английской булавкой. Сколько раз Сережа ни слушал Тяхницкого, тот всегда так делал: молча подставлял руку, слегка корчась от боли, и ему туже затягивали повязку. Когда он сказал, что надо штыком и грудью защищать свободу от варваров-немцев, ему поверили. Бодрей и по-новому играл оркестр «Марсельезу», и солдаты искренней кричали «ура».
Сережа поднял руку – попросил слова. Полковник Чембер с удовольствием предоставил слово господину вольноопределяющемуся. Сережа вышел из строя на два шага вперед и, не чувствуя собственного голоса, закричал:
– Товарищи солдаты! – испугался и продолжал очень тихо: – Мы пойдем на фронт вовсе не затем, чтоб убивать германских солдат. Ведь не все немцы враги. Например, немецкие рабочие и крестьяне тоже не хотят воевать. Им тоже надоело…
– Громче! – попросили Сережу из президиума.
И тогда он, не помня себя, закричал изо всех сил:
– Им тоже надоело воевать, но их гонят немецкие офицеры. Немецкие меньшевики! Долой войну! Да здравствует…
Неожиданно оркестр грянул марш. Раздалась команда: «Смир-р-на». Под стук солдатских каблуков Сережа закончил:
– …революция во всем мире! – и поспешил занять свое место в шеренге.
– На первый-второй рассчитайсь!
– Первый. Второй. Первый. Второй.
Полковник Чембер приподнял воротник шинели. Седой поп собирал свой инструмент и увязывал в платок ризу. В этом помогал ему белобрысый мальчик. Тяхницкий курил, оттопырив руку на черной повязке, и о чем-то озабоченно беседовал с командиром дивизиона.
– Правое плечо вперед! Шаго-ом арш!
Впереди оркестр. Солдаты пошли на вокзал. Сзади ехали высокие двуколки, нагруженные вещевыми мешками и сундучками. Забегая вперед, прямо по мостовой спешили провожающие. Среди них была и Нина. Она несла Сереже яблоки, ветчину и несколько блинчиков с вареньем.
Когда артиллеристы пришли на товарную станцию, откуда их должны были отправить на фронт, вагоны еще не были поданы. Нина и Сергей стояли в стороне и разговаривали. К ним подошел незнакомый офицер и попросил Сережу на одну минуточку. Сережа ушел с ним и больше не возвращался. Солдаты уже погрузились в товарные вагоны, а Сергея не было. Прицепили паровоз. Нина заглядывала в вагоны и спрашивала у всех, не видели ли вольноопределяющегося в черной папахе. Никто не видал. Среди солдат было много пьяных. Они пели грустные песни. Матерились. Шумели. Обнимали и целовали провожающих. Дернул паровоз, и покатились вагоны… Солдаты громче запели. Махали шапками и кричали. Провожающие махали платочками и плакали. На последнем вагоне уехала меловая надпись: «Да здравствует братание! да здравствует Ленин!» Сергея нигде не было. Нина постояла еще немного и ушла.
Дома они с папой долго удивлялись, куда мог деться Сережа. Когда пришел Сергей Митрофанович, то он, не задумываясь, сказал, что, наверно, Гамбурга арестовали.
– За что же его арестовывать? – возразил Валерьян Владимирович. – Что, Сережа, по-твоему, преступник? Что он – вор? Или убил кого?
А на следующий день действительно какой-то солдат принес записку от Сергея, где тот сообщал, что он арестован и сидит на гарнизонной гауптвахте, и просил, если возможно, прислать ему папиросы, газеты и книги.
Гарнизонная гауптвахта помещалась в первом этаже и выходила окнами на улицу. Нина свободно переговаривалась с Сережей…
Однажды, когда Нина была одна в доме, пришла дама в каракулевой жакетке и широкополой шляпе с крылом фазана. Она приподняла темно-синюю вуаль до переносицы и торжественно произнесла:
– Я мать Сергея.
– Садитесь, – предложила ей Нина. Она первый раз видела мать Сережи и с любопытством разглядывала ее.
– Я мать Сергея! – повторила дама с дрожью в голосе.
Нина смутилась. Дама густо покраснела и, размахивая руками, истерично закричала:
– Мой Сережа под вашим влиянием, но я его вырву из вашего большевистского дома! Вам хочется женишка побогаче! Этого не будет! – кричала она, и ее палец мелькал перед носом растерявшейся и бледной Нины. – Раньше вы путались с этим бандитом Дятловым. Я все знаю! Вы нас хотели ограбить! Я найду управу! Развратная девчонка!
– Вон! – крикнула Нина и затопала ногами. Немедленно вон!
Мадам Гамбург испугалась, задом пошла к выходу.
– Вон! – наступала на нее в бешенстве Нина.
Она сообщила об этом Сергею, заметила, что сейчас жалеет: погорячилась тогда. Сережа сказал:
– В таких случаях никогда не следует волноваться. Надо было спокойно, вежливо показать на дверь. Это гораздо обидней и сильней действует на противника.
Через несколько дней мадам Гамбург, встретив на улице Нину, подошла и спросила:
– Я умоляю вас, скажите, где Сережа? Я же мать.
Нина рассказала ей и очень вежливо объяснила, где помещается гарнизонная гауптвахта. Назавтра мадам Гамбург пришла к Сереже. Она принесла ему баночку с медом, какао «Золотой ярлык», бисквиты, плитку шоколада и сухой еврейской копченой колбасы. Она знала, что Сережа обожает еврейскую колбасу. Но он ото всего этого отказался и попросил ее не беспокоиться, так как у него есть друзья и они о нем в достаточной мере заботятся. Матери это было непонятно. Она медленно уходила от Сережи, унося обратно корзинку с чудесной едой.
Солдат-пехотинец, который сидел вместе с Сережей на гауптвахте, встревожился:
– Ты, Гамбург, идиот! Кто же это от колбасы отказывается.
Сережа согласился с ним и вернул мать.
– Что, Сереженька? – спросила она умоляюще.
Он не мог сразу заговорить о колбасе и нежно осведомился о ее здоровье:
– Как ты себя чувствуешь, мама?
Она охотно рассказывала, что сейчас чувствует себя ничего, а все лето, как она выразилась, «не вылезала из женских болезней».
В это время солдат-пехотинец обратил внимание, что, наверно, ей тяжело держать корзинку.
– Конечно, – сказала она, – все руки оттянула.
Пехотинец поспешно выслал часового, и тот освободил ее руки.
– Только вы мне корзиночку обратно, – попросила она.
– Это мы сейчас…
Сергея и солдата-пехотинца, попавшего на гарнизонную гаупвахту за то, что отказался ехать с маршевой ротой на фронт, отправили в тюрьму. Они шли по мостовой, охраняемые вооруженными солдатами. Сережа, надвинув на затылок папаху, чтоб его было лучше видно, бодро шагал и дымил папироской. Любопытные останавливались. Сереже очень хотелось встретить кого-нибудь из знакомых, но как назло никто не попадался.
В тюрьме им жилось гораздо лучше и веселей, чем на гауптвахте. Ребята все фронтовики, и все называли себя большевиками. В их камере было девятнадцать человек.
Сергей подружился с поручиком Зиминым. Это был обаятельнейший человек. Все в нем было симпатично: и то, что он слегка картавил, и зашитая наискось верхняя губа, и темно-серые небольшие глаза с искоркой, и вьющаяся борода табачного цвета. Все вещи Зимина носили отпечаток его обаяния: серая барашковая шапка, георгиевская ленточка на гимнастерке, закопченная трубка карельской березы. И даже деревянную ложку Зимина всегда можно было отличить от остальных восемнадцати таких же деревянных ложек. Она была особенная – зиминская ложка… К его вещам и к нему самому очень подходила фамилия Зимин. Он сидел в тюрьме четвертый месяц. За это время его ни разу не допрашивали. Зимин писал заявления, протестовал, объявлял голодовку, просил отправить его на фронт, но с ним никто не желал разговаривать.
– Я им гово’ю: у меня девять ’анений. Ге’ой! Гео’гий! А они, суки, – ноль внимания.
Зимин имел девять ранений. Его тело – карта боев на австрийском и германском фронтах. Губа – бой под Кошевицами, рана на ноге – Гнилая Липа, шея – Сморгонь, плечо – Стоход… У Зимина под кожей, немного выше левого соска, жила пулька…
После июльских боев (он тогда был ранен в плечо) Зимин сейчас же, как выписался из госпиталя, обратно вернулся в свою часть, но за распространение газеты «Окопная правда» его арестовали и отправили в тыл, в тюрьму. Зимин не читал ни «Коммунистического Манифеста», ни программы большевиков. В этом он честно признавался и говорил, что и так ему абсолютно все понятно. Сережа любил выражаться политическими терминами. Зимин же все противоречия капиталистического общества объяснял примерами из своих собственных наблюдений.
Когда заходил разговор о земле, Зимин рассказывал:
– В той местности, где я родился, жил помещик Гусаков. Сорок тысяч десятин. На всю окружность – весь покос гусаковский…
Его слушали внимательно и с интересом. Все то, что он рассказывал, было ощутимо правдоподобно. Слушателям становилось ясно так же, как и Зимину, что помещик несправедливо владеет землей и необходимо землю отнять у помещика…
– Учился со мной в реальном Витька Младенцев. У отца его бумагопрядильная фабрика. Небольшая фабричка… Около трехсот рабочих. И вот триста человек на них работало. А Витька с папашкой в клубе в карты играли и вместе по бабам бегали: у него отец был современный, либерал.
Всем становилось ясно, что старик Младенцев и его сын – совершеннейшие паразиты и необходимо немедленно отобрать у них фабрику…
Ну, а про войну и про офицерство лучше его никто не рассказывал.
– Был у нас полковник Жуков, Мирон Владимирович. Сука страшная. Но все-таки лучше других офицеров…
Зимин удивлялся, что еще надо кого-то агитировать за прекращение войны.
– Да это же так ясно!..
Он был убежден, что люди должны жить счастливо на земле, хотя он и плохо знал, как это произойдет…
– Жизнь человеческая короткая. Так дайте хоть пожить по-настоящему!.. У нас, в России, наверно, найдется миллионов пятьдесят, а то и больше, что ни разу сахар не кусали. И не знают, какой у него вкус!.. Ну, а про апельсины и говорить нечего… Вот тут девятнадцать человек – кто из вас ел апельсины? – спрашивал неожиданно Зимин. Выяснилось, что из девятнадцати человек ели апельсины только он да Гамбург.
Зимин умел рисовать смешные карикатуры и играть песни на ложках…
За время пребывания на гауптвахте и в тюрьме у Сережи выросла темно-коричневая бородка. Он побледнел, и котиковые глаза потускнели. До черта надоела затхлая камера, очень хотелось на волю. Каждый день все девятнадцать заключенных думали, что их вот-вот освободят. Они знали, что большевистская фракция неоднократно делала запрос в совете об их немедленном освобождении из тюрьмы, но все это было безрезультатно. И вдруг темным вечером открыли камеру и всех девятнадцать освободили. Грузовик их отвез прямо в Совет. Там происходило бурное многолюдное заседание. Когда в зал под предводительством Зимина вошли только что освобожденные из тюрьмы девятнадцать военных большевиков, раздались аплодисменты и пение «Интернационала». Но это было очень коротко, и вновь продолжалось бурное заседание.
Сережа нашел здесь Сергея Митрофановича. Сергей Митрофанович сидел на подоконнике и, совершенно охрипший, не мог говорить.
Выступал какой-то меньшевик, с клекотом в горле говорил:
– Мы вас предупреждаем, что если вы возьмете власть в свои руки, то это преступление не только перед русским рабочим классом, но и перед всем мировым пролетариатом. Это безумие! Мы вас предупреждаем от имени широкой демократии. Запомните!
– Хорошо, запомним! – кричали ему из зала.
Другой меньшевик, чернобородый, одноглазый и очень широкоплечий, с выговором на «о» говорил гораздо спокойней и закончил угрожающе:
– Если вы решитесь на восстание, то Викжель не даст вагонов, и гарнизон останется без хлеба. Солдаты, которые сегодня с вами, завтра же будут против вас.
К нему подскочил рабочий из вагоноремонтных мастерских Липанов, схватил чернобородого за шиворот и закричал:
– Вы слышали, товарищи солдаты, что сказала эта гадючка?
– Слышали, – ответили возмущенные голоса.
– Вы поняли, куда он гнет?
– Поняли. Долой его!
Невообразимый шум. Стучали стульями. Солдаты стучали прикладами винтовок. Меньшевики вопили: «Насилие! Позор!»
Разъяренный чернобородый отстранил рабочего из вагоноремонтных мастерских и, потрясая кулаками, закричал:
– Товарищи! Я одиннадцать лет сидел в царских тюрьмах. Эти руки были закованы. Мне жандармы выбили глаз, – крикнул он и стукнул кулаком по столу. Стало тихо. – А сейчас вы меня гоните, – произнес он тише. – Меня, который всю свою молодость, всю свою жизнь отдал рабочему классу. Габриэльсон! – обратился он к сидящему за столом секретарю комитета большевиков и потребовал: – Подтверди, ты вместе со мной сидел в Орловском централе.
– Правильно! – подскочил маленький быстроглазый Габриэльсон. – Я вместе с тобой сидел в Орловском централе и вместе с тобой был в ссылке в Акмолинске. Мы вместе с тобой боролись против царизма… А сейчас что ты предлагаешь? Товарищи рабочие и солдаты…
Габриэльсон разгорячился. Он налил из графина воды в стакан и долго не мог донести стакан до рта, так у него дрожали руки. А когда он стал жадно пить воду, чернобородый этим воспользовался и вновь продолжал:
– Мы, меньшевики, не допустим открыть ворота контрреволюции. За большевистскими спинами идут генералы и вешатели…
– Довольно! Хватит!
– Вы мне рот не заткнете!
– Долой!
– Меньшевики не подлаживаются к массам…
– Долой!
Солдаты стучали ногами и прикладами винтовок.
Заседание тянулось до трех часов ночи. Сережа и Зимин остались ночевать в совете. Кроме них, здесь ночевало еще много солдат.
На полу и подоконниках валялись патроны. К стенам прислонились винтовки. В углу на колесиках стоял пулемет.
Утром Сергей и Зимин мылись в бане. Постриглись, побрились, а бороды оставили.
– Так смешней, – сказал Зимин.
Нина очень обрадовалась Сереже и поцеловала его. Валерьян Владимирович также радостно приветствовал «узника» и нового товарища Сережи.
Вскоре Нине показалось, что она с Зиминым знакома уже много лет. Он играл на гитаре и пел песни. Изображал, как вчера в Совете выступали меньшевики. Рассказывал смешные истории про Сережу и нарисовал на него карикатуру. Нина долго разглядывала карикатуру и очень смеялась: до того похож был Сережа. Торчащие ушки сапог, собранная в горб шинель… Ну в точности – вся нелепая фигура Гамбурга.
– Талант! Честное слово, талант! – хвалил Валерьян Владимирович и ухмылялся.
На следующий день они пришли вместе с Сергеем Митрофановичем. Сергей и Зимин были вооружены. У каждого на ремне кобура с наганом. От кобуры Зимина спадал шоколадного цвета плетеный ремешок. А у Гамбурга от револьвера висел на шее красный артиллерийский шнур. Зимин притащил с собой мясные консервы и пиво. Сергей Митрофанович еще хрипел, и Нина приготовила ему гоголь-моголь. Они сидели недолго. Уходя, сказали, что они втроем занимают номер в гостинице «Париж», и обязательно просили Нину прийти к ним в гости:
– Мы либо в Совете, либо дома…
Папа говорил, что большевики не удержат власти. Самое правильное – это коалиция всех социалистических партий. Нина также думала, что самое правильное – коалиция социалистических партий.
В самом деле, это очень просто: все социалисты хотят социализма и чтоб было хорошо на свете.
Из Петрограда не приходили газеты. Говорили, что там идет бой, что большевистские вожди, ограбив казначейство, бежали за границу. Потом пришла газета «День», но она сейчас называлась «Ночь».
В гимназии гимназистки и учителя все ругали большевиков. Из тюрьмы бежали уголовные. Они ночью врывались в квартиры и грабили, но говорили, что это грабят не уголовные, а большевики…
Несколько дней не приходили ни Сергей Митрофанович, ни Сережа, ни Зимин. Нина пошла в Совет. Ее с трудом туда пропустили. В Совете было накурено, грязно, входили и уходили солдаты. Неистово хлопала дверь. В коридоре Нина встретила Сережу и спросила у него, почему он не приходил. Сергей смотрел на нее удивленными глазами, но будто ее не замечал, и ответил рассеянно:
– А так.
Появился Зимин. Он приветливо улыбнулся Нине и с усмешкой сказал Сереже:
– Иди, тебя зовут.
– Одну минуточку, – заметил Сережа и исчез.
Через несколько минут открылась та же дверь, куда исчез Сережа, и позвали Зимина. Он попросил Нину обождать в коридоре и сказал, что они с Сергеем сейчас выйдут и все вместе пойдут обедать.
Нина прождала у двери с надписью «военная секция» больше часа. Она читала надпись «военная секция» наоборот и придумывала производные из слова «военная»: Ванна, Вена, Анна, Венок. «Откуда „к“?»
Ни Сережа, ни Зимин не выходили из комнаты. Нина рассердилась и ушла домой.
А Сергею в военной секции было жарко. Дело в том, что все части гарнизона прислали в Совет своих делегатов, за исключением артиллерийского дивизиона. Артиллерийский дивизион, отправив на фронт малонадежных солдат, «зараженных большевизмом», теперь держался «нейтралитета». Спрашивали у Сергея, где расположены орудия. Он не знал. Просили его начертить план расположения дивизиона. Он отказался. Сказал, что не умеет чертить. «Ну как-нибудь», – попросили его. И он такое начертил, что все засмеялись.
Сергей Митрофанович рассердился, закашлялся и злобно сказал:
– Вы ведь кончили учебную команду, черт возьми! Чему же вы там учились! К чему вы там готовились?.. Вот Андрей Слухач, о котором вы так много мне говорили, небось все знает. Он и из пушки будет стрелять, а вы… – и Сергей Митрофанович посмотрел на Сережу с отвращением и добавил: – Шляпа!
А рабочий из вагоноремонтных мастерских, внимательно разглядывая Гамбурга, заметил:
– Эх ты, голова с хвостом!
Это всех рассмешило, а Сережа, красный, выбежал из комнаты. В этот момент он и встретил в коридоре Нину…
Нина проснулась ночью и подумала, что гроза и стучит дождь по крыше. Электричество не горело. Папа зажег свечу. Ударил гром.
– Это пушка, – сказал тихо папа.
С шумом проехали мотоциклетки.
– Это пулемет, – объяснил папа.
Нина, накинув на себя одеяло, подошла к окну. Темно и тревожно. Вспыхивали молнии. Отчетливо три раза выстрелило орудие. Послышались далекие крики. При каждом выстреле Нина вздрагивала. Дрожь пробегала по черному стеклу.
– Отойди от окна, Нина.
Папа все время шагал по комнате. Она заснула, когда все стихло, и не слышала, как ушел на службу папа и как ушла в булочную Дарья. Неожиданно открыла глаза и увидела бледного Сергея Митрофановича.
– Сережу убили, – сказал он как-то безразлично, прямо в пальто и грязных штиблетах лег на диван и заснул.
Она не поверила:
– Сергей Митрофанович! Сергей Митрофанович! Это правда?
Но Сергей Митрофанович спал, в груди у него хрипело, будто там пилили бревна, и она ничего не могла от него добиться…
Когда хоронили убитых, падал снег. Первый снег. Густой, обильный, пушистый снег. Нина крепко держала под руку папу. Тут же стоял и Сергей Митрофанович. Медленно опускали красные гробы в братскую могилу. Музыканты стряхивали снег с медных инструментов. Нагнули траурные знамена. Дали залп. Вот и Сережин гроб. На бороде снег.
– Осторожней, товарищи, осторожней!
Гроб опускали на веревках. Музыканты играли похоронный марш Шопена…
В Учредительное собрание папа голосовал за большевистский список. После же разгона Учредительного собрания он возмущался:
– Нет, нет! Этого нельзя было делать. Ни в коем случае! Я не согласен… Нет, нет… Учредительное собрание – святая святых!
Сергей Митрофанович иногда приходил ночью. Усталый, он теперь сильнее кашлял и неохотно спорил с Валерьяном Владимировичем. Он лежал на диване и говорил:
– У вас единственное место, где можно отдохнуть.
Сергей Митрофанович расспрашивал Нину, о чем говорят в городе. Она передавала ему все сплетни и все слухи. Сергей Митрофанович рассказал, что к нему в финансовую комиссию пришел отец Сережи и просил сбавить контрибуцию, так как его сына убили на стороне красных.
– Спекулянты! – заметил Сергей Митрофанович. – Они и на этом деле хотят подработать.
В гимназии не топили. Прекратились занятия.
Папа работал в отделе народного образования и всегда возвращался домой расстроенный. Он жаловался на некультурность и вековую российскую темноту, которую ничем не пробьешь. Нина решила поступить на службу. Она об этом сказала Сергею Митрофановичу.
– С удовольствием, – ответил он. – Ведь совершенно нет никого. Чинушки все саботируют… Вот хотите? Интересное дело: организовался жилищный отдел. Там будут у буржуев отбирать квартиры и вселять рабочих.
Она согласилась, и Сергей Митрофанович написал ей рекомендательную записку.
Председатель жилищной секции, рабочий вагоноремонтных мастерских товарищ Липанов обрадовался Нине.
– А то ведь ничего этого я не знаю… Мне говорят: «Наложи резолюцию», а я и слово такое первый раз слышу.
Он объяснил Нине, что пока в жилищном отделе они только вдвоем, но, возможно, ему удастся подыскать третьего. Липанов передал ей канцелярские книги, карандаши и чернила. Нине все это приходилось таскать домой, так как жилищная секция не располагала отдельной комнатой и столом, куда бы можно было запереть канцелярские принадлежности. Печать Липанов держал у себя в кармане. Когда ему приходилось ставить печать, он на нее долго и как-то особенно бережно дышал.
Однажды Нина вместе с Липановым поехала в рабочий район. Они обходили дома, и Липанов уговаривал рабочих переезжать в буржуйские квартиры.
– Запишитесь, мы быстро вас переселим.
Но никто не записывался. Особенно возражали женщины и старики рабочие.
– Кто еще знает, как оно выйдет, – говорили они. Некоторые согласились бы, но в центре жить – далеко будет ездить на фабрику. «Где-нибудь поближе – еще можно было бы».
Липанов с каждым говорил в отдельности.
– У вас тут сыро, – он хлопал рукой по стене. – Течет. Глядите: вот течет. Темно. Тесно. Водопровода нет… Сколько тут у вас человек в комнате?
– Восемь.
– А там в восьми комнатах живут втроем. Ванная. Мыться можно. Окна большие. Сухо… Хватит рабочему брату жить по-собачьи. Буржуйские дома нами же, рабочими, построены. Верно?
– Это верно.
– Так вот их сюда, а вас туда. Советская власть желает добра рабочим. Записывайтесь, и завтра же мы вас вселим. Заживете по-новому, никто вас не посмеет выселить…
– Это еще рано загадывать… Посмотрим…
Никто не записывался. Они ни с чем ушли обратно. В трамвае Липанов с огорчением сказал:
– Консервативен еще наш народ.
Он всю дорогу молчал, и только когда дошли до Совета и подымались по лестнице, энергичней продолжил:
– Ух, и консервативен!
Жена директора гимназии Зинаида Саввична пришла к Валерьяну Владимировичу. Вчера ночью у них был обыск и арестовали ее мужа – Аркадия Петровича. Она, гордая, сидела в кресле не сгибаясь, и немолодые ее коленкоровые щеки свисали, как бакенбарды. Доставала одеколон из шелковой сумочки, мочила платок и прикладывала к вискам. Она не просила, а требовала, чтоб Валерьян Владимирович немедленно принял все меры к освобождению директора.
– Ведь вы у них работаете… И потом, как его… этот… ваш приятель… Сергей Митрофанович, – выговорила она с брезгливостью.
Валерьян Владимирович сказал, что отлично знает Аркадия Петровича. «Это честнейший и благороднейший человек». И он, Валерьян Владимирович, конечно, все зависящее от него сделает, потому что нелепо держать старика в тюрьме. Он успокоил Зинаиду Саввичну.








