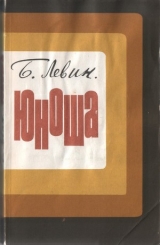
Текст книги "Юноша"
Автор книги: Борис Левин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 20 страниц)
«Хронята. Уроды», – думала она о них со злобой. Она им не завидовала, что они тепло одеты, хорошо едят и живут в светлых комнатах. Это тоже, конечно, несправедливо, но не главное. Главное – другое. Что именно другое, она не знала. Но подозревала – ложь, лицемерие, подлость и неотмщенные унижения.
Нина часто вспоминала Сергея Митрофановича и Сережу Гамбурга. Только теперь ей по-настоящему стало понятно то, что они тогда говорили о старом и новом мире. Она огорчалась, что так мало знает, ничем не может быть полезной рабочим. К ней обращались с вопросами, а она не могла ответить.
Весна пришла ветрами, темными тучами, сыпняком и гриппом. Всю ночь лил дождь. Утром Нина стояла на берегу, наблюдала, как плывут льдины. На льдинах отдыхали вороны. Кружась, уплыл каток со скамейками и почерневшими елками.
В тюрьме свирепствовал тиф. Запретили свидания. Нина ежедневно ходила туда, но ей никаких справок не давали. Она боялась, чтобы папа не умер.
Все чаще и чаще говорили, что красные близко. Кто-то даже уверял, что слышал на рассвете орудийную пальбу. На вокзале очередь за билетами. Уезжали буржуи. Нина, услыхав про это, специально пошла на вокзал, – действительно, буржуи уезжали. Она рано ложилась спать, чтобы скорей прошла ночь и наступило утро. Каждый день она ждала, что завтра произойдет самое важное.
И вот ночью, когда она еще не заснула, раздался сильный стук в окно и тревожный женский голос:
– Нинка, иди скорей! Их повели на баржу!
Нина на босу ногу надела ботинки и выбежала на улицу. Она бежала вместе с другими. Ночь темная, ветер разматывал платок. Впереди гул, ржание коней, окрики и чей-то плач.
Она обогнала верховых и закричала:
– Папа!
Из уходящего черного гула вырвался четкий папин голос:
– Ни-ина!
Расталкивая людей, совершенно обезумев, она мчалась на этот родной, дорогой ей голос.
– Папа!
– Нина! – услыхала она почти рядом.
Еще немножечко, и она догнала бы отца, но тут выросли перед ней лошади и солдаты с винтовками. Она кинулась вправо, она кинулась влево.
– Папа!
– Нина! – удаляющийся папин голос.
Она – вправо, она – влево, но солдаты не пропускали, верховые нагайками разгоняли толпу.
– Па-па-а!
Ответа не последовало…
Она не выходила из комнаты. Все время, свернувшись, лежала в уголочке на сундуке. У нее опухли глаза. Она плохо соображала, что происходит. Однажды, в туманное апрельское утро, Говоркова предложила Нине пойти с ней встречать Красную Армию.
В конце улицы, у колодца, собрались рабочие и высоко подняли весло с красным флагом. Бледные дети в одежде взрослых. Женщины, худо одетые, с измученными лицами. Все стояли молча.
Ехала красная кавалерия. Командир приподнялся на стременах и скомандовал:
– Смир-р-но! Равнение налево!
Суровые лица, в невиданных доселе шлемах с красными звездами глянули в сторону, где стояли рабочие, их жены и дети. Стояли безмолвно. У многих текли слезы. Вздрагивало весло с красным флагом.
– Смирно! Равнение налево!
Проходил второй полк. Нина шепотом читала надпись на знаменах: «Путь к старому – через наши трупы». «Пусть господствующие классы содрогаются».
А когда проходил третий полк, то командир, в черной бурке и кубанке с зеленым верхом, придержал коня и приказал:
– Взять детей!
Кавалеристы протянули руки. Рабочие со смехом подавали им детей в маминых кофтах… Ребята торжествовали…
Товарищи! Я тоже с Красной Армией входил в города. Нас тоже встречали рабочие, их жены и дети. Мне было тогда двадцать лет. В полевой сумке лежал «Коммунистический Манифест»…
У Нины сжимало горло. Текли слезы. Она их не вытирала. Пусть текут. Хотелось обнять каждого бойца, пожать руку командира и погладить лошадь. Шла пехота. Ветер трепал знамена. Пели песни.
Чудный сад рассажу на Кубани,
В том саду будет петь соловей.
«Кубань – это весь мир! Вся земля, где будет этот чудный сад».
Вечером на улице встретила Зимина. Он обнял Нину и поцеловал. У него еще больше выросла борода. Он выглядел серьезней. Нина рассказала ему, как умирал Сергей Митрофанович, как арестовали папу и как за два дня до прихода Красной Армии папу и других заключенных погрузили на баржу и утопили.
Зимин слушал и все время ругался:
– А, сволочи! А, сволочи!
Нина только сейчас, при встрече с Зиминым, почувствовала всю тяжесть пережитого и необычайную усталость. Она во всем доверилась Зимину. Он привел ее в политотдел Н-ской дивизии и познакомил с начальником подива Ильей Левашевым. Это был высокий человек, в очках, с лицом римлянина, он чем-то напомнил Сергея Гамбурга, хотя был гораздо шире Сережи и толще. Он долго и ласково беседовал с Ниной. Нину зачислили в резерв экспедиции при политотделе дивизии.
Когда она прочла приказ о том, что Н. Дорожкина зачисляется на все виды довольствия с такого-то числа и когда ей выдали шинель, шлем с красной звездой и кожаную безрукавку, Нина подумала, что вот и наступило то самое главное.
Ночью прицепили к эшелону паровоз и вагон-теплушка, где сидела Нина со своими новыми товарищами, дрогнул и покатился. Она покидала город, где прошли детство, гимназия, первая любовь. И нисколько об этом не пожалела…
Нина развозила газеты прямо в окопы. У них для этого имелся специальный фургон и своя лошадь. Она вступила в комсомол, грузила дрова на субботниках и посещала дивизионную партийную школу.
Левашева в политотделе все любили и звали «батькой». Нина вначале его боялась, а потом привыкла и звала «Илюшей».
Когда он хворал тифом, она ходила в госпиталь и носила ему простоквашу в таких глиняных горшочках.
Потом они жили коммуной: Левашев, его помощник Икорников и инструктор подива Дембо. Каждый день они назначали дежурного, который обязан был подметать комнату.
Левашеву реввоенсовет прислал в подарок кожаную куртку. Он подарил ее Нине. Иногда к ним приезжал Зимин и оставался ночевать. Он всегда привозил какую-нибудь еду.
– Ну как? – спрашивал он Нину. – Тебя тут не обижают?
– Ее обидишь! – отвечал самый неряшливый житель коммуны, инструктор Дембо. – По три раза заставляет подметать комнату.
– То-то, – говорил Зимин. – А кто Нину обидит, живо изуродую. – И он рисовал на всех карикатуры.
В свободные вечера в коммуну приходили и остальные работники подива. Ужинали, ели воблу, макали черный хлеб в подсолнечное масло и говорили о мировой революции.
Левашева назначили председателем армейского трибунала. В числе трех других сотрудников подива он взял с собой и Нину.
В трибунале она работала секретарем коллегии. И опять жили коммуной.
На объединенной ячейке коммунистов трибунала особого отдела Нина прочла доклад «О роли мелкой буржуазии в революции» – первый доклад в жизни. Она к нему усиленно и много готовилась. Это был взволнованный, немного наивный, но очень искренний доклад. Ей возражали, в том числе и Левашев, – она недооценивала роли мелкой буржуазии в революции.
В эту ночь дольше обыкновенного шли в коммуне споры. Давно уж был решен вопрос о роли мелкой буржуазии в революции. Говорили и спорили, перескакивая с одной темы на другую. Лучше и понятней всех говорил Левашев. Вообще-то его ораторские способности незначительны, но сегодня он был в ударе. В бязевой нижней рубахе, в зеленых обмотках, с лицом римлянина, поблескивая очками, он говорил о том, что буржуазия отняла у пролетариата не только материальные блага: одежду, вкусную еду, жилище, но и чувства.
– Они захватили нежность, любовь, искусство. Себе взяли Бетховена, а пролетариату дали «Во саду ли, в огороде». Себе – Рафаэля, себе – Шекспира, а пролетариату – лубочные картинки и «Шельменко-денщик». Они поступили примерно так – мне пианино, а тебе балалайку. Все это надо вернуть! Любовь… нежность…
– Да, да, – подтверждала горячо Нина. – Это верно. Это очень верно, Илюша.
Кто-то заметил:
– Но зато у пролетариата – ненависть и ярость.
– Буржуазия покушается и на ненависть и на ярость, – продолжал Левашев. – Они хотят отнять у пролетариата и это. Им помогают меньшевики. Они причесывают ненависть и тушат ярость. Вот кто! Меньшевики! Они страшней и подлей белогвардейцев…
Нина радовалась, что она коммунистка и что у нее такие хорошие и умные товарищи. Долго не могла заснуть. Вспоминала папу, Сергея Митрофановича и Сережу. Она подумала, что они все были бы довольны ею. И еще она подумала о том, что людей можно разбить на отряды. Отряд Левашевых. Сюда, пожалуй, входит и Сережа Гамбург. Отряд Сергеев Митрофановичей. Отряд людей вроде папы. Отряд Синеоковых. «И, наверно, есть такие, как и я. Безусловно есть», – решила Нина.
Левашев уехал в Москву на съезд председателей армейских трибуналов и не вернулся. Он остался там учиться. Новый председатель трибунала ни за что не хотел отпустить Нину в Москву.
– А кто будет работать? Я сам уехал бы.
Он был по-своему прав: в это время все стремились демобилизоваться и уехать в Москву или еще куда-нибудь учиться.
Свободного времени стало больше. В трибунале разбирались дела помельче. На скамье подсудимых сидели каптенармусы.
Нине понравился комендант трибунала Остасько. Высокий, он носил красное галифе и золотистую жеребячью куртку с вороной гривкой на спине. Он пользовался успехом у женщин, откровенно рассказывал Нине о своих многочисленных победах. Во всех городах и селах, где пришлось побывать Остасько, он покорял женские сердца: на южном фронте, на восточном и особенно на польском. К Нине, как он говорил, у него подход совсем другой. Он предложил ей зарегистрироваться. И первую же ночь Остасько почувствовал себя глубоко оскорбленным. Он ревел и упрекал Нину почему-то в неблагодарности и в том, что она «растоптала его любовь». Нину смешило и удивляло такое поведение. Она попросила Остасько немедленно уйти и оставить ее в покое.
О своем неудачном замужестве она написала юмористическое письмо Левашеву. Левашев часто писал ей письма и звал в Москву. И однажды Нина уехала в Москву.
Ее встретил Илюша. Она поселилась у него в комнате, в Замоскворечье.
Левашев написал книгу «Записки военкома». Книга пользовалась большим успехом. Это была одна из первых книг о Красной Армии.
Левашев объяснился Нине в любви.
Нина смутилась.
– Ты знаешь, я никак не могу себя представить твоей женой. Ты мне – как брат, – добавила она серьезно.
Левашев помрачнел. Потом долго говорил о том, что вторую книгу он напишет о любви, и очень хвалился:
– Это будет замечательная книга! Это будет такая книга!.. А ты знаешь, Нина, – сказал он вдруг тише, – сколько я пережил, когда получил твое письмо про Остасько? Ведь я в тебя был давным-давно влюблен, но не смел об этом говорить.
Нина переехала в университетское общежитие, на Волхонку. Она училась на факультете общественных наук. У Левашева она познакомилась с Владыкиным. Он тоже, побывав на фронтах, недавно демобилизовался из армии. Владыкин учился в Художественном институте на живописном отделении.
Ему очень понравилась Нина. Не было дня, чтобы он не бывал у нее на Волхонке или в университете. Нина относилась к Владыкину равнодушно, но когда он предложил ей переехать к нему (у него была отдельная комната), она согласилась. Ее подкупала непосредственная большая любовь Владыкина к ней. А главное, она считала Владыкина сильным человеком.
Нина настояла: он бросил рисовать диаграммы для учреждений, плакаты для кино и мелкие рисунки для еженедельных журналов и начал писать картину, о которой так много говорил в начале их знакомства. Он Нину слушался и много работал. Часто брали сомнения. Не верилось в собственные силы. Уныние и слабость овладевали им. Он охотно вернулся бы к диаграммам, посредственным плакатам и мелким рисункам. Спокойней и прибыльней. А голодать трудно. И еще огорчало, что Нина худо одета и ходит в стоптанных туфельках. Нина презирала слабость. Она требовала, чтоб Владыкин весь свой талант, все свое умение отдал настоящему, искусству. Это вдохновляло его, и он с большим рвением брался за свою будущую картину.
Прекрасно работается, когда рядом любимый друг помогает мыслить и верит в тебя.
Счастье!
Через год он закончил картину и стал известным художником. Но к этому времени Нина и Владыкин жили менее счастливо.
4
После посещения Владыкиных Миша был уверен, что Нина непременно на следующий день придет смотреть его картины. Он ждал ее два дня. Уходя в столовую, предупреждал швейцара, что сейчас вернется. Наспех пообедав, спешил обратно.
– Меня кто-нибудь спрашивал?
– Вас никто не спрашивал.
Хмурый, он ходил по комнате и злился.
«Почему она не идет? Ведь твердо договорились».
Прислушивался к шагам в коридоре: думал, вот-вот постучит в дверь и войдет Нина.
«Здравствуйте», – скажет она, как тогда, и кивнет каштановой головой. Миша ее встретит сурово. «Нет. Я ее встречу как долгожданного товарища. Мне она нравится. Я хочу с ней дружить. Она посмотрит мои работы…» – «В ваших картинах много мыслей». – «Да? Это самый приятный комплимент. Искусство без мыслей – убого. Вино без алкоголя». – «Очень талантливо. Ни на кого не похоже». – «Я к этому стремлюсь. Все то, что перед вами, – это пройденный этап, Нина. Это только въезд в страну моего творчества…» Надо проще выражаться. Опять эта «сентябрьская медь»…
– Но почему она не идет, черт возьми! – воскликнул Миша. – Не могу же я ждать ее вечно!
Нина не приходила и не звонила.
Вечером вдруг стало определенно, что он ожидает зря.
«Ты идеалист, Миша: еще веришь, что в этом мире кто-то кем-то интересуется. Всегдашняя твоя близорукость. Сверни холсты, спрячь рисунки и успокойся. Никто к тебе не придет, и никому ты не нужен, пока живешь в неизвестности. Идеалист – ищешь дружбы! Больше твердости и равнодушия… Мадам Владыкина не соизволила прийти. Я не нуждаюсь в вашем мнении, товарищи Владыкины».
Миша нервно докурил папиросу и стал убирать картины, решив с завтрашнего дня «завоевать Москву», как он выразился иронически.
В это время тихо приоткрылась дверь и скрипучий голос спросил:
– Можно войти?
Не дожидаясь ответа, в комнату вошел человек слишком высокого роста и тонкий, как единица. Удлиненный череп его казался отраженным в самоваре. Человек стоял посредине комнаты, черными глазами удивленно смотрел на Мишу и на картины.
– А где Праскухин? – проскрипел он, выдавливая слова.
– Уехал в Ковно, – ответил неприветливо Миша. – Вам что угодно?
– Мне? Папиросы. Я без курева не могу работать, – произнес он печально.
Миша предложил папиросы.
– Можно взять штук пяток?
– Берите.
– Завтра верну. Мы с вами живем в одном коридоре. Значит, Праскухин уехал, – сказал он и сел в кресло, вытянув далеко вперед ноги. – Выкурю и пойду. Я не мешаю?
– Нет.
Миша продолжал убирать свои работы, развешанные им специально для Нины.
– А как вы попали к Праскухину?
– Я его племянник, – с ухмылкой ответил Миша, не оборачиваясь. – Он на время своего отъезда уступил мне комнату.
– Вы художник? Приехали в Москву за славой?
– Да. За славой, – вызывающе подтвердил Миша, подошел к столу и тоже закурил.
– Трудно вам будет. Очень трудно, – продолжал черноглазый. – Славу еще в начале нэпа распределили между собой художники. К реконструктивному периоду ничего не осталось в магазине. На полках пусто. Одно желудевое кофе… Вот еще у кинорежиссеров кое-что урвать можно или у баритонов.
– Всюду урвать можно при наличии таланта, – сказал Миша, нажимая на слово «таланта».
– Все это условно. Славу можно урвать и без таланта. В зависимости от сцепления обстоятельств. Есть бесчисленные примеры, начиная от первоначального накопления и до наших дней.
– Я в такой славе не нуждаюсь, – резко заметил Миша.
– Ого, вы с гонором. Это хорошо. Разрешите посмотреть ваши опусы, штрихи, наброски, зарисовки, этюды и новеллы.
Миша не хотел показывать, но тот сам подошел к холстам, стал разглядывать их и нюхать. Затем взял папку с рисунками и с ними проделал то же самое.
– Интересно. Очень интересно, – похвалил он. – Честное слово. А я думал: опять индустриальные мотивчики, большой рабочий и маленький капиталист, или в лучшем случае – как разлагается буржуазия в Европе… А это совсем новое. Свежее. Очень интересно, – говорил он и как-то по-иному рассматривал Мишу.
– По этому случаю выкурю еще одну папироску и пойду… Вы очень интересный художник. Серьезно. Умный. Это так редко среди художников и теноров.
Михаил сразу подобрел. Он всегда добрел, когда его хвалили.
– А вы где работаете? – спросил Миша участливо.
Тот рассказал, что он журналист. Его псевдоним – Пингвин.
– Печатаюсь в повременной печати. «Постояный сотрудник повременной печати… Одно время часто подвизался в повременной печати» – так раньше писали после смерти какого-нибудь мелкого литератора. Обо мне и этого не напишут.
Он участник гражданской войны. В двадцать втором году демобилизовался и остался в Москве. Вначале служил в каком-то тресте, но это ему надоело. Неожиданно у него напечатали фельетон, с тех пор он бросил службу, стал сотрудничать в журнальчиках и в некоторых профсоюзных газетках. Это ему дает возможность совершенно независимо располагать своим временем, читать книги и просто ничего не делать.
– А ничего нет лучше, как валяться на кровати, курить и читать книги.
Его исключили из партии еще в двадцать третьем году за организацию общества любителей военного коммунизма, за неуплату в течение года членских взносов и за категорическое нежелание вести общественную работу. Сейчас он чувствует себя прекрасно.
– Я всегда говорил, что беспартийным лучше, чем партийным.
Денег ему вполне хватает. Все равно их тратить некуда. Единственно, что покупает, – это книги и папиросы. Кроме того, книги он еще ворует у своих приятелей. У него в Москве много товарищей, с которыми он вместе был на фронте. Изредка он делает им обход, чтоб не оторваться от жизни, из любопытства, а также за новыми книжицами. Приятели не обижаются, только просят не брать изданий «Академии», в роскошных переплетах. Среди их жен попадаются на редкость глупые экземпляры. Разговаривать с ними большое удовольствие. Товарищи к нему относятся хорошо. Он им не завидует, не интригует и ни о чем не просит. Всегда расскажет свежий анекдот.
– Они меня считают свободомыслящим чудаком. Это им нравится. Я для них вроде сои «кабуль».
Два года тому назад он развелся с женой, сейчас живет один. Гораздо удобней. Его жена – химик, работает в заводской лаборатории.
– Она вполне приличный экземпляр. Мы жили шесть лет, – как и многие, совершенно не любя друг друга. Жили по привычке, по инерции. Ничего жили. Не ссорились. Могли бы так жить и еще двадцать лет. Все это случайно вышло… Она иногда приходит ко мне и остается ночевать, втайне от мужа. По-моему, сейчас мы гораздо сознательней относимся друг к другу, а потому и счастливей.
В общем он доволен своей жизнью, тем более что осталось жить недолго. Ему больше тридцати, скоро постучится костлявая. Он ее охотно встретит. Ему кажется, что он живет с начала каменного века.
– Примерно с эолита. Заря камня.
– У меня такое же чувство, – сказал Миша. – Мне тоже кажется, что я живу очень давно.
Из дальнейшего разговора выяснилось, что Пингвин весной ездил в Белоруссию и был на родине Михаила. Его туда командировала «одна газетка».
– Думал написать ряд очерков. «В поисках нового быта…» Я там встретил любопытный экземпляр. Американец-еврей, уроженец вашего города, разбогатев в Нью-Йорке, спустя двадцать лет приехал к родным пенатам за старым бытом. Он искал розовую невесту, гусиные шкварки и стопроцентного раввина. Но раввин там… Вы знаете эту историю?
– Да. Знаю.
– Бред. Совершеннейший бред. – Пингвин качал длинной головой. – Американец не нашел старого быта, а я не нашел нового. До сих пор отрабатываю аванс… Но смешней всего, что любовница раввина – сейчас жена моего товарища, заведующего культурным отделом той самой газеты, от которой я ездил в ваши края.
– Таня? – удивился Миша и покраснел.
– Вы ее знаете? Как тесно на этой планете! Бред. Совершеннейший бред. Увижу – передам привет. Я у них бываю. Некогда, а то бы я вам рассказал всю эту одиссею. Таня – ничего себе экземпляр, – сказал он задумчиво, почесывая мизинцем краешек заостренного подбородка.
Большие черные глаза его смотрели грустно и неподвижно.
Уходя, Пингвин заметил:
– Хорошо, что Праскухин уехал. Буду чаще к вам заглядывать. Праскухина я побаивался. Серьезно, – произнес он искренне.
Миша улыбнулся. Он это понимал: сам немного побаивался Александра Викторовича.
– Почему?
– Сух очень. Смотрит на меня с презрением. Хотя папиросы одалживает и чаем угощает, но, наверное, давно меня зачислил в размагниченные интеллигенты.
Пингвин криво улыбнулся, продолжал медленно и так же скрипуче:
– В его присутствии себя чувствую будто на чистке. Вот-вот начнет задавать вопросы и попросит рассказать биографию. Твердолобый он. Без лирики, без фантазии, без юмора. Скучновато. Человек новой формации. Сух. Очень сух.
– Это есть, – бойко согласился с ним Миша. – Но он парень ничего, – добавил Михаил снисходительно, с чувством собственного превосходства.
Пингвин оставил после себя на столе кучку окурков и сломанных спичек. У него была привычка во время разговора ломать спички. Миша все это убрал и открыл и окно.
Дождь, рев автомобилей, и желтый свет фонарей. Зажег газовую колонку. На ночь примет ванну. Хорошо, что есть ванна. Завтра встанет в шесть часов, так же как дома, и за работу.
«Главное – войти в колею и работать. Два дня потратил на ожидание этой Нины. Обидно. Но ничего не поделаешь. Наука. Надо встретиться с Таней. Наверно, у нее есть телефон. Спрошу у Пингвина. Завтра понесу рисунки в редакцию. Возьмут – отлично. Получу деньги. Куплю книги, краски. И такие ботинки, как у Владыкина: высокие, на шнурках. У них толстая подошва – можно ходить без калош. Это удобно. Главное – войти в колею и работать. А там видно будет».
Когда Миша собрался принять ванну, кто-то постучал в дверь. Он открыл. Перед ним стоял военный в кожаном пальто и в шлеме, похожий на древнего богатыря.
Военный спросил Праскухина и очень огорчился, узнав, что того нет в Москве.
– Экая досада! Знал бы – не делал пересадки, ехал бы прямо в часть.
Он возвращался из отпуска, специально сделал круг, чтобы заехать в Москву – поглядеть Сашу. Не видал его тысячу лет. С уральского фронта.
– Экая досада!
Миша предложил ему остаться ночевать. Он к Красной Армии относился с большой любовью. По голубым петлицам гостя Михаил определил его принадлежность к авиации; этот род оружия Миша особенно уважал.
Приезжий, не выпуская из рук чемоданчика, попрощался было и попросил Мишу, ежели будет писать Праскухину, черкнуть, что заходил Черноваров.
– Оставайтесь. Куда вы пойдете ночью, в дождь? – сердечно предлагал Миша.
– А то в самом деле разве остаться? – нерешительно произнес Черноваров и поставил в уголок чемоданчик.
– Вот и хорошо, – одобрил Миша. – Я только приму ванну, и тогда поужинаем.
Гость при упоминании о ванне оживился и немедленно выразил желание тоже купаться. Он сразу повеселел.
– Шикарно! Я третьи сутки в дороге, а еще двое ехать.
Он достал белье, вафельное полотенце, мыло. Стянул сапоги. Надел тапочки, они лежали в чемодане, завернутые в газету.
– Вода горячая?
– Горячая! – кричал Миша из ванной комнаты.
Миша давно помылся, теперь ждал Черноварова, чтобы вместе ужинать. Наконец тот вышел из ванной. Лицо его отливало медью. Из расстегнутого ворота белой рубахи розовело тело. Глубоко вдавленные карие глазки поблескивали. От него шел дух печеного хлеба.
– Шикарно, – сказал он, подкручивая усы, гребенкой причесывая короткие светлые волосы.
Вынул из чемодана полголовки голландского сыра и кисть синего винограда. Все это он положил на стол, попросил у Миши тарелку и тонкими ломтиками нарезал сыр. Чай был крепкий, такого же цвета, как шея гостя.
– Все хорошо, – сказал Черноваров, придвинув к себе стакан, – только не хватает Александра… Но что же поделаешь, еще встретимся!.. А я ему сухумского табачка… Ох, он и любитель покурить… Вот бы шикарно – сиди тут за столом Саша.
Черноваров пил чай медленно. Сворачивал цигарки. Продувал черешневый мундштучок. Говорил он отрывисто.
– С Праскухиным встретился в девятнадцатом году. На Урале. Вначале он мне показался так это… человек невидный. С холодком и гордоватый… Но вскоре я понял, что это за человек.
А что Черноваров понял, для Миши осталось непонятным. Он думал услышать о подвигах дяди и необычайных сражениях. Но Черноваров рассказывал о Праскухине обыкновенные вещи. В месяц смог обмундировать бригаду. Раздобыл походные кухни. Организовал оружейную мастерскую. У других не было, а в их бригаде была оружейная мастерская. В их бригаде ни одна лошадь не болела чесоткой, потому что Александр заранее позаботился о зеленом мыле.
Миша расспрашивал о сражениях. Черноваров неохотно и с таким видом, будто, мол, излишне говорить, так как это всем известно, мельком заметил, что бои были страшные.
С большим оживлением рассказал совершеннейший пустяк с точки зрения Миши. Осенью, ночью, он и Праскухин поехали на передовые позиции проверять посты. Темно. Ни черта не видать. Протянешь руку – руки не видать. Заблудились. Думали, попали к белым. Рассвело, оказалось, что они у себя в тылу, у обозников.
– Ну и сдрейфили мы той ночкой темной. Главное – уехали и никому не перепоручили бригаду. Никого не предупредили. Точно мальчишки.
Когда Черноваров упомянул о том, как Праскухин искоренял в бригаде партизанщину, как он их высмеивал перед бойцами и снимал с них глянец, то Миша сочувствовал вовсе не дяде, а партизанщине. Он искренне жалел командира с рыжими баками, в поповской шубе, в красном галифе с серебряными лампасами, который разъезжал в помещичьем фаэтоне, запряженном четверкой гнедых кобылиц. Как грустно! Фаэтон приказали сдать в губтранспорт, кобылицы пошли на конский завод, а командира послали в партшколу.
Восторги гостя Миша плохо воспринимал.
– Александр многому научил! Это мне и в авиации и на всю жизнь пригодилось. Сердечность отношений. Подход к людям.
Уж гораздо интересней было все то, что рассказывал Черноваров о себе. В империалистическую войну его контузили. До этого работал в Питере булочником-кондитером. Одну зиму даже ходил в котелке, бумажной манишке и пальто с воротником шалью. Вспомнить смешно. В семнадцатом, после контузии, выписался из госпиталя и пошел драться с Керенским под Гатчиной. Ленина много раз видал.
– Какой он? – спрашивал Миша.
– Такой, самый обыкновенный. Не зная его, не обратишь внимания.
– А все-таки, какой же он?
– Ну, самый обыкновенный… Под Гатчиной тяжело досталось. Надо наступать. Да как наступать против своих же? Вместе в окопах гнили… Это хорошо было Ленину рассуждать: он тогда понимал, что мы сейчас на деле видим. А каково нашему брату! Когда лишь в Октябрьскую открылись глаза. Ведь, по сути, мы с семнадцатого только начали жить. Мне за сорок, а я так себя чувствую, будто мне двадцать, ну, двадцать пять от силы! – и он энергично тряхнул плечами.
Черноваров присутствовал при разгоне Учредительного собрания.
Открыл Учредительное собрание Швецов. Такой громадный дуб расейский. Борода веником. Грива – во! Тут появись Свердлов, худенький, в кожаной куртке на красной подкладке. Ну, полный чекист! Этак легонько оттолкнул Швецова и забрал у него колокольчик.
– Большевики же нахальные! – заметил с улыбкой Черноваров.
– Полный чекист! – повторил восторженно Миша, сверкая глазами.
– Полный чекист. Кожаная куртка на красной подкладке. И вот так…
Черноваров встал и изобразил, как Свердлов оттолкнул Швецова.
– Замечательно! Это замечательно! – восторгался Миша. – Я напишу такую картину, – сказал он неожиданно. – Вы знаете, я художник…
И Миша стал показывать свои работы Черноварову, взволнованно рассказывал о своих будущих планах и страшно хвастался. Он все боялся, что Черноваров не поймет его картины, спешил объяснить и растолковать.
– У меня в картине нет ни одной лишней детали. У меня нет ни одного рисунка, ни одного пейзажа без мысли, без идеи. Я к этому стремлюсь. Надо так писать, чтоб волновало, захватывало. Чтоб мысль полоснула молнией и осветила век.
Судя по спокойному выражению лица Черноварова, Мишины работы не очень волновали гостя.
– Это хорошо, – говорил он, – что ты художник. Нам нужны художники, но ты бы чего-нибудь изобразил из советской жизни, из нашего строительства.
Миша произнес полную негодования, но малопонятную, как и его картины, речь. Он бичевал натурализм, топтал приспособленцев, которые выдают свое бездарнейшее подражательное малярство за пролетарское искусство.
– У них надо отобрать кисти и краски. Для революции полезней, если они будут работниками прилавка, а не художниками. Лакировщики! Они не умеют рисовать.
Черноваров плохо разбирался в этом вопросе, но ему пришлась по душе горячность Михаила. Рисунки и картинки он рассматривал любовно, хотя они ему мало нравились. Он, как каждый трудящийся, привык уважать чужой труд, особенно такой редкий труд, как труд художника.
– Это надо уметь… Так не всякий сможет… Приезжай к нам в школу, Миша.
Черноваров был помощником комиссара в школе пилотов.
– Из нашей жизни можно много картин изобразить. У нас есть что порисовать! Приезжай, доволен останешься и нам по клубу поможешь. Привезешь в Москву шикарные картины. Никто к тебе не придерется. В случае чего, всей школой заступимся, раз ты под нашим контролем будешь.
– Приеду. Обязательно приеду, – и Миша даже записал адрес.
Но в данную минуту его не это интересовало. Он стремился как можно ярче растолковать, доказать Черноварову свои взгляды на искусство, доказать их правильность. Миша считал это важным: Черноваровы – лучшие зрители. Для таких он работает.
Черноваров сказал, что из всех видов искусства он больше всего любит оперу, но, к сожалению, нет еще советской оперы.
– Что-то не слыхать. Балет. Как-то смотрел «Красный мак», там кое-что есть. Когда моряки танцуют «Яблочко», сразу на тебя веет гражданской войной. Это хорошо.
– Да, да, – поспешно соглашался Миша.
Он плохо слушал, вскакивал со стула, ожидая с нетерпением, когда Черноваров кончит. Михаилу пришла мысль, которую он торопился высказать. Эта мысль внесет полную ясность, и Черноваров все поймет.
– Вот вы упомянули, что Ленин видел далеко вперед. В семнадцатом году идеи Ленина понимали немногие. Так и в искусстве. Возможно, через много лет и мои работы поймут миллионы… И это не только в живописи, но и в литературе, в театре, скульптуре, в музыке.
Черноваров строго прислушивался. Неожиданно резко оборвал Мишу:
– Много воображаешь! Вот что. Куда загнул! – Встал и собрался спать.
Миша сразу стих. Он не обиделся на гостя. Это лишний раз доказывает: недостаточно писать картины, нужно за них и драться, если хочешь быть настоящим художником эпохи. Надо пропагандировать свои идеи.








