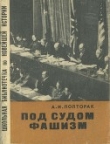Текст книги "Том 4. Волга впадает в Каспийское море"
Автор книги: Борис Пильняк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 31 страниц)
Ворота проскрипели у него за спиной. Федор Иванович скрылся за воротами, пошел в сад, шел тяжелый, опустив тяжелые плечи. Навстречу Федору Ивановичу вышла из-за садовой калитки Любовь Пименовна, в весеннем белом платье. Сад уже темнел майскими просторными и зелеными сумерками.
– Идемте в сад, – сказала Любовь Пименовна, – пусть мама побудет одна.
– А, быть может, мы опять пойдем к башне? – спросил Садыков.
Лицо Любови Пименовны было покойно, чистое лицо девушки. Она не ответила. Она прошла в сад, села на скамейку. Федор Иванович сел рядом, снял фуражку. В деревьях, засыпая на ночь, прокричала пустельга, запела малиновка.
– Почему вы ничего не сказали мне, вчера, у башни? Вы любили Марию?
– Да, любил. И не успел ни разу сказать ей об этом, – ответил Федор Иванович.
– Мама любила, очень любила Эдгара Ивановича. – Любовь Пименовна помолчала. – Я думаю, что я неплохая коммунистка, – и тем не менее, когда я была в комсомоле, надо мною всегда шутили товарищи. Любовь для меня – и подвиг, и святость, и строгость. В моей жизни будет только один муж.
Федор Иванович взял руку Любови Пименовны, посмотрел на нее со вниманием – хотел, должно быть, поцеловать руку – и опустил ее.
– Вы знаете, что такое фашинные кладки? – спросил он. – Берут прутья молодого ивняка, тесно их сплетают наподобие женских кос или венков и прикрепляют к речному дну. Расчет в том, что эти прутья разбухнут и прорастут, закрепив этим нужные участки. Я все время, вот уже второй день, занимаюсь глупостью, – хочу представить себя на месте одного из этих прутьев… Вы не хотите пойти со мною к башне?
– К башне? – Любовь Пименовна задумалась и сказала тихо: – Нет, не стоит. Я не могу.
На террасу вышла Ольга Александровна, с платком в руке, спустилась к Любови Пименовне и к Федору Ивановичу, поздоровалась с Федором Ивановичем, – сказала тверже и покойнее, чем следует:
– Идемте на террасу пить чай. Я поставила самовар.
Ольга Александровна улыбнулась Садыкову – очень беспомощно. Этот вечер стал ее прощанием с молодостью, с бабьим летом, за которым, как полагается, сразу наступает зима. Ольга Александровна одета была в черное платье. Самовар на террасу принесла Любовь Пименовна.
В саду запел, запоздав своими песнями, соловей.
Реки, которые движутся своими тяжестями, именно в этих тяжестях имеют колоссальную свою силу.
В доме Ласло на строительстве, на рабочем поселке, за окнами вдалеке храпели экскаваторы и около бараков по вечерам пели песни рабочие, а в комнатах безмолвствовали сосновые стены, в запахах скипидара, в пустоте которого сваленными лежали чемоданы. У Марии Федоровны здесь не было рояля. Книги Эдгаpa Ивановича расставились по полкам в кабинете в том же порядке, как стояли они в доме Скудриных, – и под книгами поместился диван, так же, как у Скудриных. Дни Эдгара Ивановича заканчивались поздними часами ночи. Алиса не возникала из-за книг. На пороге встречала Мария, эта женщина, покорность которой не стала ее силой. В доме пахло сосною, и комнаты, сложенные в чемоданы, хранили пустоту. В этот дом никто не приходил. Мария Федоровна клала руки на плечи Эдгара Ивановича, – он целовал ее в лоб и шел мыться. Комсомолка-прислужница тащила самовар на пустой сосновый стол в столовой.
И тогда начиналось страшное. В такие часы муж Эдгар и жена Ольга говорили о том, что стократ величавее Гете, – в те часы муж Эдгар имел свое сердце у себя на ладони, рядом с сердцем жены Ольги. Каждый мужчина знает счастье обладания женщиной, – и каждый человек знает еще большее счастье владения человеческою душою, – жена, ее голова, волосы, голос, слова, – ладонь женщины может закрыть весь мир не только на основании законов физики для зрения, – но так может закрыть мир, что ладонь становится больше мира. И сильнее всего этими часами знал Эдгар Иванович, что Мария ему: не нужна, – не нужна. Эдгар Иванович хотел и не мог согнать с себя мысли о строительстве. Мария была рядом и отдавала все. Эдгар Иванович искал в себе те слова нежности, которых было так много у него раньше для Марии, – и они не находились. Мария всю себя отдавала Эдгару Ивановичу, и Эдгар Иванович не видел ее, она не приходила к нему вся на ладони, как прежде. Он хотел говорить нежные, только для нее возникающие слова, и он говорил:
– Ты мне мешаешь, смотреть, милая, и у тебя грязные пальцы. Твои пальцы в чернилах. Что ты писала?
– Я писала… так, ничего, – дневник. Хочешь, я тебе его покажу?
– Нет, зачем же? Я не хочу посягать на твои секреты.
Мария молчала, убирая руки, и говорила тихо:
– Нет, Эдгар, ты не хочешь прочитать, потому что тебе все равно.
– Нет, почему же?
Эдгар Иванович напрягал свою волю, целовал глаза Марии, поцелуи ничего не рождали. Прислужница-комсомолка уносила нетронутый самовар: Эдгар Иванович видел ее румянец, этой девки, не менее красный, чем платок на голове, – белая ее блузка была замазана на груди, подчеркивая груди, – босоногая, она пребывала в добродушии. Эдгар Иванович спрашивал ее, усмехаясь:
– Ну, как делишки, Даша?
Даша отвечала всегда с некою строгостью:
– Делишки ничего себе.
Полночь приходила неподвижной. В этом доме не было свечей, смененных электричеством. Эдгар Иванович уходил в кабинет. Мария шла за ним. Эдгар Иванович выключал электричество. Корки книг уходили к потолку, зарастали стены, кидали камерами-обскурами человеческую мысль как угодно и куда угодно. Мария садилась рядом на диван.
– Мария, ты читала Гете?
– Очень мало.
– А Шиллера, Гейне?
– Очень мало.
– Я тебя совсем не чувствую, Мария, и совсем не вижу. Почему ты потушила свет?
– В темноте ты ближе, Эдгар. Но свет ты потушил сам, ты не помнишь. Ты меня не хочешь видеть.
Человек был здесь, человек отдавал все – и у человека нечего было взять. Начиналось самое страшное: человек, который был в руках, который отдан в руки, был – не только не нужен, но был – тяжестью. Жена Ольга, ее стареющая голова, ее седеющие волосы, ее теплота, ее ласка могли заставить человеческое существо взять на ладонь свое собственное сердце, когда космичествуют покой и то чудесное, что дало жизнь рыжей Лисе. Колено женщины может быть величественней Монблана. Колени Марии были обнажены, – это были колени слабой, городской женщины, почти – девушки, только, – и тогда говорила Мария, отдавая все, что она могла отдать:
– Ты меня не любишь, Эдгар?
– Нет, я тебя очень люблю, милая. Я для тебя сломал жизнь.
– Ты меня не любишь, Эдгар. Я все знаю, Эдгар. Ты мне не веришь. Я тебе чужая. Я нужна была тебе любовницей, но я не гожусь тебе в жены. Я не читала ни Маркса, ни Гете. Я не советчица тебе. Я тебе не нужна. И я тебе – хочу верить, и не могу верить, и не верю, – так же, как и ты мне, – я была твоею любовницей, стало быть, у тебя могут быть еще любовницы, а у меня любовники, – мы оба тому свидетели. Ты один у меня, я люблю тебя, но ты и этому не веришь. Я для тебя – твой крест и подвиг, – ни для меня, ни для тебя, а для других. Ты молчишь, Эдгар.
– Ты говоришь наивные вещи, Мария. Пора спать, милая. Все это пустяки.
С полок щерились золотыми клыками книги, в деснах шкафов. Проходили минуты молчания. И тогда Эдгар Иванович начинал говорить, энергически, шаманствуя, – глаза его начинали блестеть так же, должно быть, как у его степных предков, когда предок клялся преданности христианскому богу перед тем, как католики вели его на костер, – Эдгар Иванович хватал плечи Марии, мял ее в нежности так, что у Марии появлялись слезы боли, – и он кричал в чемоданную тишину комнат:
– Я люблю, я люблю тебя, Мария, я очень люблю тебя! – прижмись ко мне, положи голову ко мне на колени. Я буду целовать тебя! Я буду читать тебе вслух нашу историю любви, – и я буду читать тебе вслух, чтобы ты знала, кто такой Гете! – Мы самые близкие, мы кандалами связаны друг с другом, навсегда, никто не может разъединить нас. Мы должны любить друг друга, – слышишь!? – должны! Мы любим друг друга! мы скованы друг с другом!
И Мария ежилась в страхе. Эдгар Иванович тянул ее к себе, прижимая к себе всей своей силой. Полки немотствовали книгами, теми, великое множество которых прочитал Эдгар Иванович, человек памяти, ума и эрудиции, организованнейшей воли и воспитания. Эдгар Иванович говорил о революции, революция должна победить, – Эдгар Иванович умел так сжимать свою волю, что глаза его начинали смотреть в пространства тем взором, который не видит пространств.
Эдгар Иванович один засыпал на своем диване.
По утрам он просыпался в час, когда Мария еще спала. Солнце в те, уже июньские, дни поднималось бодростью. Рассветный чай подавала девка Дашка, ходила по рассвету полуодетой в рубашке из мешка. Солнце выволакивало землю из рос и туманов. Эдгар Иванович шутил, усмехаясь.
– Ну, как делишки, Даша?
– Делишки, как надо, – строго отвечала Даша.
Эта коренастая девка приехала на строительство из черноземной вместе с землекопами и была ярким примером перерождения сезонника в пролетария, иллюстрация для теоретической работы Эдгара Ивановича. По природе своей пребывала Дашка российским черноземом. Эдгар Иванович задерживался в кабинете над бумагами. На кухне в эти росные рассветы, над кастрюлями, Дарья пела бестолковые частушки вроде этакой:
Пойду выйду из ворот,
Черемухой пахнет.
Скоро миленький придет,
Из нагана трахнет!
В закаты, в час, когда садилось солнце, вместе с девками и бабами со строительства, со своего поселка, она ходила на Оку купаться, чтобы свирепо визжать в воде, а после купанья идти в свою ячейку, в клуб, в кино, заседать и учиться, – или в женские бараки, где по сумеркам пелись песни. Эдгар Иванович ловил себя на том, что его глаза открыты для этой босоногой, курносой, веселой девки, очень спутавшейся с черноземом, с комсомольской ячейкой, комсомольскими делами и ночными июньскими песнями. И Эдгар Иванович ревниво прислушивался ночами к хрусту замка, когда возвращалась Дарья. Эдгар Иванович спрашивал Дарью о комсомольских ее делах, – она отвечала гордо.
Смерть!
Актриса Вера Григорьевна умерла потому, что наука не научилась еще бороться с болезнями, умерла силою законов биологии, – и еще умерла потому, что ее убил – Евгений Евгеньевич Полторак. Был человек, была девочка Вера, была гимназистка, была ученица московской филармонии Вера Салищева, была артистка провинциальных театров Вера Полевая, – были экзамены по закону божьему и по ритмике. Когда ж человек умирает, его везут на кладбище.
И была девочка Маня, была гимназистка Мария Позднышева, она играла музыкантов-классиков, ее отец и ее мать погибли в их доме, где она родилась, первый ее муж, взявший ее в чужую жизнь, ни разу за работой и за делами не успел сказать ей ласкового слова, все кругом возникало чуждым для нее, и величайшая женская сила – быть бессильной – никому не оказалась нужной. Мария – маленькая женщина – имела маленькую жизнь, детства и гимназии на заводе, маминых ласк. Та жизнь, в которую уходил Эдгар Иванович, где убили ее отца и маму, где убивали единственную – к Эдгару Ивановичу – любовь, – эта жизнь была страшна ей. Каждый человек имеет право на жизнь: Мария Федоровна, эта маленькая женщина со слабыми руками, не знала этого своего права.
Днями дом пустовал, когда уходил Эдгар Иванович и приходило солнце. За домом творилось строительство. Мария оставалась с собакой, с понурым, лохматым псом, помесью волка и овчарки. Собаку звали Волком, он был дружен с Марией от щенячьих своих дней. Волк, знавший только Марию, рычал на всех, даже на Эдгара Ивановича. За сутки до смерти, вешая занавеску на окно, прихорашивая свою комнату, Мария Федоровна сорвалась с подоконника, упала, поранила руку. Волк не был приучен лизать, – Волк увидел кровь на руке Марии Федоровны, – и Волк усердно стал зализывать рану Марии, поднял в соболезновании хвост, был серьезен, глаза его смотрели ласково. Волк лечил Марию Федоровну своим волчьим лекарством. Мария обняла тогда Волка, села с ним, около него на полу, – и она зарыдала страшными, отчаянными слезами. Эти слезы никак не стали слезами боли от раны. Дом пустовал, в этом служебном доме никого не было, кроме Марии и Волка. Волк зализывал, залечивал рану до тех пор, пока не перестала течь кровь. В окна светило громадное солнце. Волк и Мария сидели на полу, на ковре. Мария заснула тогда в слезах около Волка, – и она видела странный сон, она видела зиму: она видела во сне Федора и Эдгара. Федор Иванович стоял в стороне, в снегу, неподвижный, – Эдгар Иванович уходил по дороге – от Марии. Он был по пояс в снегу, он уходил, все проваливалось в метели. Мария побежала за Эдгаром Ивановичем, она задыхалась в снегу и ветре. Он уходил. Она догнала его, – она схватила его за руку. Он уходил, – его рука осталась в ее руке. Рука оказалась комом снега, она была из снега, холодная, как снег. Мария обняла Эдгара Ивановича, – ее рука провалилась в снег, на нее глянуло снеговое лицо Эдгара Ивановича. Она схватила его голову, – голова осталась в ее руках, голова оказалась мертвым холодным комом снега. Снежный Эдгар уходил от Марии. Мария бросилась к Федору, Федор стоял неподвижно. Федор также был снеговым, вместе глаз ему воткнули уголь. Мария Федоровна проснулась. В окна шло косое солнце. На кухне пела Даша:
Я в своей-то красоте
Оченно уверена.
Если Троцкий не возьмет,
Выйду за Чичерина!.. – э!..
Мария Федоровна поднялась с пола, глаза ее стали сухи. Кровь на ее руке засохла. Движения Марии Федоровны были сухи, как глаза, подсохшие, как кровь.
Вечером пришел Эдгар Иванович, все придавив собою, этот человек из жизни, которой она не знала. Глаза Эдгара Ивановича – для нее – остались в запространствах. Она видела самое страшное, что может знать любящий, – что она не нужна Эдгару Ивановичу, не нужна всячески, ибо этот человек – она видела – делал громадные усилия, чтобы быть ласковым, чтобы быть страстным, – и вместо подлинной крови, которую зализывал Волк, Эдгар Иванович неистовствовал снегом. Ей страшно было быть около него, его кровь холодила, – и она боялась уйти от него, потому что у нее, кроме него, ничего не было. В полночь Эдгар Иванович отослал ее от себя, он судорожно сел за отчеты и книги. В темной пещере ее комнаты встретил Волк, понурый пес приласкался грудью к ее коленам. На окне, за которым светились звезды, висела недовешенная занавеска. Эдгар Иванович не заметил раны на ее руке. Пес лег около ее башмаков, караулил тишину незакрытым правым глазом. Мария Федоровна стояла посреди комнаты. Из-за спины, из-за книг приходила тяжелая, сжатая воля Эдгара Ивановича, которая не видит пространств. Мария Федоровна подошла к окну, Волк пошел ей вслед. Мария Федоровна дернула занавеску, – гвоздь был вбит крепко, занавеска порвалась, скрипнула рвущейся материей. Шорохи ползли по комнатам в тишине дома. Эдгар Иванович бросил книгу.
– Что такое там рвется? – спросил он. Волк зарычал.
– Ничего, – ответила Мария и, помолчав, добавила тихо и ласково: – Это моя судьба. Убей меня, Эдгар. Убей меня, милый. Мне казалось, что я имею право на жизнь, потому что я никому никогда не сделала зла, – но ты уже убил меня. Прикажи, и я все сделаю, что ты хочешь.
Эдгар Иванович не вышел к ней из кабинета.
– Не говори глупостей, Мария, – сказал он строго и добавил ласково, – ложись спать, милая, будь покойна, я еще поработаю.
Волк зарычал в ответ Эдгару Ивановичу. Мария Федоровна ничего не сказала. За окнами скрипели экскаваторы, и работницы пели песни. Мария Федоровна, пришедшая некогда к Садыкову из-за смерти, в местах, где люди играли ва-банк жизнями, – она уходила теперь в смерть Эдгара Ласло.
Была девочка Мария, мама заплетала ей косички, – была гимназистка Маруся Позднышева, учительница музыки пророчила ей будущее! – Был полдень, гудок отгудел обеденным перерывом и выли сирены, указывающие, что на луга пошли подрывники. В голубом солнце стихали на некоторое время шумы строительства, пока уходили рабочие, – и загремели затем взрывы. Эдгар Иванович с утра работал в конторе, те часы, когда солнце убирало росу, пересматривал списки рабочих вместе с председателем рабочкома левого берега. За пять минут до смены протелефонировал Садыков, звал к себе, сейчас же, и Ласло, и председателя рабочкома. Гудел гудок, выли сирены, выворачивая свои нутра в пророчестве взрывов, которые будут выворачивать недра. В кабинете Садыкова верхние половины окон занавешивались белою бумагою от солнца, через открытые окна тихий ветер шелестел кальками и нес прохладу. С тех пор, как ушла от Федора Ивановича Мария, он жил в этом рабочем своем кабинете, – в углу стояла походная кровать, на которой Садыков коротал свои отдыхи, очень недлинные по русскому июлю и за работой. Ласло пришел вместе с председателем рабочкома. Ворот рубахи Садыкова был расстегнут, он стоял перед чертежным столом, деловой и бодрый, как всегда. В стороне от Садыкова, у окна стоял незнакомый человек в форме войск ГПУ. Садыков пошел навстречу пришедшим, выглянул за дверь и прикрыл ее плотно. Синеблузый глянул в окно.
– Товарищи, – заговорил Садыков, – наш сумасшедший охламон, Иван Ожогов, говорил нам несколько раз, что его брат Яков Карпович Скудрин имеет темные отношения к инженеру Полтораку. Мы считали это бредом. Вот этот товарищ, приехавший из Москвы, познакомьтесь, – синеблузый поклонился по-военному, – он привез мне сообщение, что Полторак действительно вредитель и имеет связь с организацией…
Садыков не договорил. В чертежную опрометью вбежала Дарья, прислужница Ласло, стала с разбегу среди комнаты, задохнувшись. Лица ее никто не заметил за ее словами. Сначала увидели ее босые ноги, пальцы ног тупели, и ноги она широко расставила, точно ожидала толчка, – красную косынку она держала в руке, откинутой назад для удара.
– Федор Иванович, ваша жена померла, – сказала она, задыхаясь, и крикнула в неистовой злобе Ласло, обращаясь к нему на ты:
– Эй ты! домой иди! померла твоя горлинка! повесилась, недолго пожила!
Теперь стало видно ее лицо, испуганное, решительное, деловое, злое, презирающее, – решительное и деловое в первую очередь, – Дарья дышала со свистом, маленькие ее глаза стали еще меньше, рот зиял огромно и редкие зубы торчали за красною кровью губ сплошными клыками. Вздернутый рязански-бабий живот Дарьи неестественно дергался и дергал юбку, ноги из-под которой торчали очень крепко, расставленные к драке.
Никто ничего не сказал.
За много шагов до дома стало слышно, как выл Волк, отчаянно выл. У дома и в комнатах толпились чужие люди, рабочие и работницы со смены. Мария Федоровна лежала на полу на простыне в белой ночной рубашке, волосы закрывали ее лицо, Волк лизал ее шею, выл человеческим горем. Мария Федоровна повесилась на том самом гвозде, о который вчера она поранила руку. Эдгар Иванович упал на пол к Марии и Волку, – Волк не зарычал на него, впервые. Над мертвой Марией бились в истерике Ласло и Волк. Волк зализывал шею и грудь Марии. И, должно быть, в первый раз за эти месяцы супружества у Эдгара Ивановича нашлись для Марии настоящие, верные, нелгущие слова, очень простые и наивные. Эдгар Иванович вместе с Волком, мешая Волку, но не отталкивая его, обнимая волчью шею, целовал Марию, ее шею, ее глаза, ее плечи. И он шептал:
– Милая, милая, хорошая моя, желанная моя, Galanthus мой!..
На кладбищах и в крематориях заканчиваются полки лет человеческих существований. В крематории дано человеку испытать последние человеческие судороги. В камерах крематориев, в температуре двух тысяч градусов Реомюра, в две минуты истлевают в ничто гроб и человеческая одежда, остается голый труп, и голый человек начинает двигаться. Эти последние человеческие судороги могут показаться метафизическими, нарушающими смерть, – и странному закону подвержены эти последние человеческие судороги: у мертвеца подгибаются ноги, руки его ползут к шее, складываются крестом на груди, голова втягивается в плечи, – человек, прежде, чем перейти в ничто, принимает то положение, которое он имел во чреве матери, когда он возникал из того же ничто.
– Galanthus мой!
Была девочка Маня, мама заплетала ей косички, Федор Иванович не успел ей сказать, что он ее любил. Каменные кладки монолитов никак не обладают безусловной водонепроницаемостью, – поэтому, дабы избежать вреда скважностей, необходимо требуется строить монолиты из однородного материала и замыкать их на несжимаемом и водонепроницаемом материковом грунте предпочтительно юрских эпох, – иначе монолиты будут растрескиваться от осадки и размываться на стыках и на температурных швах, обладающих различною скважностью.
Федор Иванович поцеловал руку Марии, покойно и деловито, ворот рубахи его по-прежнему был расстегнут. Федор Иванович крикнул строго Волку:
– Волк! ко мне! иси! куш!
Волк глянул на прежнего своего хозяина, глаза их встретились, – глаза Федора Ивановича приказывали, глаза Волка подчинились печалью. Волк подчинился, опустил глаза, опустил хвост, поднялся, подошел к Федору Ивановичу, лег в стороне. Федор Иванович вернулся к трупу, взял за плечо Ласло, сказал тихо:
– Встань, Эдгар, встань! Приказал собравшимся:
– Примите умершую.
Ласло ничего не видел, глаза его пустовали. Федор Иванович стоял в стороне, около Волка. Чужие склонились над трупом Марии. Мертвую положили на стол. Федор Иванович наблюдал. Эдгар Иванович сел к столу, к ногам Марии. Заскулил, завыл Волк. Чужие безмолвно стали к двери. Федор Иванович приказал Волку:
– Волк! за мной!
Федор Иванович вместе с Волком и синеблузым вышел из комнаты. Люди посторонились им, в тишине костяных – от когтей – шагов Волка. У дома на крыльце стояла Дарья, под крыльцом собралась толпа. Губы и щеки Дарьи краснели кроваво, залитые кровью ненависти. Она была страшна, Дарья, частушечная девка. Сейчас частушечность в ней исчезла, глаза ее смотрели страшно, собравшие в кулак Дарьины ярость, честь, человеческое достоинство и страх. Рот ее разверзался так же широко, как глаза и босые ее ноги, расставленные для драки. И она выталкивала изо рта слова, полные чести и ярости. Казалось понятным, что Дарье очень страшно – страхом смерти и страхом непонятного, нарушавших ее мир. Дарья подгоняла свои слова красным платочком, зажатым в богатырской руке.
– Товарищи! – кричала она. – Это он сам убил ее! он! он ее замудровал! она от страху повесилась! за что погиб человек? для чего революция происходила?! Товарищи! братцы! бабы! так мы ему это и простим? – он вышел чистым, ножки ее теперь целует! он честный, выходит! а она, его голубушка, виновата! – Бабы? – она ему письмо оставила, – «прости меня, Едгар, я ни в чем перед тобой не виновата», – а он меня еще нынче утром спрашивал, как делишки насчет задвижки! – бабы, – а?! бабочки! это что же такое, ответственный он товарищ или нет?! – это мы сколько же терпеть будем!? – а женотдел на что?! – яростные от испуга и попранной чести глаза Дарьи блестели слезами. – Бабочки, – а?! – ведь он чистым из воды выходит и сухеньким!.. Что же, нам бояться, что ли, и революция зря была?!.
За порогом дома пребывала смерть, омерзительней-шее для каждого живого существа. Федор Иванович сошел с порога вместе с синеблузым и с Волком, – пошли к конторе главинжа. Лицо Федора Ивановича, землистое, собиралось в кулак мышц. Волк шел рядом с Садыковым очень понуро. День заливал землю солнцем. На строительстве рвался жидкий воздух.
Вечером, спустив электрическую лампочку на самые глаза, усердно и злобно обгрызая карандаш, Дарья писала для стенгазеты: – «Товарищи женщины!.. Ответственный товарищ Е. Ласло так поставил себя со своей женой», – написала Дарья и зачеркнула. – «Товарищи женщины!.. Скоро тринадцать лет, как совершилась наша великая пролетарская революция, которая освободила трудящийся класс и дала всем трудящимся новую жизнь», – написала Дарья, поставила фразу в крестики, чтобы не забыть мысль, и начала с красной строки: – «Товарищи и гражданки женщины. Кому много дано, с того много и спросится. Посмотрите кругом, что происходит вокруг нас. Революционный закон уравнял всех трудящихся, как мужчин, так и женщин, но на практике выходит не так, и женщины должны наконец сами за себя постоять. Недавно три грабаря изнасиловали работницу бетонного завода правого берега, и революционный суд их засудил по всей строгости и предал пролетарскому презрению. Сколько женских слез льется от мужчин (эту последнюю фразу Дарья вычеркнула, пожевав карандаш). А что же делать с ответственными товарищами, которые не в пример темным грабарям являются не только инженерами, но и коммунистами? Надо таких людей судить или нет, хотя бы они и обошли правила закона?» – Глаза Дарьи были полны презрения и действия, растерянность исчезла из них. Карандаш грызла Дарья в деловом возмущении. Красный ее платочек лежал рядом с бумагой. Дом прятался в тишину. Ласло бесшумно сидел в кабинете. В столовой стоял гроб.
В ту ночь не спали ни Садыков, ни Ласло, как не спали ни Ольга Александровна, ни Любовь Пименовна.
Оставив Волка в пустом кабинете, весь день пробыл Федор Иванович на строительстве, в воле, зажатой в кулак. Волк взаперти все эти часы выл и плакал. Федор Иванович хотел знать, что сегодняшний день для него – только рабочий день. Волк не переставал выть, когда пришел Федор Иванович. Федор Иванович принес Волку мяса, Волк не стал есть. Федор Иванович долго возился над Волком. Зеленая ночь спустилась на землю. Скулы Федора Ивановича серели, как волчья шерсть. Волк выл, забившись в угол. Тогда Федор Иванович пошел с Волком в Коломну. Волк подчинялся. Федор Иванович не видел улиц, должно быть, – дважды прошел мимо калитки Скудриных. Калитка пропела приветом и скрипом. Федор Иванович беспомощно улыбнулся Любови Пименовне, он заговорил о собаке. Ольга Александровна лежала в истерике бессилия и ужаса. Любовь Пименовна вышла к Федору Ивановичу с мокрым полотенцем в руках.
– Мама хочет поехать к телу Марии Федоровны. Я ее не пускаю.
Любовь Пименовна ушла в комнаты к матери. Вечер темнел покойствием, пахло из сада табаком. Федор Иванович сел на нижнюю ступеньку террасы, собаку положил у ног. Вышла из дома Любовь Пименовна, села на верхней ступеньке, зябко подобрала плечи.
– Собака, знаете ли, – сказал Федор Иванович, – воет и не ест из моих рук, а я живу один и никого около меня нет, и я не умею обращаться с собаками. Я к вам с просьбой, Любовь Пименовна. Мария умерла, собака – ее память, собака никому не нужна… Я привел собаку вам в подарок, – пожалуйста. И покормите ее, приласкайте. Она все время воет.
– Конечно, конечно, спасибо! Я сейчас же принесу молока. – Любовь Пименовна зябко заспешила.
– Нет, подождите, Любовь Пименовна… Эта собака была вернейшим другом Марии, единственным, должно быть. Вы – любите собаку, она верный друг. Она плакала над Марией, когда я пришел, и лизала ее шею.
Федор Иванович замолчал.
– Зачем вы мне это говорите, Федор? – спросила Любовь Пименовна.
Федор Иванович ответил не сразу.
– Потому что только вам я и могу это сказать, – ответил он.
– Не надо, Федор Иванович.
– Хорошо, Любовь Пименовна. – Федор Иванович помолчал. – Надо идти. Конечно, надо все проще. А этот Волк – умный пес, хороший пес. Надо все проще. Надо идти.
– Повремените, Федор, – тихо сказала Любовь Пименовна. – И не надо переупрощать.
На двор вышел охламонов пес Арап, посмотрел с удивлением на Волка, поджал хвост и глаза сделал хитрыми. Большим полукругом, делая вид, что он гуляет, в безразличии, поглядывая одним лишь скошенным глазом, Арап подошел к террасе, постоял, повилял мохнатым своим хвостом – и заговорил с Волком на собачьем своем языке, знакомясь и очень дружелюбно обнюхав Волка. Волк тоскливо, но дружелюбно – в знак знакомства – переложил свой хвост с места на место. Вечер стемнел по-июльски. Любовь Пименовна наведалась на минуту в комнаты.
– Я пойду, – сказал Федор Иванович, приподнялся, постоял в раздумий, передал Любови Пименовне корду Волка. – Сегодня ночью приедет на строительство ваш отец.
Любовь Пименовна, с Волком, проводила Федора Ивановича до калитки. Калитка пропела и хлопнула. Любовь Пименовна крикнула со двора:
– Завтра придите, Федор Иванович, обязательно. Вернувшись на строительство, заботливо прибирал
Федор Иванович комнату для профессора Пимена Сергеевича Полетики, на ночной столик поставил свечу, под кровать подсунул ночной горшок, на подушку положил полотенце. И тогда Федор Иванович, в ранний еще час, разделся ко сну в рабочем своем кабинете, чтобы заснуть до приезда Полетики, – да так и просидел в ночном белье на кровати с ухом одеяла в руке, прокурил, прокашлял, проплевал ночь до часа, когда пришло время ехать на станцию. У каждого человека своя судьба. Федор Иванович родился в семье рабочего, возрастал мальчишкой на пыльных улицах рабочего пригорода, под чахлыми тополями и в темных коридорах – сначала казарм, затем заводского училища, где пахло мелом и машинным маслом. Заводской гудок и для него, как для Ожогова, был первым воспоминанием, – но его жизнь оказалась сложнее и ответственней жизни Ожогова, потому что она началась на двадцать лет позднее. Заводские ворота захлопнули пригородное детство, – но чахлые тополи повторились еще раз в судьбе, потому что под этими тополями, в майскую ночь, когда надо было б любить и время пришло для любви, – юноша Федор услыхал о социализме, о коммунизме, о революциях. Федору выпало проводить революцию, как и себя, в жизнь. Юноша Федор уехал от отца на квартиру, где жили молодые рабочие, его единомышленники, до революции строившие разумную жизнь и коммунизм. Таких, как он, оказывалось немного, но они были, – и у них были честь труда и честь жизни. Затем наступили: ссылка, война, революция, гражданская война, втуз, инженерия, революция, коммунизм. Все это очень просто и очень сложно, – все это было вчера и эпохи тому назад, – городки под заводским забором, бои под Перекопом, сходки в лесу и в юности, изыскательные партии, чтение Плеханова и Меринга вслух на кооперативной квартире за час до тюремных подворотен и ссылки, – все это было, все это есть, – и за всем за этим не было своей жизни, – сегодня умерла жена, которой он не успел и не сумел сказать – люблю, но которую любил и за которую боролся целый год ее измены с другом. В тот день, когда он позвал Эдгара и Марию к себе, чтобы покончить с ложью, он поступил по традициям его юности, его содружества кооперативной квартиры и коммуны. Он знал, что в жизни все просто, все должно быть простым и люди должны быть честными в своей простоте, в своих делах и мыслях. Жизнь складывалась эпохами, все прошло только вчера, – но за плечами скопилось уже тридцать семь лет – истории, эпох, труда, зубрежки на рабфаке и во втузе, седины на висках, расшатанного сердца, – а своей жизни не было, своей интимной и домашней – с дней кооперативной квартиры до этого рабочего кабинета. Жизнь отдана революции, другим делам. Под Перекопом Федор Иванович получил последнюю рану, – Любовь Пименовна рассказывала о бородинском монастыре, памятников там, действительно, нет. От Марии остался Волк, ее память, – Федор Иванович отдал Волка Любови Пименовне. У Любови Пименовны также нет своей личной жизни. Федор Иванович понял, почему не следовало говорить Любови Пименовне о псе и почему он говорил об этом: он любил Любовь Пименовну, и она не хотела этого. Все ночные часы тишины и экскаваторов – каждую минуту хотел лечь Федор Иванович в постель, да так и просидел на кровати с одеялом в руке, чтобы прикрыться одеялом, – прокурил, прокашлял, проплевал ночь до часа, когда следовало ехать на станцию за Полетикой, за отцом Любови Пименовны, отчим которой сидел в этот час над трупом жены Федора Ивановича. Ночная дорога на дрезине знобила сыростью. Поезд вылез из туманов, шаря по рельсам огнями фонарей, наваждением.