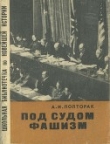Текст книги "Том 4. Волга впадает в Каспийское море"
Автор книги: Борис Пильняк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 31 страниц)
– Хоронили жену инженера Ласло, повесившуюся вчера утром, – хмуро сказал Полторак.
– Она повесилась? отчего?
– Не знаю. – Ты не знаешь, кто отец твоего ребенка? – ты не знаешь, какую древность хоронили эти бабищи? – они хоронили нас, – тебя, меня, нашу культуру!..
– Это хуже для моего сына.
Полторак сел рядом с Надеждой Антоновной.
– О чем ты говоришь, Надежда? – сказал он. – Ты спала, я бодрствовал. Они хоронили нас. Да, это хуже для твоего сына, потому что они хоронили и его. Но все равно. Я бодрствовал, и это не страшно, в бессоннице приходит непонятное, фантастическое, как эти похороны. Ты читаешь газету времени. У нас будет гофмановская ночь пира во время чумы, за теми флажками, о которых я говорил утром. Я совсем, совсем болен. Я брежу. Я говорил сегодня с рабочими, они хлопали меня по плечу, как дурака, – и они есть Гофман, отравивший нашу реальность.
Постучали в дверь. Вошел курьер.
– Телеграмма.
В телеграмме значилось:
«Сейчас умерла Вера мы обе говорим тебе будь проклят мерзавец».
В Москве на Владимире-Долгоруковской, в квартире Евгения Евгеньевича Полторака, величествовали красное дерево, строгий покой, тишина. Квартира на Живодерке была – «домом». В кабинете на письменном столе давили стол бронзовые подсвечники и наяды чернильного прибора, также бронзового. В этих подсвечниках горели свечи. На павловском диване в кабинете умирала Вера Григорьевна. Гардины охраняли тишину. И еще горела свеча на столике около дивана, среди лекарств. На столике лежал серебряный александровский звонок.
Вера Григорьевна была одна. Глаза ее были закрыты. Покойная тишина стыла в кабинете, в неподвижной ночи. Вера Григорьевна, красавица, лежала неподвижно, очень покойно, руки ее легли над одеялом. И тогда она позвонила, долго дотягиваясь до звонка, не открывая глаз, чуть слышно. Вошла Софья Григорьевна, со свечою в руке, в ночном халате. Старшая сестра казалась много утомленней и непокойней, чем младшая.
– Ты звонила, Вера?
– Да, я умираю, Софья. Я чувствую, как в меня входит смерть. – Вера Григорьевна говорила беззвучно, глубоким шепотом, чуть шевеля губами. – Я уже не человек. Мне покойно думать, что сейчас последний раз в жизни, – она повторила, споткнувшись на слове, – в жизни я бралась за звонок.
Лицо Веры Григорьевны оставалось очень покойным, она не открывала глаз, ее губы чуть-чуть шевелились. Она замолчала. Сестра склонилась над нею, губы сестры скосились судорогою боли. Сестра поставила свою свечу на столик к дивану и потушила. Свет потухающей свечи скользнул по лицу умирающей, – Вера Григорьевна чуть-чуть улыбнулась.
– Позови Евгения, он здесь, я слышу, – прошептала Вера Григорьевна.
– Его нет, он уехал по делу в Коломну, – ответила Софья Григорьевна и оглянулась на комнату.
На письменном столе горели свечи, догорали, забытые после доктора, который рецептов уже не писал. Софья Григорьевна поднялась, чтобы погасить свечи, но ее остановила Вера Григорьевна, – она опять шептала и улыбалась. Софья Григорьевна склонилась над сестрой.
– Все бывает страшно первый раз, слышишь, Евгений. Это сказал ты, – ты не прав. Что ты сделал, Евгений? – что ты сделал? – ты меня не любишь, разве ты меня любишь? – Мне стыдно перед Софьей, мне стыдно перед всем миром… Я разбудила тебя, ты спал… я так давно зову тебя…
Софья Григорьевна еще ниже склонилась над сестрой. Сестра бредила:
– Ты сказал, Евгений, что добродетели, верности, справедливости – все это ничто перед нулем смерти, – нет, ты не прав перед лицом живущих, перед лицом Софьи и детей. Это мерзость, что я отдалась тебе, умирающая, мертвая, – это мерзость, что ты сделал со мною, Евгений, милый… и это мерзость, что я думаю о тебе, как о самце.
Софья Григорьевна крикнула:
– Вера, ты бредишь, перестань, что ты говоришь! Вера Григорьевна открыла глаза. Взгляд ее стал осмыслен, внимателен, никак не сонный.
– Нет, я не брежу, Софья, – сказала она громко, твердо, злобно. – Я умираю, Софья. И это не бред, что в поезде Евгений Евгеньевич овладел мною, – ты понимаешь, о чем я говорю. Мне даже не стыдно за себя, я нуль, – мне страшно за твою жизнь, Софья, за твою честь. Он трус и вор. Скажи ему, что он мерзавец. Мне стыдно перед тобою, Софья, – мне страшно за тебя.
Вера Григорьевна закрыла глаза, задохнувшись. Это было в неподвижную полночь. Софья Григорьевна очнулась в час, когда земля проходила полднями. Она не помнила времени. Свечи на письменном столе и около дивана выгорели, исчезнул даже чад. Вера Григорьевна умерла. Живая сестра опустила голову на грудь мертвой сестры.
И первое, что сделала Софья Григорьевна, очнувшись, – она написала телеграмму и понесла ее на телеграф. На Живодерку лил дождь, асфальт на тротуарах отражал дома, и дома, отраженные в асфальте, были подобны платоновским теням, где подлинные дома на подлинных улицах – идеи. Дождь обложил Москву мокрыми киселями облаков. Радиокричатели неистовствовали российским гопаком.
Смерть!.. – Был человек, была девочка Верочка, была гимназистка-подросток Вера, была ученица московской филармонии Вера Салищева, была средняя провинциальных театров артистка Вера Полевая, – были детство, девичья юность, женские двадцать семь лет, – были экзамены по закону божьему, где спрашивались в разбивку десять заповедей, – была золотая медаль, – была басня Крылова «Журавль и Цапля» на экзамене в филармонии, – было первое выступление – Софья Фамусова – в уездном любительском спектакле, – неизбежные были, – первое рукоплескание, первый поцелуй, первое отданье, – все было!.. Когда же человек умирает, его везут в Новодевичий монастырь, на Ваганьково (оскорбительное слово – Ваганьково!) и закапывают в землю, предав человеческий труп медлительности червей, – или отвозят в Донской монастырь и там сжигают в крематории. И в крематории тогда дано человеку испытать последние человеческие судороги. В камере крематория, в температуре двух тысяч градусов Реомюра, в две минуты истлевают в ничто гроб и человеческая одежда, остается голый труп, – и голый человек начинает двигаться: у мертвеца подгибаются ноги, и руки его ползут к шее, голова его втягивается в плечи. Если у того окошка, через которое видно, как две тысячи градусов Реомюра уничтожают человека, стоит живой человек со сломанными нервами, – у этого живого седеют волосы, и последние человеческие судороги кажутся ему нарушающими смерть. Мертвец принимает бесстыдные позы, – а через четверть часа от человека остается горсть пепла. В земле же – черви роются в человеке, как человек в катакомбах. Был человек, была девочка, девушка, женщина – актриса Вера Полевая, были радости, горести, успехи, обиды, гордости.
Мальчик Миша убоялся судьбы рыжего Мотьки. Дети мыслят только конкретными образами, как художники. После того часа, как Любовь Полетика читала о рыжем Мотьке, Мишка долго сидел в саду, солнцем ведая холод шахт. И затем с Алисой он ходил на Коломенку к башне Марины Мнишек.
Любовь Пименовна изучала историю и историю преданий, связанных с башней Марины. Преданья рассказывали, что в этой крепостной кремлевской башне, высокой, наугольной, стройной и глухой, погибла Марина Мнишек. Летописи знают, что Марина Мнишек с Иваном Заруцким и с сыном Воренком, отступая от Москвы, брали Коломну и грабили ее, – преданье говорит, что Марина в этой угловой кремлевской башне хранила свои богатства, – Мишка видел эти богатства сказками Шехерезады. Летописи знают, что Иван Заруцкий и Воренок, называвшийся также Вороненком, были преданы казаками и казнены в Москве на Красной площади, – но летописи утеряли смерть Марины. И преданье утверждает, что Марина Мнишек была заключена в эту башню. Преданье говорит, что Марина Мнишек была оборотнем, оборачивалась сорокою-вороною и летала над Россией, неся разрушение. И преданье рассказывает подробную историю – о том, как дьяки, воевода коломенский Данила и попы со епископом, прознав, что Марина оборачивается вороною-сорокою, пришед однажды в башню к Марине, застали ее спящей и освятили окна, бойницы и двери святою водою, дабы не могла Марина вылетать из башни вороною. И учинили тем воеводы ошибку, потому что Марина не спала в тот час крапления святою водою, но лежало в башне лишь тело Марины, душа же летала над Россией вороною. С тех пор по сей день душа Марины вороною летает около башни, не может соединиться со своим телом, давно уже сгнившим. Все вороны – души Марины.
Мишка знал эту легенду и боялся башни.
Мишка не знал, что эта башня была местом несчастных свиданий Риммы Карповны.
Дети имеют понятия, отличные от понятий взрослых. Мишка знал, что эта башня – кирпичная, высокая, строгая, глухая – есть женщина, даже девушка, воительница, – как Мишка ж знал, что огонь растет вроде травы, только очень быстро. Мишка боялся башенной таинственности.
День был солнечен. Подножие башни заросло красной бузиной. От камней башни пахло пылью и зноем. Было прозрачно, пусто и тихо. Тропинка вела на развалины стены, в монастырский двор, ко входу в башню, тропинка заросла лопухами и крапивою. И опять было знойно, просторно и тихо. Мишка взял Лису за руку. Дети смотрели вперед в сосредоточенности. Во мраке башенного входа пахло человеческим пометом. Там лежали дрова. Свет сверху падал дряблый и мутный. Над ходом у солнышка летали большие зеленые мухи и жужжали, подчеркивая тишину. Дрова пахли подогретой гнилью. Дети остановились в молчании, очень внимательные и сосредоточенные. Вверху, на гнилой перекладине уничтоженных полов верхнего яруса сидели молодые совята. Мишка отпустил руку Лисы, полез на дрова, босоногий, курносый.
Здесь, за кремлевской стеною, в безлюдии бузины и бурьяна все было очень просто, знойно, просторно и тихо. Ничего таинственного не было.
Дети пребывали в первозданности.
– Что написано в телеграмме? – спросила Надежда Антоновна.
Евгений Евгеньевич не ответил.
– Ты знаешь, как пахнет кровь, Надежда?! – крикнул он бессильно. – Умеющий умирать должен уметь и убивать, – а убийство – гадость, мерзость!..
– Но ты же сам говорил, что все на крови, – все, вплоть до любовного ложа.
– Да, я говорил именно о крови, – но есть убийство без крови, – слышишь, – без крови, желтое, сукровичное, статистическое, цифровое! Рабочие на совещании мне сказали, что я не нужен, выброшен за борт, убит без крови!.. – и слова Полторака заметались. – Я получил телеграмму, я должен идти. Шумит дождь, – это дождь, на самом деле?.. – Можно убивать без крови, можно убивать поцелуями, и ласкою, и ложью, можно воровать у самого себя. Ты ничего не хочешь знать, Надежда, – я же русский, я же – националист, ученик Соловьева, я же хотел умереть за мою Россию, – а на строительстве работают русские мужики, эти плотины строятся русскими мужичьими рублями и руками, – а социализм есть сочувствие друг к другу, как сказал Сысоев. Ты когда-нибудь видела, как рвет амонал, когда он взорвался неожиданно и неудачно, как летят человеческие головы вместе с песком, сапогами и камнями? – ты когда-нибудь слыхала о том, что инженеры-гидравлики боятся воды, потому что вода неимоверно сильна?., ведь же я русский!., ведь я же мечтал о мессианстве России!..[4]4
Соловьев В. С. (1853–1900) – русский религиозный философ, поэт, публицист.
[Закрыть] Я же русский!
Надежда Антоновна встала с подоконника, подошла к столу, налила вина, выпила. Полторак стоял посреди бастиона с телеграммой в руках. Он держал телеграмму, отодвинув от себя, точно об нее можно было обжечься. Глаза Полторака никуда не смотрели. Надежда Антоновна легла на постель, положила руки за голову.
– Кажется, мы оба бредим, Евгений, – сказала Надежда Антоновна. – Слушай же, о чем я думала сегодня. Я говорю тебе о древностях и о веках но ты принимаешь это за образы. Я еще не знаю точно. Ты здесь ни при чем. Я думала о себе, о том, что я не могу, никогда не смогу решить, кто отец моего сына, если этот сын действительно будет. Похороны за окном древностей – есть похороны моего сына, говоришь ты, – не знаю. Ты говорил о волках. Есть волчье правило, я читала у Брема, – волки съедают своих стариков, когда старики дряхлеют, потому что старики отступили от законов равенства дряхлостью и моральным развалом, а природа не терпит неравенства сил. Ты сказал, – мы – как волки.
– Да, как волки. Ты помнишь, я мечтал о святой Софии и о кресте на ней?..
– Хорошо. Никогда, ни в единую минуту человек не может сказать, что он есть поистине то, что он есть в эту единую минуту. Люди не подозревают, как они гипнотизируются. Люди могут гипнотизироваться на мерзость и на благородство – не гипнотизерами, но человеческим обществом. Волки соподчинены равенству сил.
Я об этом думала, – и в тот день, когда я решила, что пора стать женщиной, мне стало любопытно. Я никогда не любила. В моем внимании лежали мои переживания и сама я. Я выбирала себе мужчин, разных, чтобы все познать. Я отвечаю только за себя и собою. Почему любить так – неморально? мне не надо никаких обязательств от вас, мужей, и мне не нужны ночные туфли. Я забеременела, не думая об этом. И я рожу, как рожают волки. Ты думаешь, что есть какая-то национальная Россия? – нет такой. Я и не подозревала, какое это счастье быть матерью, родить, кормить грудью. И мужем мне будет мир, – совсем не спрятанный за флажки, о которых ты говорил. Мир велик, но он меньше того ребенка, который, кажется, есть во мне. А мир – очень велик, жизнь – очень велика, она кругом, я не разбираюсь в ней, но я не боюсь ее, так меня научила революция, – я верю жизни, и я спокойна. Сегодня я пью в последний раз. Я понимаю только то, что касается меня. Я никогда не сделаю себе аборта. Скажи мне, что я права, решив родить.
– Где же Россия? где же мы?! – крикнул Полторак.
Опять постучали в дверь. Время стекало дождем, когда постучали в дверь. Надежда Антоновна лежала на постели. На стуле около кровати стояла бутылка вина. Надежда Антоновна не оправила своего халатика.
– Войдите! – сказала Надежда Антоновна.
На порог ступила Любовь Пименовна Полетика в резиновом дождевике, в красном платочке. Она глянула на Полторака и поклонилась Надежде Антоновне.
– Здесь остановился Евгений Евгеньевич Полторак? – спросила Любовь Пименовна Надежду Антоновну, точно Полторака не было в комнате.
– Да, здесь, – ответила Надежда Антоновна.
– В этом номере?
– Да.
Любовь Пименовна запнулась.
– И вы тоже остановились здесь? – шепотом спросила она.
– Да, здесь. Я его любовница, – ответила Надежда Антоновна.
Любовь Пименовна не двигалась с порога.
– Что ему передать? – спросила иронически Надежда Антоновна.
– Простите… Передайте ему, что к нему заходила его невеста Любовь Полетика. Только… больше ничего. И скажите, пожалуйста, еще, что я не ожидаю его. Пожалуйста.
– Хорошо, передам, – весело сказала Надежда Антоновна.
Любовь Пименовна поклонилась и вышла. Полторак по-прежнему стоял с телеграммой посреди бастиона. Надежда Антоновна взяла книгу, чтобы читать. Бастион смолк.
– Евгений Евгеньевич, – сказала Надежда Антоновна, – к вам приходила ваша невеста Любовь Полетика и просила передать, что она не хочет вас видеть. Очень жаль, если я помешала вашему счастью. Я не ревнива, но я не люблю мелкой мерзости и глупых положений.
– Я пойду, Надя, – я не вернусь. Я получил телеграмму. – Полторак бредил. – Я пойду, Надя, я не вернусь.
– Нет, зачем же? – ответила Надежда Антоновна, не отрываясь от книги. – Вы же говорили, что этот бастион есть то место, где волки собрались за флажками. Ступайте, куда вам нужно.
Водовозы по улицам вывесок развозили на своих дрогах и своими клячами коломенскую старину и ночь. Коломна здравствовала широкопазым николаевским умиранием, вместе с номерами. Вороны над городом, души Марины Мнишек, стихли. Лил дождь.
И дальше для Полторака все стало бредом в этот вечер его гибели. Извозчик сдвинул на сторону Коломну, пододвинул к Полтораку дом Якова Карповича Скудрина. Яков Карпович, возникнув за алкогольным фрегатом, на плечах братьев Бездетовых, молвил глазами Шервуда, – «нынче ночью!» – и братья Бездетовы стали стеною, готовые к убийству, – в словах: – «нынче в час!» – столь же твердых, как слова, сказанные в Москве Шервудом, в твердости глаз Шервуда: – «Решено?» – «Да, решено!» – На производственном совещании Полторак увидел, как перестраивается геология человеческих отношений, его дела умирали и рождались новые силы, и Полторак спрашивал в бессилии старика: – «можно ли убить человека?» – юрод говорил о юродстве, о чистоте, о совести и памяти, – бредил юродством, московским Иваном Яковлевичем, – «не бенды працы без кололацы». – да, мерзавец может убить, но не всякий юрод – мерзавец. Алкогольный фрегат управлялся Бездетовыми, остановившими время оловом глаз в вольтеровском фрегате осьмнадцатого века и красного дерева. Братья вросли в красное дерево. В окна к огню летели ночные бабочки, во мраке за окнами шумел дождь: Полторак стал бабочкой на огне красного бездетовского дерева. Старик копошился вокруг Полторака, топтался голубком, через прореху поддерживая грыжу, глаза его слезились восемьюдесятью пятью его годами, пухлыми, отеклыми, зелеными, как перегнившая сукровица, страшными и отвратительными. Полторак в бреду понимал, что только с Яковом Карповичем мог он быть искренним и естественным, таким, каким он есть на самом деле, вне надеждиных законов больших чисел. Бездетовы твердо сказали, навалившись оловом глаз, – «в час ночи около голутвинского плашкотного моста», – и тогда из-за окна, из дождливого мрака появился охламон Ожогов, юродивый, который не забыл чести и не потерял совести. Охламона прогнали, обещав побить. Охламон трусливо провалился за окно. Думал ли Полторак в тот час о том, что убивающие могут убивать не только третьих, но и самих себя, как убиваемые также могут убивать своими смертями? – но Полторак в ту ночь, в последнюю его ночь, знал, очень знал, что смерти могут приходить без крови, как не только на крови строятся строительства.
Полторак ушел от Скудрина – в бред, в выжженные ночью – час ночи, – плашкотный мост, где бредил оловом глаз Бездетовых, такие же тяжелые, как глаза Шервуда. Глаза смотрели из пустыни лугов, упирались оловом спокойствия в огненный столб в небе, в крики, ужас и шелест воды. Кругом обстали – бессилие, поцелуй Анатоля Куракина, бескровие, бездомность, смерть, пустота, опустошение, страх, – смерть без крови. Полторак собирал себя – к часу. Полтораку некуда было идти. Он шел окраинами, берегом Москвы-реки, мимо Маринкиной башни, под кремлем. Кремлевским спуском Полторак вышел в луга. Все ломалось, завтра стало далеко, как детство. Ночь была черна.
Впереди горели огни строительства, угоняя во мрак луга. В лугах, которые через год исчезнут под водою, кричали мирные коростели. Вера, Надежда, Любовь, – жену Полторака звали Софьей, – Полторак бредил породой юродивых, которых убивают. Вера, Надежда, Любовь, Мудрость, – бред, ничего нету. Все на крови, – и вот пришла бескровность. Вера умерла бескровною смертью. Надежда сказала, – она не знает, когда она настоящая, – и с Полтораком она хотела быть такой, которой все позволено, – почему? – Полторак был настоящим со Скудриным. Любовь пришла, чтобы сказать, что она уходит. Похороны Садыковой срослись с производственным совещанием. Волки за флажками облав не знают, что по лесу, в темном рассвете, растянув флажки, за деревьями, в тишине, – стали охотники, чтобы убивать, – и смерть приходит не от вопящих кричан, но от этих безмолвных. Волки покойны, окруженные флажками и кричанами, пока не закричали, не завыли, не заулюлюкали эти кричаны, – но кричаны завыли, и жизнь осталась за кричанами, за флажками – естественная, обыкновенная жизнь. Вера, Надежда, Любовь! Ночь бредила мраком. Полторак бежал по лугам. Впереди засипели, захрипели, завыли, заплакали, застонали экскаваторы в бреде огней строительства. Экскаваторы захлебывались ужасом. Полторак упал.
Через год эти луга будут залиты водою.
Этой ночью охламон Иван Ожогов встречался в лугах с инженером Полтораком, и повесть вернется к этой встрече. Расставшись с Полтораком, в быту своих будней, Иван долго шел темными лугами за рекой, под Гончарами и под Митяевым, ему одному известными тропинками, за штабелями заводских дров, между бревен, мимо заводских пароходных доков. Иван разговаривал сам с собою, взволнованно бормоча. Он шел к своему кирпичному заводу.
Кирпичный завод разместился в развалинах карьеров, за скучным забором. Иван пролез через заборную щель, мимо ям, заросших крапивою выше человека. Около заводской печи Иван Ожогов полез в подземелье к печному жерлу, в жаркое тепло и в темное удушье.
Из щелей от заслонов полыхал красный свет. В удушьи пахло дымом, дегтем, несвежим человеком и рыбою, как пахнет в морских корабельных кубриках. На глине в подземелье вокруг печного жерла и в темноте валялись оборванцы, заросшие войлоком волос, коммунисты Ивана Ожогова, люди безмолвного договора с начальством кирпичного завода, – топившие без уговору заводскую печь, эту, огнем которой обжигался кирпич, и жившие без уговору около печи, – люди, остановившие свое время эпохою военного коммунизма, избравшие в председатели себе Ивана Ожогова. Обжижная печь пребывала очагом коммунизма Ивана Ожогова, это подземелье, пропахшее дымом, глиной и человечиной. В пещере существовало устройство домашней оседлости эпохи лет военного коммунизма, на веревках обсыхало тряпье, солома по углам служила постелями и диванами, доска около соломы обозначала стол.
На соломе около этой доски, служившей столом, лежали трое, отдыхающие оборванцы, нищие и юродивые Руси советской, – Огнев, Пожаров, Поджогов. Огнев имел «пунктом» переписку с жителями планеты Марс, куда человечество с земли должно кинуть ракеты, построив межпланетные станции; Пожаров (сын Назара Сысоева) предлагал выловить всю взрослую рыбу в Оке и Волге и, расплачиваясь этой рыбой, строить по проселкам для мужиков железные мосты, в каждом участке столько мостов, сколько поймано здесь рыбы; Поджогов составлял и каждый день переделывал проект трамвайной сети по Коломенскому уезду. Лица людей в красном мраке печного огня были зловещи и необыкновенны, как необыкновенна, в сущности, была, жизнь этих оборванцев. Ожогов присел рядом с Огневым, подрожал, как люди дрожат в ознобе, согреваясь от дождя, положил на стол деньги.
– Не плакали? – спросил Огнев. – Караулил?
– Нет, не плакали, – ответил Ожогов. – Караулил.
Помолчали. Вползли в глину подземелья еще двое в войлоке бород и усов, в рваной нищете, повесили свои пиджаки к огню, положили на доску деньги и хлеб, легли на землю, очень усталые. Младший сейчас же захрапел. Поджогов и Пожаров спали, тоже храпели.
– Твоя очередь, товарищ Огнев, – сказал Ожогов. – Тебе идти караулить.
Лежавший лицом вниз в темном тепле, человек, остановивший себя фантасмагорией Марса, Огнев, стал обуваться в опорки, напялил солдатскую шинель, пополз из подземелья наверх, – ушел во мрак дождя и лугов. Остальные спали. Старший пришедший молвил, что завтра с утра надо разгружать баржу с железными балками для строительства. Проснулся Пожаров, оглядел всех, собрал со стола копейки и рублевки и, не одеваясь, босой, без шапки, полез из подземелья. Охламоны проснулись, достали кружки, сели кружком около доски. Пожаров вернулся скоро, мокрый, с бутылками водки, заткнутыми за кушак штанов, как гозыри на черкесках. Товарищ Поджогов разлил водку, чокнулись, безмолвно выпили.
– Теперь я буду говорить, – сказал Ожогов. – Опять возвращается девятнадцатый год. Сегодня женщины взмолились о чести и справедливости. Я говорил сегодня с профессором Полетикой, – он, выходит, первый муж старой Ласло, а инженера Полторака бил я сейчас на лугу… Опять приходит девятнадцатый год!.. Были такие братья Райты, они решили полететь в небо, и они упали, разбившись о землю, свалившись с неба. Они погибли, – я тоже летал на парашюте, – но люди не оставили дела братьев Райтов, люди уцепились за небо, и люди – летают, товарищи! – они летают над землей, как птицы, как орлы! и они полетят на Марс, как сказывает товарищ Огнев.
– Обязательно полетят, и будут такие межпланетные станции, – крикнул парень из темноты.
– Подожди, Пламя, кричать за Огнева, он сам придет с караула, скажет, – продолжал Ожогов. – Я был у нас в городе первым председателем исполкома. В двадцать первом году тогда все кончилось, когда нас выгнали из партии. Настоящие коммунисты во всем городе – только мы и были, и вот нам осталось место только в подземелье. Теперь возвращается девятнадцатый год, сегодня женщины устроили демонстрацию. Я был здесь первым коммунистом, и я останусь им, пока я жив. Наши идеи опять приходят наново, какие были идеи… Мы – как братья Райты.
Товарищ Поджогов налил по второму залпу водки. И Поджогов перебил Ожогова:
– Теперь я скажу, председатель! – Какие были дела, как дрались!.. Я командовал партизанским отрядом. Идем мы лесом день, идем ночь, и еще день, и еще ночь. Вот где я решил, что всю страну надо застроить трамваями, чтобы не было таких переходов. И вот на рассвете слышим – пулеметы.
Поджогова перебил Пожаров, крикнув строго:
– А как ты рубишь? – ты покажи, как ты палец держишь!
– Товарищи, – тихо сказал Ожогов, – дайте договорить идею. Слушайте, что будет. Не будет ни рождества, ни пасхи, ни воскресений, ни ночи и ни дня. Люди будут работать круглые сутки и круглые годы, и машины будут работать круглые годы и круглые сутки без останову. Дни и ночи будет одно и то же. Ночи мы зальем электричеством светлее солнца, и ночью будем жить, как днем, заводы, столовые, кино, трамваи, люди…
– Нет, ты как палец держишь при рубке, согнув или прямо?! – ты покажи!
– На лезвии. Прямо, – ответил Поджогов.
– Все на лезвии. Ты покажи. Вот, на ножик, покажи. Ты рыбине голову не отнесешь!
Поджогов взял сапожный нож, которым резался хлеб, и показал, как он кладет большой палец на лезвие.
– Неправильно ты рубаешь! – крикнул Пожаров. – Ты палец себе отшибешь, ты рыбину так не зарубишь! Я саблю при рубке держу не так, – я режу, как бритвой. Дай, покажу! – неправильно ты рубаешь!
– Товарищи, – молвил Ожогов и лицо его исказилось болью сумасшествия. – Мы об идеях должны говорить, о великих идеях, а не о рубке. Сейчас не рубить надо уметь, а на станке работать, – сейчас бескровная началась революция, строительство, когда крови надо бояться и стыдиться. Мы честью должны побеждать, а не ножами и кровью!.. Я о старом думаю, товарищи, и о новом. Сколько я по миру исколесил, не счесть, не об этом надо говорить. Был я матросом, был парашютистом, был наборщиком, был токарем по металлу, – и всю свою жизнь я думал не о том, токарь я или наборщик, а думал о лучшей жизни и заботился, как бы мне стать лучше, умней, грамотней и благородней. Нам необходимо человека уважать, а то теперь человеку вроде как надобно не верить, про человека думают, что существо в нем поганое, верить человеку и в человека вроде не полагается, человека теперь караулют, не верят и удивляются, когда он честный. Революция встала за честь, – в двадцать первом годе меня из партии прогнали, – теперь опять возвращается девятнадцатый, справедливость. Мы честно должны побеждать, трудом и умом, а не ножами и кровью!..
Ожогова перебил четвертый, он крикнул:
– Товарищ Пожаров! ты был в третьей дивизии, а я во второй, – помнишь, как вы прозевали переправу около деревни Шинки?!
– Мы прозевали?! – нет, это вы прозевали, а не мы.
– Мы прозевали?!
– Товарищи! – крикнул Поджогов. – И вот на рассвете мы слышим пулеметы. И жалко мне стало тогда людей, и повел я их в бой. Победили мы тогда, погнали беляков, но сосчитал я вечером бойцов, и… правду председатель говорит, надо строить дороги, мосты, заводы, социализм и идеи!..
– Слушайте об идеях, товарищи!.. Я был артистом, в балагане, – хуже не бывает, – а мы там о благородстве роли играли, и очень все любили благородных…
Глубоко за полночь люди в подземелье у печки спали, эти оборванцы, нашедшие себе право хранить свою честь в подземелье у печки кирпичного завода. Они спали, свалившись в кучу, голова одного на коленях другого, прикрывшись своими лохмотьями. Последним бодрствовал Иван Ожогов, их председатель. Он долго лежал около жерла печи, на животе, с лоскутком бумаги, положив бумагу на землю. Он мусолил и грыз карандаш, он хотел написать стихи.
«Товарищу Любовь Пименовне Полетике и ее родителю товарищу профессору», – написал он. – «Мы победили мировую», – написал он и зачеркнул. – «Мы зажгли мировой», – написал он и зачеркнул. – «Вы, которые греете кровавые руки», – написал он и зачеркнул. – «Надо быть умным и честным», – написал он.
Слова не шли к нему. Он долго лежал, опустив голову на исчерканный лист бумаги. Вокруг него спали коммунисты призыва военного коммунизма и роспуска тысяча девятьсот двадцать первого года, люди остановившихся идей, сумасшедшие и пьяницы, люди, которые у себя в подземелье и у себя в труде по разгрузке барж, по распилке дров создали строжайшее братство, строжайший коммунизм, не имея ничего своего, ни денег, ни вещей, ни жен, – впрочем, жены сами ушли от них, от их мечтаний, их сумасшествия и алкоголя. Сейчас эти люди пошли служить на строительство, утверждая, что идеи строительства – их идеи. В подземелье было очень душно, очень тепло, очень нище.
Иван Ожогов долго лежал на земле. Затем он поднялся с земли, взволнованный, он разбудил товарищей, – те медленно заскреблись на земле и заворочались.
– Товарищи! – закричал Иван. – Я вот не спал и думал о женщинах. Вы о женщинах подумайте, товарищи. Хожу я по строительству, был в женском бараке. Живет в бараке семьдесят одна женщина. Посмотрел, – и сразу видать, что живет семьдесят одно горе. Бабы там так распределяются: замужних ни одной, – которым больше тридцати лет, те все иль разведенки, иль вдовы, а которым до тридцати, – эх, товарищи, губы у них подведены! – ну, молодежь лет до двадцати двух я не беру, у них будущее. Дети под столом и под нарами ползают. И самое главное, смотришь на семьдесят одно горе, видишь – покорились судьбе, ничего не ждут. Женщин у нас на строительстве много, но менее, чем мужчин. И мужики, вы подумайте, лапаются, издеваются. Рабочие у нас сезонники больше, плотники, землекопы, грабари, каменщики, – живут артелями, и считай, что стряпуха у артели не только стряпуха, но и артельная жена, – так ее и нанимают, а иначе гонят. Техники, а то и прорабы, не говоря уже о десятниках, в кино зовут, в красные уголки, на физплощадки, – а затем бегает девка, плачет, и не потому плачет, что ребенка ей надуло, а потому, что человека в ней утоптали, человека бросили. – Охламон Ожогов помолчал. – Подумать только, – три грабаря девку изнасиловали, – как, небось, в ее бараке-то встрепенулись, плакали, небось, все над нею сообща. Инженеру Ласло женщины не простили. Женская доля – трудная, женщина стареет раньше, силы в ней меньше, дети у нее на руках остаются, а ставки одинаковые. Женщины лучше нас, мужиков. И конторских девок судить не надо, ей тоже жить хочется, она губки накрасит, ее в Голутвин на станцию ужинать повезут, – а под юбку надувает всем женщинам одинаково. – Да, пришел в барак и увидал сразу семьдесят одно горе, и все горя-гореванья одинаковые. Я слово сказал женщинам, плакали. Женщины правильно за себя заступились.