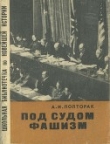Текст книги "Том 4. Волга впадает в Каспийское море"
Автор книги: Борис Пильняк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 31 страниц)
Глава пятая
Искусство красного дерева было безымянным искусством, искусством вещей. Мастера спивались и умирали, а вещи оставались жить, жили, – около них любили, умирали, в них хранили тайны печалей, Любовей, дел, радостей. Елизавета, Екатерина – рококо, барокко. Павел – мальтиец, Павел строг, строгий покой, красное дерево темно заполированно, зеленая кожа, черные львы, грифы, грифоны. Александр – ампир, классика, Эллада. Люди умирают, но вещи живут, – и от вещей старины идут «флюиды» старинности, отошедших эпох. В 1928 году – в Москве, в Ленинграде, по губернским городам – возникли лавки старинностей, где старинность покупалась и продавалась, – ламбардами, госторгом, госфондом, музеями: в 1928 году было много людей, которые собирали – «флюиды». Люди, покупавшие вещи старины после громов революции, у себя в домах, облюбовывая старину, вдыхали – живую жизнь мертвых вещей. И в почете был Павел – мальтиец – прямой и строгий, без бронзы и завитушек.
Братья Бездетовы жили в Москве на Владимиро-Долгоруковской, на Живодерке, как называлась Владимиро-Долгоруковская в старину. Они были антикварами, реставраторами, – и они, конечно, были «чудаками». Такие люди всегда одиночки, и они молчаливы. Они горды своим делом, как философы. Братья Бездетовы жили в подвале, они были чудаками. Они реставрировали павлов, екатерин, александров, Николаев, – и к ним приходили чудаки-собиратели, чтобы посмотреть старину и работу, поговорить о старине и мастерстве, подышать стариной, облюбовать и купить ее. Если чудаки-собиратели покупали что-либо, тогда эта покупка спрыскивалась коньяком, перелитым в екатерининский штоф, и из рюмок бывшего императорского – алмазного сервиза.
…А там, у Скудрина моста, – там ничего не происходит.
Город – русский Брюгге и российская Камакура.
Яков Карпович просыпался к полночи, зажигал лампу, ел и читал Библию, вслух, наизусть, как всегда, как сорок лет. По утрам к старику приходили его друзья и просители, мужики, ибо Яков Карпович был ходатаем по крестьянским делам. Мужики в те годы недоумевали по поводу нижеследующей, непонятной им, проблематической дилеммы, как выражался Яков Карпович. В непонятности проблемы мужики делились – пятьдесят, примерно, процентов и пятьдесят. Пятьдесят процентов мужиков вставали в три часа утра и ложились спать в одиннадцать вечера, и работали у них все, от мала до велика, не покладая рук; ежели они покупали телку, они десять раз примеривались, прежде чем купить; хворостину с дороги они тащили в дом; избы у них были исправны, как телеги, скотина сыта и в холе, как сами сыты и в труде по уши; продналоги и прочие повинности они платили государству аккуратно, власти боялись; и считались они: врагами революции, ни более ни менее того. Другие же проценты мужиков имели по избе, подбитой ветром, по тощей корове и по паршивой овце, – больше ничего не имели; весной им из города от государства давалась семссуда, половину семссуды они поедали, ибо своего хлеба не было, – другую половину рассеивали – колос к колосу, как голос к голосу; осенью у них поэтому ничего не родилось, – они объясняли властям недород недостатком навоза от тощих коров и паршивых овец, – государство снимало с них продналог и семссуду, – и они считались: друзьями революции. Мужики из «врагов» по поводу «друзей» утверждали, что процентов тридцать пять «друзей» – пьяницы (и тут, конечно, трудно установить, – нищета ли от пьянства, пьянство ли от нищеты), – процентов пять – не везет (авось не только выручает), – а шестьдесят процентов – бездельники, говоруны, философы, лентяи, недотепы. «Врагов» по деревням всемерно жали, чтобы превратить их в «друзей», а тем самым лишить их возможности платить продналог, избы их превращая в состояние, подбитое ветром. Яков Карпович писал чувствительные и бесполезные грамоты. Приходил к Якову Карповичу – враг отечества, – человек, сошедший с ума, Василий Васильевич. Был Василий Васильевич до революции управским – земским письмоводителем, начитался в увлечении агрономических книг. В 1920 году он пошел на землю, дали ему десятину земли, пришел он на свою десятину с голыми руками и с горячим сердцем, сорокалетний человек: в 1923 году на Сельскохозяйственной Всероссийской выставке получил он золотую медаль на бумаге и похвальные отзывы от наркомзема – за корову и за молоко, и за председательство в молочной артели; по весне 1924 года предложили ему сорок десятин земли, дабы построил он показательное хозяйство, – двадцать десятин он взял, к 26-му году у него было семнадцать коров, нанял он тогда рабочего и – пропал: стал кулаком; к 27-му году у него осталось пять десятин и три коровы, – остальное раздал податями, займами и налогами; по осени 28-го года он от всего отказался, решив вернуться в город в письмоводительское состояние, – несмотря на то, что по осени 28-го – на плотах через Волгу, на проселках, в трактирах и на базарах мужики толковали – о цифрах, о том, что сдать в кооператив пуд ржи – рубль восемь гривенников, купить в этом же кооперативе – по ордеру – пуд ржи – три-шесть гривен, а на базаре продать пуд – шесть рублей. Василий Васильевич вернулся в город – и – сошел с ума, не имея сил вырваться из кулаческого состояния. Села да деревни в этих местах не особенно часты, леса, болота.
Яков Карпович потерял время и потерял боязнь жизни. Кроме прошений, никому не нужных, он писал еще прокламации и философские трактаты. До тоски, до тошноты был гнусен Яков Карпович Скудрин.
Город – русский Брюгге и российская Камакура. В этом городе убили царевича Дмитрия, в шестнадцатом веке. Тогда Борис Годунов снял колокол со Спасской кремлевской церкви, тот самый, в который ударил поп Огурец, возвествуя об убийстве; Борис Годунов казнил колокол, вырвал ему ухо и язык, стегал его на площади плетьми вместе с другими дратыми горожанами – и сослал в Сибирь, в Тобольск. Ныне колокола над городом умирают.
Яков Карпович Скудрин – жив, у него нет событий.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В 1744 году директор китайского каравана Герасим Кириллович Лобрадовский, прибыв на кяхтинский форпост, принял там в караван некоего серебряника Андрея Курсина, уроженца города Яранска. Курсин, по наказу Лобрадовского, поехал в Пекин, дабы там узнать у китайцев секрет производства фарфора, порцелена, как тогда назывался фарфор. В Пекине, через русских «учеников прапорщичья ранга» Курсин подкупил за тысячу лан, то есть за две тысячи тогдашних русских рублей, мастера с Богдыханского фарфорового завода. Этот китаец показал Курсину опыты производства порцелена в пустых кумирнях в тридцати пяти ли от Пекина. Герасим Кириллович Лобрадовский, вернувшись в Санкт-Петербург, привез туда с собою и Курсина, и писал государыне донесение о вывезенном из Китая секрете порцеленного дела. Последовал высочайший указ, объявленный графом Разумовским барону Черкасову об отсылке приехавших из Китая людей в Царское Село. Почести Курсину были велики, но его воровство проку не дало, ибо на деле выяснилось, что китаец обманул Андрея Курсива, «поступил коварно», как тогда сообщалось в секретном циркуляре. Курсин вернулся к себе в Яранск, страшась розог. – Одновременно с этим, 1 февраля 1744 года, барон Корф заключил в Христиании секретный договор с Христофором Конрадом Гунгером, мастером по фарфору, обучавшимся, как он говорил, и познавшим мастерство в Саксонии на Мейссенской фабрике. Гунгер, сторговавшись с бароном Корфом, секретно на русском фрегате приехал в Россию, в Санкт-Петербург. Гунгер приступил к постройке фарфоровой фабрики, впоследствии ставшей императорским фарфоровым заводом, – и приступил к производству опытов, попутно учиняя дебоши и драки на дубинках с русским помощником его Виноградовым, – и бесплодно занимался этим до 1748 года, когда был изгнан из России за шарлатанство и незнание дела. Гунгера заменил русский бергмейстер, ученик Петра, беспутный пропойца и самородок Дмитрий Иванович Виноградов, – и это он построил дело русского порцеленного производства, – таким образом, что русский фарфор ниоткуда не заимствован, будучи изобретением Виноградова; но родоначальниками русского фарфора все же надо считать яранца Андрея Курсина, кругом китайцами обманутого, и немца Христофора Гунгера, кругом Европой обманывавшего. И русский фарфор имел свой золотой век. Мастера – императорского завода, старого Гарднера, «vieux» – Попова, Батенина, Миклашевского, Юсупова, Корнилова, Сафронова, Сабанина – цвели крепостным правом и золотым веком. И, по традиции Дмитрия Виноградова, около фарфорового производства были – любители и чудаки, пропойцы и скряги, – заводствовали светлейшие Юсуповы, столбовые Всеволожские – и богородский купец-чудак Никита Храпунов, поротый по указу Александра Первого за статуэтку, где изображен был монах, согбенный под тяжестью снопа, в коий спрятана была молодая пейзанка; все мастера крали друг у друга «секреты». Юсупов – у императорского завода, Киселев – у Попова, Сафронов – подсматривал секрет поздно ночами, воровски, в дыру с чердака. Эти мастера и чудаки создавали прекрасные вещи. Русский фарфор – есть чудеснейшее искусство, украшающее земной шар.
Ямское Поле – Волков дом.
15 января 1929 г.
Рассказы
Поокский рассказ*
Два лыжных следа идут под гору. Если внимательно присмотреться, можно десятками мелочных примет установить, что на лыжах прошли две женщины, взрослая, уже немолодая, и девочка-подросток лет тринадцати: – женщина расставляет лыжи шире, чем мужчина, и шаг делает меньше. Очень хороший лыжный следопыт установил бы, что женщины – не русские. След идет с горы, по скату, очень прямой, – вниз к Оке. День декабрьский, морозный, снег сыплется, не мнется…
Нельзя сказать, кто герой этого рассказа, возникшего на русском Поочьи в Муромских лесах. Лыжный след принадлежит фрейлейн Леонтине Вальтер – во девичестве, – Леонтине Карловне Битнер – в замужестве. Ее муж, Готфрид Готфридович Битнер (крестьяне называли Федором Федоровичем), был земским зоотехником, разводил племенной скот и насаждал маслодельные заводы на пооцкие луга. Готфрид Готфридович, русский немец, обучаясь в Галле, встретил фрейлейн Леонтину Вальтер, они полюбили, поженились, – и она вместе с ним приехала в Муромские леса коротать русские дни: муромские дни стали отсчитывать годы. – Если Битнеры суть герои этого рассказа, тогда надо утвердить, что человеческое всегда человечно: пусть немецкая культура шьет свою вышивку на пооцких суходолах. Леонтина Битнер – как, какими словами рассказать, что вот этот лыжный след, прямой, белый, твердый, прошедший по суходолу к Оке, – есть символ этой женщины, этой высокой, худощавой, красивой женщины, всю свою жизнь проходившей в белых платьях с глухим воротником и с глухими рукавами?.. – Лыжный след девочки возник через десятилетья: фрау Леонтина Битнер навсегда была бездетна.
Глава первая рассказа – возникла в тысяча девятьсот одиннадцатом году и протекла в губернском городе.
В доме агронома-зоотехника Готфрида Готфридовича Битнера разместился строжайший немецкий порядок, недоставало только курантов кирки в часы немецкого регламента. Тринадцать градусов тепла хранились в доме круглый год; рододендроны в зале-гостиной росли как инженерные постройки; пол блестел солнцем, а на пороге в гостиную незаметные стояли туфли фрау Леонтины, как такие же туфли стояли на порогах кухни, столовой и спальни, для каждой комнаты свои туфли. Очень много было в комнатах солнца, покойствовавшего в тишине дома. Минута в минуту в семь было кофе. Минута в минуту в десять потухало электричество. Дом стоял на окраине города, большими своими окнами глядел на губернию, на пригородные пустыри, на тюрьму, на Заочье.
Фрау Леонтина только несколько слов могла произносить по-русски, с тяжелым трудом. Агроном Битнер утром уходил в управу, в черном костюме, в рыжих ботинках, бритый и круглоголовый. Каждый день, от четырех до семи, за отдыхом, он говорил о сепараторах, о племенных телках и нетелях, об Эрнесте Геккеле, Бюхнере (произнося Бюхнера – Бихнер), о Мечникове, о его «Сорока годах искания рационального мировоззрения»: к нему в эти часы приходили агрономы, крестьяне, кооператоры, маслоделы, студенты, – он курил толстейшую сигару. С семи, после ужина, он читал книги в переплетах, с красно-синим карандашом в руках (и автору этого рассказа только единственный раз пришлось видеть – в руках Готфрида Готфридовича – осмысленное применение красно-синего карандаша, когда красным карандашом делались положительные пометки, синим же – отрицательные, строгим правилом). Без пяти десять он был в постели, ровно в десять потухал свет. Детей у Битнеров не было.
Иногда Готфрид Готфридович уезжал в уезд, – тогда на эти дни дом замирал в тишине.
Глава первая рассказа должна начаться с возникновения в быте Битнеров юноши Алексея Битнера, племянника Готфрида Готфридовича. Юноша, сын старшего брата Готфрида Готфридовича, приехал к ним на зиму, чтобы окончить в этом городе реальное училище. И эта же первая глава сообщает о девушке-курсистке, Шуре Белозерской: Шура Белозерская – никак не эпизод этого рассказа. Она была студенткой – Петровской тогда – сельскохозяйственной академии, выученица Готфрида Готфридовича.
Реалист Алексей Битнер, сын русской матери, никак не мог поспевать к кофе и каждодневно принимать ванну. Готфрид Готфридович прозвал его – «шалаш некрытый», по-русски. Юноша читал Достоевского и Соловьева, твердил брюсовские стихи, и по естественным наукам с трудом у него выходили тройки. Впрочем, Готфрид Готфридович не тратил на него времени, предоставив его фрау Леонтине. Ласков ли был юноша, или в нем говорил пол, запутанный родством, – этого не знал он сам, – и он, конечно, не умел разбираться в бытейском и духовном мире фрау Леонтины. Фрау Леонтина вела хозяйство, помогала мужу в его литературных работах, рылась в справочниках (также с красно-синим карандашом), переписывала доклады и статьи для «Сельскохозяйственного вестника» и для «Зоотехнии». Реалист ходил в школу, учил уроки. В новом городе дружб у него еще не возникло. В досуги он приходил к фрау Леонтине, ластился к ней, звал ее на диван, и на диване, положив голову свою к ней на колени, на белое ее платье, читал вслух ей – Брюсова, Андреева, Чирикова, – то, что попадалось в толстых журналах. Читая, ее рукою гладил он свои щеки, – и, отрываясь от чтения, целовал белую ее руку. Прощаясь, они целовались. Все это отступало от немецких правил, – быть может, ей казалось, что он, юноша, оторванный от матери, от русской матери, нуждается просто в материнской ласке? – быть может, он восполнял отсутствующую у нее заботу матери к ребенку, потому что своего сына у нее не было? – ей тогда было тридцать три года, – быть может ей – женщине – нужна была человеческая ласка?
Реалист был переполнен всяческими мечтаниями, как и подобает в осьмнадцать лет, когда все впереди. Реалист был наполнен любовиями к миру и ко всему мирскому, еще непознанному. Он был общителен, шутлив, озороват, – вскоре у него появились друзья, – вскоре сам он не знал, в какую из десятка его подруг гимназисток, Кать, Оль, Зин, Ась, – он сегодня влюблен, – время его заполнилось, кроме уроков, свиданьями с друзьями и любимыми девушками. С друзьями он вслух читал «Гоголя и черта» Мережковского, «Толстого и Достоевского» Вересаева, – подружкам, – во мраке кинематографа, – читал стихи Бальмонта. Четверть принесла двойки. Готфрид Готфридович разъяснил, что такое значит – «шалаш некрытый». Фрау Леонтина поступила круто, строжайше предложив ему войти в ее регламент: на час в день он может выходить гулять, с коньками. на каток; в театр и в кино он может отправляться только раз в неделю, по субботам; друзей он может приглашать к себе только в воскресенья, он должен говорить, куда он ходит, и может в гости выходить, – опять таки в субботу, выбрав по желанию гостей или кино, – девушки были выкинуты из обихода. – Здесь надо говорить о том, как иной раз находит коса организованности немецкой на камень российских безалаберств: потому, что однажды, удрав потихоньку, ночевал Алексей в прихожей на сундуке, ибо двери, сколь он ни дубасил в них и не ломал, не отворились, – потому, что, опоздав к кофе на три минуты, кофе он не получал – – потому, что очень странными были минуты примирения, когда фрау Леонтина тихо приходила к нему в комнату, смотрела, что он читает, гладила его голову и щекою своею прислонялась к его щеке. К весне все это кончилось тем, что юноша Алексей захворал острой формой неврастении: врачи повелели ему елико возможно больше гулять, – в реальном дали ему бумажку, что может он появляться на улицах позже восьми, в целях лечения, – а дома трижды в сутки Готфрид Готфридович, ворча о шалаше некрытом, поливал его из ведра подсоленной водою.
На рождественские каникулы, когда первые приступы неврастении приходили к Алексею в ряд с прибывающими и солнечными предъянварскими днями, когда по утрам не мог Алексей поднять с подушки развинченной головы и не мог спать ночами, когда метался он от буйства к ипохондрии, часы ипохондрии вылеживая на диване лицом в подушки, – на каникулы приехала из Москвы Шура Белозерская, некрасивая, в сущности, девушка, годами старшая, чем Алексей.
В сумерки однажды, когда Готфрид Готфридович с фрау Леонтиной поехали за покупкой к сочельничьей елке, Алексей сказал Шуре, рассматривая свой помятый носовой платок:
– Видите вот этот носовой платок. Утром он был свеж и бел, сейчас он мят и сер. Это жизнь. Жизнь – это серая стена, около которой, не видя ее, тоскуют люди. Сегодня я шел по улице, я увидел, как на морозе корчится нищая старуха, – мне захотелось кричать и плакать, – я отдал ей все мои деньги и я поцеловал ее… Посмотрите, вы тоже будете, как этот смятый платок.
Шура ничего не ответила, Алексей ушел к себе и лег на диван, носом в подушки. Около часа была тишина. Тогда Шура на цыпочках прошла к Алексею, наклонилась к нему, потрогала его голову руками, поцеловала его затылок. Алексей медленно повернулся, взял ее плечи, посмотрел на нее, привлек ее к себе, поцеловал в губы, положил голову ее себе на грудь, сказал:
– Мы – несчастные люди, мы – как тени. Как Диоген, мы при солнце ходим с фонарями, потому что мы слепы. Я хочу тебя полюбить, но я не могу, у меня нет сил.
Шура ничего не ответила, – она нашла его губы и поцеловала. Алексей сказал:
– Уйди. Я хочу быть один.
Шура ушла. Приехали старшие. Минута в минуту в семь был ужин. Минута в минуту в десять погаснул свет. Алексей зажег секретную свою свечку, лег с книгой. В одиннадцать, со свечкой в руке, Алексей стал гвоздем сверлить стену в соседнюю комнату, в комнату приезжих. Из-за стены он услыхал шепот:
– Зачем ты портишь стену? Тебе не хочется спать? – приходи ко мне, будем разговаривать.
– Я не одет, – ответил Алексей.
– Ну, так что? – мы же не мещане. Я тоже разделась, – ответила Шура.
Алексей пришел к ней, накинув на плечи плед. Она лежала, до подбородка закрыв себя одеялом. Алексей сел на край кровати. Он заговорил о Гамсуне, о гамсунских несбывающихся Любовях.
Он сказал:
– Я не могу спать ночами. Весь мир, все мои представления о мире и все мои инстинкты я сейчас перестраиваю. От детства мне казалось, что я – центр, от которого расходятся радиусы жизни. Теперь мне ясно, что я только пешка в лапах жизни. – Нет, – Александра, я никогда не полюблю тебя.
Затем он сказал:
– Александра, мы же без предрассудков. Я никогда не видел обнаженных женских плеч. Покажи мне.
Она молча обнажила плечо. Он рассматривал, как инженеры рассматривают новую машину.
– Можно поцеловать? – спросил он.
Она кивнула утвердительно головою. Он поцеловал так же, как дегустаторы распробывают качества вина.
– Ты девушка, Александра? – спросил он.
– Нет, – ответила она. – Был такой человек, когда я в последнем классе гимназии…
Алексей перебил ее, он сказал:
– Мне неинтересно, Александра. Я не люблю тебя, прости. Я пойду одиночествовать.
И он ушел. – Все же он провертел в стене дырочку, дырочка приходилась к изголовью постели Шуры. Ночами Алексей пододвигал стул к дырочке и разговаривал через нее с Шурой, доказывая ей, что он не любит ее. Больше он не ходил к ней ночами. Два раза она приходила к нему, – ей было холодно, и она залезала к нему под одеяло, чтобы слушать ту кашу, которая творилась в его голове. – В ночь, когда назавтра Шура должна была уезжать в Москву, через дырочку Алексей сказал ей:
– Александра, мне стыдно сознаться. – Я ни разу в жизни не целовался с женщиной. Мне страшно думать, что это будет с любимой женщиной. Я хочу, чтоб это было с тобой.
– Я тоже хочу, – ответила она, – приди ко мне сейчас.
– Нет, ты приди ко мне, – сказал он.
Он знал, что, если пойдет он, у него на пороге двери задрожат руки, и он будет совершенно влюбленным. – Так ни он к ней, ни она к нему и не пришли в ту ночь, – ни в ту ночь, никогда. Утром Алексей ушел в реальное. Шура уехала без него. Они не простились. Только на другой день он нашел записку, всунутую в книгу.
«Ах, Алексей! – Брюсовская холодность вам не к лицу. В провинции, на окраинах, живут такие девушки с ямками на щеках: от полнокровия им нужна брюсовская холодность. Продумайте хорошенько ноябрьскую ночь…» – так написала она ему такое, чего он не понял.
В январе, по примеру с нищей, Алексей поцеловал в лысину учителя математики, в слезах сказав ему о том, что он милый и несчастный, как мир, – в этот же день Алексея освободили от занятий, и Готфрид Готфридович стал лить на него по три ведра в сутки соленой воды. В январе ж Алексей с компанией гимназистов угодил в публичный дом, впервые в жизни; инстинкт чистоплотности заставил его быть только свидетелем, – но на другой же день он завопил, что весь мир и он сам в первую очередь заражены сифилисом, чтобы его не трогали, чтобы не заразиться. Теперь сам он уже никуда не хотел идти, просиживал дни у печки, а в сумерки, несмотря на выдуманный свой сифилис, шел к фрау Леонтине, ластился к ней, клал голову к ней на колени, говорил, что она единственный его человек, целовал ее руки, шею, глаза и щеки. А ночами, в бессонницы, всю кашу своих домыслов он изливал в письма к Шуре Белозерской в Москву. Шура ему но отвечала ни разу.
В начале февраля в Москву на съезд на неделю поехал Готфрид Готфридович. Готфрид Готфридович вернулся и передал Алексею его – Алексеевы – письма к Шуре. Письма были распечатаны. Готфрид Готфридович сказал, передавая письма:
– Шура просила вернуть тебе твою белиберду. Я прочитал, – какие безобразия ты пишешь девушкам!
Алексей полез на дядю с кулаками, чтобы доказать ему возмутительность чтения чужих писем. Дядя отшутился, в шутке взяв руки Алексея и помяв ему кости. Алексей не понимал такой гадости – ни со стороны Шуры, ни со стороны дяди. Готфрид Готфридович сказал:
– Ты разорви эти письма, тебе должно быть стыдно за них.
Алексей пошел читать письма фрау Леонтине. Тогда Готфрид Готфридович, несвойственно для немцев осердившись, отнял эти письма и бросил их в печку. И тогда впервые увидал Алексей, как плакала фрау Леонтина, крупными безмолвными слезинками.
Здесь кончается глава первая рассказа. Алексей уехал в мае от Готфрида Готфридовича – навсегда, чтобы поступать в жизнь.
Глава вторая рассказа – истоками своими имеет главу первую, но узлы ее развязались пять лет спустя. За эти годы возникла война, увертюра революции. В эту увертюру Готфрид Готфридович купил себе на реке Кадомке, над Окою, усадьбу. Сам он по-прежнему жил в губернском городе, разъезжая по уезду, – в усадьбе же посадил фрау Леонтину, где она примерное немецкое завела хозяйство, молочное, маслобойное, свиное, усадьбу покрыв, по-немецки, черепицами.
Надо восстановить историческую обстановку. Проходили четырнадцатый, пятнадцатый годы: война с немцами, когда каждая победа немцев на фронте отражалась немецкими погромами в тылу. Фрау Леонтина почти не говорила по-русски. В колоссальном одиночестве (излюбленное немцами слово – колоссал), в чужой стране, в непонимаемой стране, во враждебной стране (ибо, все же, Германия была страною рождения и – в дали – была идеалом), без языка, гордая эта женщина, молчаливая, всегда в белом платье, – неделями, месяцами, одиночествовала в чистоте и порядке поистине уже немецкого под черепицами дома, в коровниках, где пол блестел, в свинарниках, где свиньи утверждали неизвестную в России истину того, что свинья – чистоплотнейшее животное. Вечера проходили у лампы с книгами в напряженном слухе, когда инстинктивно слушали уши – не зазвенел ли уездный колокольчик пары Готфрида Готфридовича (который настоятельно стал к этому времени Федором Федоровичем!), – не крадутся ли погромщики громить ее – немку?.. – Зимами в сумерки уходили лыжные следы: женщина шла ровно, покойно, чуть наклонив вперед и вниз головой, руки ее не по-русски были отброшены назад.
Готфрид Готфридович – Федор Федорович – наезжал всегда неожиданно, вечерами, – справлялся о телках и нетелях, – с фонарем обходил хозяйство, – говорил политические новости, шепотом сообщал и о русских, и о немецких победах, шепотом ставил прогнозы сепаратного мира, – затем отпирал свиной кожи свой портфель и садился к письменному столу за бумаги, за сине-красный карандаш: он был очень занят, он очень спешил. Перед сном, прячась от фрау Леонтины, он вынимал из кармана и клал под подушку револьвер.
Наутро он шел в волостное правление к волостному писарю, шутил с ним, стараясь без акцента говорить по-русски. А в полдни, после обеда, не ложась по немецкому обычаю отдохнуть до кофе, он уезжал дальше, запахивая горбатый свой нос в воротник шубы, – фрау Леонтина оставалась одна. В этот день вечером особенно крепко засовывала она засовы, особенно тщательно просматривала замки: замки и засовы – единственное русское в ее хозяйстве, ибо у немцев нет в деревенском обиходе громил, замков и засовов. Так шли недели и месяцы. Рабочими у нее служили татары, народ более честный, чем русские, – так же, как она, плохо говорившие по-русски: они понимали друг друга, – но российское окрестное население «немкину усадьбу» обходило стороной.
Об Алексее не было никаких вестей; где-то на фронте он воевал в качестве артиллерийского офицера. Шура Белозерская бросила Петровскую академию в год войны. В дом к Битнерам она не приезжала ни разу, – мельком от Готфрида Готфридовича фрау Леонтина знала, что Шура поступила на службу в их губернии в качестве заведующего молочной станцией, на маслодельный завод, что она сошлась с кем-то и что у нее двое детей, две девочки, и одна из этих девочек – слепенькая.
И вот весной, в половодье эсеровской революции, фрау Леонтина получила от Шуры письмо: Шура просила приехать фрау Леонтину к ней, возможно скорее, для очень важных переговоров. Фрау Леонтина ответила, что она приедет на Духов день.
Надо было ехать тридцать верст. Фрау Леонтина приказала заложить лошадь к рассвету – в телегу, потому что в шарабане опасно было ездить. Она вышла к телеге в белом платье, в кружевной косынке на голове, в сером дорожном пыльнике, с капюшоном, вывезенным еще из Германии. В руках у нее был зонтик, руки ее были в белых перчатках. Она улыбнулась восходящему солнцу. Она сорвала цветочек с дороги. Она пошутила с татарином, дала ему ключ, чтобы тот взял больший запас овса. Татарин спросил, куда они едут. Она сказала. Татарин насупился.
– Не нада туда ехать, – сказал татарин.
– Потшему? – спросила она.
– Не нада, – ответил татарин.
Фрау Леонтина свела брови. Она села на торбу с овсом. Они поехали в российские поля, в щебет жаворонков. Они молчали. На полдороге фрау Леонтина развязала дорожную корзиночку, достала бутерброды, дала бутерброд татарину. Татарин улыбнулся и сказал:
– Я знай. Не нада туда ехать.
Фрау Леонтина взглянула на него гордо, – в достоинстве, она не спросила его – почему не надо туда ехать?..
Придорожные села и всесолнечный день ушли назад. К сумеркам, когда солнце кидало красные косые лучи, они приехали в то село, где был маслодельный завод. Их никто не встретил. Она постучала в окно, спросить, где живет Шура Белозерская: в окне – она видела – появился старинный знакомый агроном-маслодел – и сейчас же исчезнул, – высунулась баба, спросила:
– Вам Александру Ивановну? Она вот по этой лестнице в мезонине.
Фрау Леонтина пошла по лестнице в мезонин. В комнате плакал ребенок, никто не откликнулся. Косые красные лучи учиняли сумрак в комнате и беспокойство, уперлись в помятый самовар и разбивались в нем. В комнате пахло только что спеченным черным хлебом и пеленками – русский запах. Шура вышла из соседней комнаты с тазом в руке. Она увидела фрау Леонтину, – и она заговорила так, точно они виделись последний раз вчера:
– Здравствуйте, Леонтина Карловна, садитесь. Я сейчас вылью таз.
Фрау Леонтина стояла у дверей, дожидаясь. Шура вернулась, вымыла руки у ручного умывальника над ведром и села к столу.
– Нам надо объясниться, Леонтина Карловна, – сказала она. – Я думаю, что нам обеим очень тяжело. Произошла революция, которая уничтожает все предрассудки. Мне ужасна та ложность, в которой я живу. Те две девочки, которые у меня родились, – дети Готфрида. Посудите сами, – я больше, чем вы, имею право носить имя его жены.
Фрау Леонтина прервала Шуру приказывающим жестом руки. Она сказала, первый раз, должно быть, очень правильно по-русски:
– Да, мы будем иметь с вами беседу. Но прежде, чем говорить с вами, я должна переговорить с Готфридом Готфридовичем. Я жду вас у себя. До свиданья. –
Прямая, совершенно достойная, которую ничто не может замарать, фрау Леонтина вышла из комнаты. Возница ожидал, не распрягая. Она села на телегу, сказала:
– Домой.
Они молча съехали со двора. Солнце село за землю, свет был лиловым. Ночь пришла скоро, как всегда в мае. В лугах полошились птицы. На полдороге обратно их догнал конский топот: верхом мчал Готфрид Готфридович. Татарин остановил лошадь. Готфрид Готфридович, в молчании, без слов, бросился при дороге на землю, в придорожную пыль, лицом к земле.
Фрау Леонтина сказала по-немецки:
– Встань, Готфрид. Не унижайся перед Саддердиновым! – и приказала по-русски татарину: – Езжайте!
Татарин нукнул лошадей. – Они уехали. Они приехали домой, – и всю ночь не потухал свет в окнах битнеровской мызы. Всю ночь татарин простоял у окна, тайком прислушиваясь к свету в окне, – лицо татарина было раздумчиво и печально, и на усы ему села роса. В комнатах была тишина, беззвучная, – татарин подсматривал: всю ночь, ни разу не двинувшись, не двинув ни одним мускулом, просидела фрау Леонтина в кресле, откинув голову к спинке, вытянув ноги. В шесть она поднялась и, с ключами в руке, пошла на птичий двор. Пошел день забот и будней. Татарин не спускал глаз с фрау Леонтины.