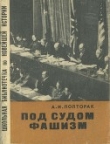Текст книги "Том 4. Волга впадает в Каспийское море"
Автор книги: Борис Пильняк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 31 страниц)
Дело смерти*
О березе.
Безразлично, в березовой ли роще береза или вот та, что стояла против каменных окон Института Жизни, – русская береза, столь воспетая поэтами, навсегда нестерствующая, – белая береза, как свеча российских полевых печалей, печалующаяся российскому серому небу. Должно быть, это очень красиво, не только в роще, но и здесь, на каменном дворе.
Но надо размышлять так, как надо размышлять через каменное окно лаборатории Института Жизни, когда за окном старинные постройки и заасфальченный двор. Эта живая береза навсегда прикована к своему углу двора, никогда не уйдет отсюда: ее движение начинается за смертью, она очень крепко вросла корнями в землю. Безразлично, эта ли береза или березы в соловьиной роще: клиническим диагнозом надо установить, – самое характерное свойство березы, леса вообще – неподвижность, когда движение начинается только после топора дровосека, если это андерсеновская сказочность. И именно эта неподвижность вызывает у человека жалость к березе, жалость к древесной природе, – но от леса – человеку – эта же дана в наследие покорная неподвижность, когда на зимы березы умирают – человеческой смертью, – подлинной же березовой смертью умирают – для человеческой жизни. Поэтому лес, как береза, успокаивает человека, углубляет человека в самого себя, – человек не осознает своей жалости, которую вызывают береза и лес их неподвижностью.
Впрочем, у человеческой особи, которой нужна успокоенность, нет жалости к лесу, возмущающего и возбуждающего в березе, – точно так же, как для строящего человека лес противен его фатализмом, заложенным в лесной природе, действующим так же, как человеческая горькая глупость, которой нет возможности помочь.
Закон один: бесконечное органичение жизни, когда жизнь начинается после смерти, таится под этим белыми свечами коры березы, – березу видно через окно, – через стекла окон береза и мысли о ней идут в человеческое сознание, в черепную человеческую коробку.
Институт Жизни был институтом при Московской Коммунистической Академии, старый княжеский особняк был превращен в лаборатории Института. Над Москвой и над Институтом проходили рассветы и закаты, – то есть, в Космосе своими орбитами вращалась – Земля, любительница, как старинная замоскворецкая купчиха, погреть все свои бока около солнышка. По утрам в Институт приходили научные сотрудники Института, профессора, ассистенты, лаборанты, чтобы двигать работу Института. Иные из сотрудников не уходили из Института по суткам и по неделям. Иные поместились жить в Институте в сводчатых княжеских антресолях, похоронив себя там знанием и книгами. Все сотрудники были людьми той породы, которую человечество ссылает в науку: у таких людей есть традиции отцов физических и отцов знания, есть умение видеть в микроскоп и читать химические формулы, есть умение провидеть будущее, но у них часто нет выходных костюмов, носового платка и лишнего рубля, и у них могут быть различнейшие характеры, не мешающие их работам, они могут влюбляться, изменять, ненавидеть, конкурировать. Жизненные их интересы связаны с Институтом и тою таинственной сеткой, по которой получается – хамская вещь – жалованье. В лабораториях Института покойствовали формулы, колбы, микроскопы и человеческий мозг, проникающий в тайны формул, – там были сводчатые потолки, и крепостные стены хранили тишину дома, – березка за окном была случайностью.
На антресолях, куда надо было проходить винтовой лестницей, по комнатам жили научные сотрудники. В самой дальней, с окнами на солнце и в тишину парка, жил химик Сергей Андреевич Вельяшов. Вельяшову было тридцать четыре года, – он был очень здоров и очень красив, высоколобый, широкоплечий, широкожестый. Он умел весело работать, он был озорновато талантлив, молодой химик, идущий к большой работе. К себе на антресоли, где жил он один, без семьи, он перенес все, что осталось у него от стариннейшего его кавалергардско-масонского рода, немного фарфора, немного книг осьмнадцатого века, много портретов, много грамот и семейных записей, – этого хватило, чтобы сделать его комнату комнатой антиквара и чтобы особенно подчеркнуть его стол, рабочий стол химика у светлого окна в книгах и тетрадях с формулами. У этого стола очень многие его друзья перешутили с ним очень многие вечерние часы ожидания завершений опытов.
Он, Вельяшов, застрелился из старинного пистолета, не оставив никакой записки.
Профессор Павлищев, академик, ректор Института, снес его труп в институтскую мертвецкую. Ничего, что указывало бы на причины самоубийства, найдено не было. В бумагах был найден только один листок, который казался неожиданным в его бумагах, – но этот листок был написан за год до его смерти и валялся глубоко в ящике. Вот этот листок:
«Целый день просидел неподвижно в кресле, и мысли все время разбивались по мелочам: переплет окна, береза, белеющие изразцы печи, диван, книги, – все это перемещалось в плоскости и давило на сознание. Больше всего меня давил тот факт, что мухи, облеплявшие окно в свете дня, к вечеру исчезли. Изредка одна-другая прилетали в светящийся четырехугольник окна, жужжали заунывно и улетали обратно, прочь от окна. Я думал: «холод, а за холодом – смерть. Инстинкт жизни: лететь в темный угол от светлого окна, в тепло печи от холодного света. От холода смерть!..
«В жизни, в моей жизни, также есть холодное окно смерти, к которому изредка я подхожу. Там сияет свет, холодный, замораживающий. Идти за окно – это значит заморозить все чувства и мысли. Тогда хочется уйти назад, – там темно, гадко, удушливо, но там тепло, теплится жизнь.
«В полумраке комната принимала огромные размеры, и светившиеся закатом окна казались пропастями в бесконечность. Весь тот вечер я рылся в дедовских записях. Холодно!..» –
Профессор Александр Иванович Павлищев приказал вскрыть Вельяшова. Вскрытие установило, что все органы Вельяшова нормальны. Академик Павел Иванович Павлищев присутствовал при вскрытии. Вообще академик походил на птицу, сделанную так, как рисуют птиц дети: волосы разлетались крыльями, лицо изображало туловище, – но под носом у него сидела вторая птица: крылья – усы, туловище – седенькая бородка, клинышком. Академик топорщился всеми своими птицами, когда патологоанатом разводил руками.
– Я ставлю вопрос, – сказал Павел Иванович Павлищев патологоанатому, – отчего же он умер? – Случайной смерти не может быть!
– Все органы нормальны, сердце нормально, мозг нормален, – ответил анатом и пожал плечами.
– Ну, это надо исследовать, это надо исследовать, надо исследовать! – возразил Павел Иванович.
Анатом взял кусочки сердца, мозгов, секретные жидкости и направился в свою лабораторию. Павел Иванович Павлищев весь тот день сидел в комнате Вельяшова, роясь в его бумагах и архивах. Через каждый час он спускался к патологу с одним и тем же вопросом:
– Ну что, разобрались?
Анатом отвечал сердито и пожимал плечами.
– Разберитесь, разберитесь.
Наутро анатом разбудил Павла Ивановича на рассвете, пришел к нему, к его постели со стеклянной пластинкой, на которой был растянут кусок ткани сердца бывшего человека. Анатом был торжественен. Рассвет был синь.
– Вот видите, нашли, – сказал академик. Ученые пошли к микроскопу.
Академик снял пенсне, чтобы вникнуть в мир страшно-малых величин. Академик крякнул и оторвался от микроскопа. Он посадил пенсне и сказал, рассматривая анатома:
– Ничего не могу понять.
– Вот именно, – торжествуя ответил патолог. – Я так и думал. Поэтому я принес вам для сравнения образец нормальной ткани сердца.
Сравнили. Ясно: перерождение тканей, видное только в микроскопе и только при сравнении здоровой ткани с больною.
– Что же, от этого только он и умер? – спросил академик.
– Да, больше нет никаких причин, – ответил анатом.
– Посмотрим, – возразил академик, – и заговорил уездным учителем, обращаясь к собравшимся ассистентам, возвещая всем известные истины: – Какой нежный орган – сердце человека!., малейшее изменение мускулов, перерождение тканей, сужение или расширение сосудов кладут неизгладимую печать на человеческую жизнь и обрывают ее раньше времени. Но я должен сказать – – о самоубийстве мы очень мало мыслим как о чем-то неизбежном. Горькая обида растет в душе: кажется, что если бы был с человеком вместе, поговорил бы с ним, рассеял его мысли, наконец просто увез бы его куда-нибудь, дал ему другую работу, – тогда не случилось бы этого – –
Два дня академик Павел Иванович Павлищев провел на антресолях в комнате Вельяшова. Академик рыл архивы вельяшовского рода. За окном земля грела свои обочины, приходили рассветы и закаты. Две птицы лица академика углубленнейше вникали в геральдические акты, в родовые письма, в записи прадедов. Красный карандаш в белой руке профессора чертил на листке бумаги даты смертей и рождений, таблицы характеров отцов и дедов. От книг, от записей, от бумаги пахло столетьями и Вельяшовым, родовым запахом Вельяшовых, ибо старинные дворянские роды гордились не только своими геральдическими гербами, но и родовым запахом. Усы академика походили на воробья, голова его походила на ворону, глаза за очками были хитры и веселы.
Академик установил выписями из родовых записей, рассматриванием портретов и должными характеристиками – установил следующее обстоятельство, записанное академиком так: –
«Род очень старинный, материалы от эпохи Петра Первого. Материалы подтверждаются галереей предков. В каждом поколении было два типа. Один тип склонен к науке, к философии, в роду ряд масонов, вольтерьянцев, декабрист, земские деятели, люди имели склонность к тучности, к малоподвижности. Другой тип – сангвиничен, действенен, большей частью люди военной карьеры, голубые уланы, кавалергарды, низкорослы, худощавы, любострастники, со склонностью к алкоголизму. Все представители первого типа были глубоко одарены, второй тип был мелкотравчат. Люди первого типа, все до одного, включая и Сергея Андреевича Вельяшова, умирали в возрасте от тридцати трех до тридцати шести лет: для нас несущественны причины смерти. Люди второго типа, проделавшие многие походы, много раз раненые, часто глубокие алкоголики и, по-видимому, хворавшие венерическими болезнями, – доживали до семидесяти-восьмидесяти лет: сердце бреттера, кутилы выдерживало долговечную жизнь, и это долголетие передавалось на протяжении веков. Спокойные ученые, чиновники, религиозные философы, несмотря на прекрасные условия жизни, умирали все на подбор очень рано, в один и тот же срок».
В Институт Жизни из клиник Первого Университета был доставлен труп семидесятилетнего старика – для исследования. В «истории болезни» значилось, что умерший хворал сифилисом, связи с женщинами имел с четырнадцати лет, пить начал еще раньше, алкоголик, долго служил в публичном доме кассиром, дом служил ему клубом и развлечением. Человек умер, упав с лестницы в пьяном виде. Труп вскрыли. Патологоанатом был поражен сердцем: на том месте, где должно было быть сердце, был сморщенный мешочек, не имевший даже подобия нормального органа, – с таким сердцем нормальный человек не мог бы прожить и десяти минут.
Патологоанатом направился с сердцем на антресоли к Павлу Ивановичу. Павлищев рассматривал портреты, обе его птицы щетинились, он был очень сосредоточен. Анатом молча поднес к его глазам сердце. Академик спросил:
– Сердце утреннего старика?
– Да, – ответил патолог.
Академик скинул с носа пенсне, закинул их за спину, накрутив шнурок на палец. Академик заговорил, как ворчат старики:
– Я должен констатировать следующее, да, батенька мой. Сердце доказывает мою основную мысль, которую вы иллюстрируете этим примером. Сергей Андреевич Вельяшов застрелился – по наследственности, иных причин нет. Сердце, конечно, изменено наследственно. Мы еще не докопались, но факт устанавливается: наследственность – она определяет человеческую жизнь, и, когда мы недоумевали о причинах смерти Сергея Андреевича, мы не могли предположить, что таков был его путь, начертанный ему законом наследственности.
– Вы хотите сказать, что и самоубийство тоже наследственно? – спросил анатом.
– Боюсь что-нибудь утверждать, – ответил Павлищев. – Мы еще очень мало знаем, но – это та же болезнь. Один человек простуживается и схватывает насморк, другой при этих же обстоятельствах заболевает воспалением легких.
Академик сунул анатому листок, исписанный – рукою академика – красным карандашом.
– Как идут рефрижераторные работы в подземелье? – спросил Павлищев. – В бумагах Вельяшова я нашел запись, совпадающую с моими мыслями и проектами. Вот она. Вот одна очень существенная фраза: «Холод, а за холодом – смерть. Инстинкт жизни – лететь в темный угол от светлого окна». – Вельяшов делал наблюдение над мухами. Он не продумал закон до конца. – Академик помолчал. – Рефрижераторы поставлены? – спросил он.
– Да, ставятся, – ответил анатом.
– Отлично! – сказал академик и хитро улыбнулся. – Благодарю.
В Институте Жизни жили, как подобает жить в ученом учреждении. На антресолях стояли диваны, где люди спорили, спали и ели. Основной этаж был занят лабораториями. В подвалах были анатомическая и мертвецкая, и по приказу Павлищева делались склепы, где рефрижераторы должны были в будущем круглогодно держать одну и ту же температуру, много ниже нуля. В мертвецкой лежал труп Вельяшова. В день его похорон Институт не работал. Утром приехали красные дроги. У большинства сотрудников нашлись неотложные дела, – и за дрогами пошла реденькая толпа человек в пятнадцать, чтобы отдать последний долг человеку и чтобы подтвердить убожество человеческой смерти, когда и эти пятнадцать по очереди забегали в пивные выпить по кружке пива и съесть печеное яйцо, разговаривая по дороге о чем угодно, кроме мертвеца и смерти. Павел Иванович Павлищев все время шел за гробом. В Институте в это время оставались сторожа, дежурные ассистенты, и в мертвецкой холодали трупы.
Павел Иванович Павлищев, совершеннейший воробей, шел за гробом пешком, а обратно с кладбища ехал на трамвае.
Младшие сотрудники, как подобает им почтительно шутить над профессорами, шутили; химик сказал, тихо и кося глазом:
– А я думал, что он выйдет из Института только на свои похороны!..
Сосед усмехнулся, глянув на академика. Павлищев наклонился к ним, посмотрел и сказал очень тихо:
– Глупо, знаете ли, – гнить в земле, превращаться в другие низшие формы, – благодарю покорно!.. Надо иначе.
И академик благодушно улыбнулся.
Вечером в Институте собрались сотрудники, в химической лаборатории. Павлищев ходил между столами, руки назад, благодушествовал, говорил:
– Здесь в Институте мы сидим над вопросами биологии клетки, само понятие смерти для нас чуждо и враждебно. Уж лучше ехать на Северный полюс, там по крайней мере умрешь, но не сгниешь. Надо верить в знание, братики!
Вечерами Институт затихал. Немногие сотрудники следили за своими опытами, сидели по своим кабинетам, – если встречались в свободную минуту, то по традиции вечерних часов говорили медленно и тихо.
Этот вечер был длинным вечером Павлищева. Старик, одинокий человек, похожий на летящего воробья и ворону, весь вечер он просидел у себя в антресолях, над книгами и записями, высчитывая, формулируя. Поздно вечером он спускался в подземелье. Старые княжеские подвалы были превращены в склепы, там ставились рефрижераторы, – электрические лампы там горели неярко и там было зимне холодно. В анатомической, где на оцинкованных столах лежали мертвецы и пахло трупом, Павлищев задержался около лаборантов, пошутил и внимательно рылся в записях температур, давления воздуха, влажностей, которые были в подземельях. Оттуда он поднялся в химическую лабораторию, просил поспешить с анализом воздуха в подземелье, его химического состава. Затем академик вновь вернулся к себе на антресоли и сел за бумагу, за письма. Он написал немного коротких писем, запечатывая, он заливал конверты сургучом и ставил свою печатку. Письма адресовались Российской Академии Наук, Сорбонне, в Берлин, в Оксфорд, в Вашингтон. Поздно ночью профессор стоял около окна. Светало и на асфальтовом дворе едва-едва была видна белая березка. Академик переоделся на ночь, надел халат. Тогда вновь академик, в халате, в ночных туфлях пошел по замершим комнатам Института, обошел весь дом, спустился в подземелье, осмотрел гробницы, позадержался в мертвецкой. И только тогда лег в постель, чтобы спать. Был Павлищев в эти часы очень грустен и рассеян, глаза его были очень мягки, никак не хитрые.
Через неделю рефрижераторы были готовы.
И опять был вечер. Академик ездил в город по делам, на заседание и вернулся часов в одиннадцать, принял ванну и спустился с антресолей в шлафроке и со свечой в руках, ходил по полупустым лабораториям, подходил к сотрудникам, здоровался, разговаривал. Около анатома он задержался. Анатом не помнил впоследствии подробностей разговора.
Академик говорил:
– Человек – это отлитая форма жизни. Человечество еще ничего не знает о законах жизни. Нелепо разбивать форму, если она может пригодиться. Мухи застывают зимой и оживают летом. Семена сковываются морозом в почве и прорастают весной. Восстановить индивидуальную жизнь можно только тогда, когда будет сохранена ее форма. Наука должна придти к умению владеть человеческой жизнью, а я еще хочу посмотреть и прожить до тех пор, пока во мне есть жизненный рефлекс. Человечество пришло уже к способам лечения путем замораживания, – путем замораживания следует делать пересадку тканей. Вопросы бессмертия лежат, я полагаю, в области замораживания и оживления живого организма, – или по крайней мере – замораживание даст возможность сохранить форму до того времени, когда подоспеет человеческое знание.
Павлищев попрощался с анатомом, зашел в химическую лабораторию, чтобы взять там анализ воздуха подземелья, в рабочем своем кабинете взял со стола сводку подземельных температур, давлений и влажностей, достал шприц и пузырек с эфиром, – и пошел тогда к себе наверх.
В Институте было тихо и полутемно, шел рабочий будничный вечер. Академик грел себе воду, ставил последний клистир. И тогда, со шприцем, с кнопками и с листком бумаги, он пошел вниз, в подземелье. Его никто не встретил. Он прошел в склеп № 1. Дверь склепа кнопкой не прокалывалась. Павлищев вернулся обратно наверх, взял синдетикон. Синдетиконом он приклеил на двери склепа листок бумаги. Там было написано:
«Прошу хранить мое тело замороженным впредь до того, пока наука не найдет способа оживить меня.
П. Павлищев».
Академик прошел в склеп, прикрыл за собою дверь. В пустом склепе стоял цинковый стол. Академик воткнул себе в вену шприц и лег на стол.
…О березе.
Безразлично, в березовой ли роще береза или вот та, что стоит против каменных окон Института Жизни. – Русская береза, столь воспетая поэтами, навсегда нестерствующая, – белая береза, как свеча российских полевых печалей, печалующаяся российскому серому небу. Должно быть, это очень красиво, не только в роще, но и здесь, на каменном дворе.
Саратов,
июнь 1927.
Верность*
Посвящаю Марку
Двадцать лет тому назад было подполье молодости, была революция, были явки в домах незнакомых, но родных людей, сходки в бурьянах кладбищ, митинги в пыли пригородных рощ, – было двадцать лет от роду, была студенческая фуражка, было – не вера, но – знание, знание каждым мускулом и каждым лучом солнца, что мир прекрасен, труд прекрасен, жизнь – прекрасна, прекрасно человечество, – и все – впереди. На митингах в кладбищенских бурьянах надо было говорить всем сердцем о грядущей справедливости мира, о революции, – мира, против которого тогда восстал этот юноша, готовый обнять мир, – о революциях, которым этот юноша готов был отдать свою жизнь. Мир полицейских, жандармов, стражников, приставов – мир Империи – был вражественен и проклят, щетинился силою, бесправием, виселицами, тюрьмами, – и мир незнакомых домов, где были явки, где переутомленного человека кормили колбасой, поили чаем и осторожно укладывали спать на диване в столовой, иной раз двоих на одном диване, впервые встретившихся, – этот мир был миром братьев, миром справедливости, равенства, чести, где один за всех и все за одного, где нет слов «твое» и «мое», где направо тюрьма и смерть, налево – революция, ослепительная справедливость.
Этот рассказ посвящен любви.
Как приходит любовь, как уходит любовь и что дано человеку любовью? – великое ли бремя дано любовью человечеству и человеку – или великая радость, когда тяжесть любви – есть счастье? – как надо человеку нести любовь? – Тогда, там, где справа и слева были смерти, надо было быть честным и чистым, как христианин перед причастием, остатки каторжной христианской морали считали любовь грехом, – и тогда там нельзя было думать о любви между мужчиной и женщиной, тем паче – о плотской.
И все же было у него в этом двадцатилетии однажды – только однажды, чтобы остаться в памяти на всю жизнь! – прекрасное наваждение. Он встретил ее на нелегальной квартире, и столовая в желтых обоях, где за столом человек в жилете читал «Русское богатство», превратилась в чудесность, запомнившись на двадцатилетие, – и все превратилось тогда в чудесность: чашка чая, которую передавала эта девушка, слова, которые сказали они, его и ее дела, которые были и которые будут, – и весь мир провалился в чудесность, где море по колено, где мир по колено, и в этих высотах, где мир по колено, есть только она, ее слова, долетавшие из безмерных пространств, ее руки, передававшие баранки, косы, упавшие на грудь тяжестью спелых пшениц, голубые ее глаза, уходившие в бездонности – в безмерности пространств, где мир по колено. Толстый человек в жилете и с «Русским богатством» сказал тогда, что пора спать. Надо было одному остаться на диване в столовой. Миры перекраивались чудесностью бессонницы. Рядом спала – или не спала? – девушка, которая была больше мира. Он не знал даже ее имени.
Это все, что было в том двадцатилетии: жизнь сильнее человека и мудрее его, – это все, что осталось тогда этому студенту на горькую и длинную память о чудесностях, которые бывают в мире, чтобы не повториться и чтобы остаться больною занозой на всю жизнь. – На другой же день тогда опять стали справа и слева смерти, его понесло по перекати-полю подполья, из города в город, с завода на завод, с явки на явку, по сотням квартир, по путям и перепутьям революции, где направо рядом городовой Империи, впереди ослепительная справедливость и – путь только один – налево. Круги революции 905-го года замыкались, – и путь налево привел вправо: этот юноша оказался в тюрьме, сначала в уездной, затем в губернской, потом в пересыльной, чтобы затем коротать свое время в Коми области, где слово «зыряны» значит – «оттесняемые». И в уездную, а потом в губернскую и пересыльную тюрьмы, – приходила другая девушка, которую впервые он увидел в тюрьме и которая назвалась его невестой, присланная товарищами. Дальше была жизнь.
Как приходит любовь, как уходит любовь, что дано человеку любовью? – великое ли бремя дано человеку в любви или великая радость, когда бремя любви есть счастье? – Риф коралловый на морском дне, как ржинка в поле, как зверь, как земной шар, миры и солнца, – все в этом космосе родится, чтобы жить, родить и – умереть. Человек живет, родившись, чтобы жить, родить и умереть. Все живущее живет, чтобы рождаться. Рожденьем у человечества правит любовь. И давно надо было бы филологам и иным словоделам позаботиться о разработке и переработке слова любовь, ибо слово любовь – есть рождение, слово любовь есть – любовь собаки к человеку, а человека – к водке, – во имя любви люди шли и идут на костры и виселицы, и в публичных домах «играют» – «в любовь». Но понятия любви путаются не только многомысленностью слова любовь. Каждая историческая эпоха создавала и создает свои понятия любви, и каждая историческая эпоха имела свои законы рождения.
Двадцатые и тридцатые годы двадцатого века в России примечательнейше безэпоховствовали в законах рождения. Эпоха великой русской революции была все же мужской эпохой. Рушились классы и перестраивались общественные группировки, мужчины старых классов уходили в нети, женщины оставались для новых рук. Люди шли умирать и не знали своего завтра. Все теряли свое прошлое: одни во имя будущего, другие во имя прошлого. Редкий человек в ту эпоху не был трижды в супружестве и не имел множества любовниц и любовников, причем женщины выходили из этого – скажем, круговорота – к тридцати пяти годам, оставаясь вдовами, но мужчинам не были стыдны их седины и отекшие животы. У тех женщин, которые рождали детей, дети собирались от разных отцов, и растили детей чужие отцы. Многоженство и многомужество моралью тех лет, в сущности, не порицалось. Для стариков было правило, почти закон: писатели, художники, актеры, общественные деятели, старики – рушили старые свои семьи и женились на женщинах, возраст которых бывал иной раз меньше возраста дочерей этих стариков, причем случаев, чтобы пятидесятилетние женщины выходили замуж за двадцатилетних юношей, за очень малыми и очень громкими исключениями, почти не бывало. Социальная биология – история – дает определение этой особливости революционной русской эпохи. Дальше была жизнь.
Все в этом космосе живет, чтобы родиться, родить и умереть.
Тогда в мытарства тюрем приходила девушка, которая назвалась невестой, присланная товарищами, – и она вскоре приехала в Усть-Колым, в зырянское село, также сосланная. Через три месяца их повенчал зырянский поп. Через год у них родился первый ребенок. Через два года они были свободны с минусом шесть. Вся Россия хорошо знает эти минусы, три, шесть, все, – и они оказались в городе Томске, в Сибири. Революция была раздавлена, всероссийский городовой покойствовал, – революционерам не приходилось даже зализывать ран. – Он, теперь муж и отец, навсегда был честным человеком и честно прошел все свои пути и перепутья, те, которые называются жизнью. – После университета, который называется село Усть-Колым, он окончил Томский университет. Минусы были отжиты, и в Петербургском университете он доцентствовал. Молодым профессором он профессорствовал в Саратове. – Так прошло первое десятилетие. Тогда была объявлена война, мировая. – У него была семья, начавшая уже отстаиваться в профессорских традициях, когда по воскресеньям пирог с капустой, для друзей, вторник – день жены, а суббота – вечер мужа – для всех, кто хочет забрести. Дети рождались дружно, и каждый к пяти годам знал русскую грамоту и лопотал по-английски: жена была недурной матерью и недурной профессорской женой. – И только глубоко в памяти было знание, что такой минуты, когда мир по колено, никогда не было у него с женою. – Психические субстанции людей возникают и отливаются в формы для времени – неизвестными путями: – Пушкин умер тридцати семи лет, уже в заполдни своей жизни, но человечеству навсегда он останется юношей и лицеистом, – Лев Толстой умер древним стариком, но человечеству он остался мальчиком, старцем с мироприятием ребенка, – этот профессор навсегда был гимназистом-абитуриентом, осьмиклассником, которому тесна гимназическая тужурка и надо расстегивать ворот гимназических уставов, грозящих кондуитом, и у которого – мир впереди, ибо старый – гимназический – мир разлезается, как разлезлись штаны.
Февральская революция встретила профессора в университетской квартире, в тишине кабинета, где стены скрыты полками книг. – Октябрьская революция нашла профессора в Смольном институте, с маузером, деревянная ручка которого торчала из кармана летнего пальто. Половодья Октябрьской революции прошли для профессора так же, как для всех революционеров: фронтами, железнодорожными шпалами, верстами, которые вырастали в тысячи верст, тысячами верст, которые уменьшались в вершки. 1922 год застал профессора ректором одной из новых революционных высших школ. – Семья, как всегда, была работной, покойной, крепкой, – чуть-чуть холодной.
И тогда пришел 1925 год, двадцатилетняя годовщина половодных подполий. 1925 год в русской истории был половодным годом того развала, о котором сказано в лирическом отступлении этого рассказа. – Был будничный профессорский, ректорский день; утром в восемь часов ректор принимал студентов и заседал в предметной комиссии; в десять – до часу – ректор был в ректорском своем кабинете; с половины второго профессор читал лекции; в шесть коммунист, общественный деятель заседал в районном Совете; в десять профессор шел в университет экзаменовать студентов. – Был декабрь, светили на улицах фонари, мел около фонарей снежок. Профессор сошел с тротуара на улицу, пересек ее к бульварчику. Свет фонаря упал на лицо. И тогда окликнул его женский голос – давним студенческим именем:
– Сергей!
Профессор – Сергей – остановился. Он узнал сразу. Перед ним стояла – та, имени которой он не мог узнать, которая двадцать лет назад на одну единственную ночь поставила ночь так, что мир был по колено, и эта ночь никогда не забывалась. Профессор знал, конечно, что ему – сорок, что виски уже поседели, – профессор, перегруженный работой, в строгом профессорском быте, в крепких хомутах времени и дел. Перед профессором стояла – не восемнадцатилетняя – тридцативосьмилетняя женщина, с глазами, радующимися встрече, но уставшими и поблекшими, – и прекрасными, и прекрасными для профессора.
…Давно надо было бы филологам и иным словоделам переработать, разработать слово «любовь». Любовь – есть рождение. Любовь есть – счастье. Любовь – – Двадцатилетие было скинуто со счетов времени – именно потому, что нельзя бросаться временем перед любовью и перед счастьем, ибо время уходит, и лучше поздно, чем никогда. И у него, и у нее были и семья и дети. Она приехала из городишка, где ее время было закопано уездным врачеванием и зимними снегами. Она просто рассказала, что та единственная ночь – единственной была ее радостью, на всю жизнь, сделавшая жизнь не очень нужной. Они были уже стары для весенней любви: ее восемнадцать, его двадцать лет – канули в Лету. И у него, и у нее – были свои быты, традиции, усталости, привычки.
То, что было двадцать лет тому назад, оказалось, было единственным, ибо мир опять стал по колено, если может быть мир по колено ректору и профессору. – Они нашли силы порвать все. Он оставил свой профессорский дом, таким, как он был, с детьми, с женой, с традициями и друзьями, с книгами. Он переехал сначала в гостиницу, а потом на студенческий чердак, где позволяли ему жить те небольшие рубли, которые оставались у него сверх жалованья, ибо жалованье он оставил семье. Она пришла к нему на студенческий его чердак, чтобы на керосинке поджаривать яичницу и одним-единственным для всего ножом резать колбасу, как в студенчестве.