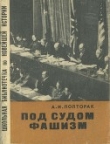Текст книги "Том 4. Волга впадает в Каспийское море"
Автор книги: Борис Пильняк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 31 страниц)
И новым июнем, когда строительство монолита уже началось, Садыков и Ласло встретились на несколько дней в лугах под Москвою, у Медвежьего озера, когда они смыкали работы своих изыскательных партий, чтобы обоим затем поехать в Коломну.
И Эдгар Ласло, и Федор Садыков были женаты. У Федора Ивановича была жена того ряда женщин, которые имеют величайшую женскую силу – быть бессильными. В годы гражданской войны, на фронте однажды, ноябрьской ночью, в разграбленном заводском поселке на Донбассе, Федор Иванович сидел в штабном доме у проводов, один в пустой полночи, в ноябрьском ветре и в далекой артиллерийской стрельбе. Он не спал, ожидая шума морзе и приказов. И к нему в кабинет к проводам вошла девушка с ограбленными глазами, на цыпочках, с рукою у губ, чтобы никто не слышал. Она сказала, что она дочь инженера с этого поселка, ее отца и ее мать убили неделю назад в этом доме, этот дом был домом ее отца, здесь же был штаб белых, и эту неделю она просидела в доме, спрятавшись в подвале. Ее глаза были пусты. Она сказала Федору Ивановичу, в беспомощности сев против него:
– Убейте меня тоже, если хотите, – мне ничего не осталось делать.
В ту ночь впервые подумал и остро понял Федор Иванович, что в жизнях, в революциях особенно, люди играют жизнями со смертью ва-банк, что уцелевшие должны будут прошлое вспоминать героикой, – уцелевшие, оставшиеся в живых, – именно потому, что умершие, убитые играли со смертями ва-банк с жизнями. Федор Иванович видел тогда много мертвых и не мог представить себе, что бы рассказали они, умершие, убитые, если б можно было слышать их рассказы.
Девушка пришла из-за смерти, и Федор Садыков приказал девушке жить в комнате рядом со штабной, в его комнате, которая была комнатой матери этой девушки и куда никто не заходил. Девушка покорно тогда встала со стула и пошла спать. На другой день в сумерки Федор Садыков видел, как девушка тихонько подошла к роялю, стоявшему в его комнате, которая была комнатой ее матери, присела потихоньку к роялю и заиграла, не касаясь клавиш: это тоже было из-за смерти. Тогда впервые она улыбнулась, виновато, увидев Федора, тихо опустила крышку рояля. Это была тихая аржановолосая девушка, ничего не знавшая в житейских делах гимназистка, голубыми глазами удивлявшаяся миру. Она стала женой Федора Садыкова. Федор взял ее из-за смерти, из фронтовых луж крови, как за шиворот берут с помойных ям никому не нужных котят. Федор Иванович был, что называется, грубым и неотесанным человеком, у него была жизнь его работы, созданная революцией.
Федор стал первым мужем Марии, и Федор никогда не спросил ее о любви. Пошли годы. Величайшей силой бессилия эта девушка сумела быть для Федора Ивановича тем, чем был он сам. Винтовку Федор сменил на приборы Пито и Амслера, но карты и планы остались по-прежнему, и по-прежнему Федор Садыков пребывал в походах, сначала за знанием, затем со знанием. Тот год он шел в походе у ночных костров, в победах и отступлениях рек, в боях за социализм. Федор ходил по лугам и долинам, подсчитывал тяжести и силы течений вод и отмелей, накапывал плотины, срезывал перекаты, – человек атлетической силы в молодости и организованных нервов в зрелости, силу которого выпили астма, граниты знаний Энгельса-социолога и Энгельса-гидравлика, абсолютные величины секундного расхода вод и их периодичности, штыки революции, – шрапнель, разорвавшаяся на станции Мациевская, на фронте гражданской войны, у него между ног, и плотина на Тереке, сломанная, сорванная ледоходной водой, много часов носившая и ломавшая Федора Ивановича по водным просторам освободившихся водных сил. Жизнь Федора Ивановича проходила жизнью солдата и рабочего, временный его стол всегда оказывался рабочим верстаком и чертежной одновременно, где среди бумаг лежал засунутый подальше лист с записью тринадцати его болезней, постель его всегда была походной. Мария ездила за ним, свои углы скрашивая украинскими плахтами, она всегда искала рояль, чтобы играть классических музыкантов, и с нею жил ее друг, громадный пес, помесь овчарки и волка, Волк. Федор ни разу за всю их жизнь не успел сказать Марии, любит ли он ее.
Дни страны, командуемой Москвою, возникали в те годы тяжелыми жерновами революции, строили страну, командуя ею. Этою командою возникали строительства, двигались сотни тысяч людей, ибо страна в те годы жила военным лагерем. Этою же командою жерновов революции просыпался на рассветах Федор Иванович, харкал, крякал, лил на себя ведро холодной воды, влезал в сапоги – и уходил в поход, в войну с речными долинами, – тяжел оплечий человек, один из мельников около жерновов революции. Иной раз особенно густы были на реке туманы, особенно трудны были переходы, – тогда Федор Иванович ломался, сваливался в походную свою кровать, тринадцать его болезней приступали к сердцу, к легким, к горлу, лоб блестел в испарине, скулы обрастали щетиною и очень острым становился кадык. Федор не умел говорить о любви.
Эдгар Ласло и Федор Садыков, два коммуниста, люди одинаковых воль и дел и разных культур, жили друзьями, делающими одну работу, мельники революции. Гражданская война легла на плечах Ласло так же, как и Садыкова, – быт инженерных войск, игра жизнью ва-банк смерти, – но Ласло не был инженером от станка, и он умел заглядывать в чужие карты банка, – то есть в карты смерти. Ласло шел по жизни человеком крепкой воли, как у Садыкова, крепких глаз и верных рук инженера, работающего с интегралами, но к интегралам пришедшего длинною дорогою классических гимназий, книг, русского интеллигента иностранного происхождения.
Ласло и Садыков в своем походе на изысканиях встретились на тальвеге ручья Малашки, около Медвежьих озер. Путь был закончен. Две партии изыскателей расположились в старом помещичьем доме, где исчезли в рамах стекла и по пустому дому бродил бередливый ветер. И беспорядочная и необычная тогда возникла ночь. За домом лил мелкий дождичек. Десятники и студенты-практиканты в соседнем селе достали водки – на радостях встречи и перед концом работ. Ласло скучал. Тринадцать болезней Садыкова положили его в постель, он лежал в столовой. Дом глохнул, стар и скрипуч. Десятники предложили Садыкову водки, он отказался. Эдгар Иванович выпил водки во имя дождя и усталости. Студенты-практиканты пили и пели. За окном лил мелкий дождь. Было в природе сиротливо, пусто, печально.
Каждый живущий имеет право на жизнь, и каждый живущий, – должно быть – имеет право на любовь, – или не имеет этого права? – Мария, жена Федора, имела величайшую женскую силу – быть бессильной. Федор никогда не говорил о любви. Мария страшилась жизни Федора, когда музыка Бетховена заменялась безмолвием музыки революции и солдатских маршей ее мужа по болотам, где вместо тепла обрусевших голландских печей горели костры у рек и вместо керосиновых медленностей светила заря.
Шла ночь. В столовой разбитого помещичьего дома застрял стол, но пропали стулья, свечи втыкались в пустые бутылки. На столе стояли бутылки с алкоголем. Федор Иванович лежал в бреду, в испарине, под лестницей в мезонин. В доме умерла жизнь, здесь жили совы и тишина. Десятник, рабочие, практиканты и Ласло, стоя и в скуке, пили у стола, ломаясь страшными тенями на стенах.
Было скучно в дождливом вечере. Медицина знает многие виды опьянения, – страшнейшее из них опьянение психическое, когда человек тверд в движениях и в речи, со стороны не узнаешь, что он окончательно пьян, – но мозговые корки его повреждены алкоголем, выпали из работы сознания, и воля не принадлежит человеку. Эдгар Иванович ходил по пустым комнатам, скучал в темноте безделья, пил, был трезв, как видели остальные. Федор Иванович лежал, задавленный своим кадыком.
Скрипучая лесенка вела из столовой в мезонин. Эдгар Иванович поднялся по скрипучим ступенькам наверх, – и Ласло не помнил потом, – как, должно быть, и Мария, – с вечера или на рассвете легла за пыльными оконцами мезонина, за парком, за рекою – желтая, дряблая заря, ставшая из-за туманов. Свои бутылку и стакан Эдгар Иванович поставил на подоконник.
У окна в тот час стоял того состояния человек, глаза которых умеют смотреть в пространства, чтобы не видеть пространств, но видеть то, что за пространствами. Такие глаза, возвращаясь из-за пространств, должны быть очень действенными, черные глаза обрусевшего венгра, сохранившие в себе темную историю его народа, пришедшего с доисторической Волги, когда Волга называлась рекой Ра, и поселившегося на старых культурах Дуная. В комнате, где рукою доставался потолок и раскинутыми руками доставались противоположные стены, Эдгар Иванович считал себя одним.
И тогда дренькнула в углу выцветшая пружина дивана.
– Кто тут? – спросил Ласло.
– Это я, – ответила Мария, – знаете, я потихоньку выпила рюмку водки, и я совсем пьяна.
Из-за пространств в алкоголе всегда приходили к Ласло не мысли, но ощущения – или тоски, от которой физически ломит череп, – или радости, физической радости, от которой немеет позвоночник. Ласло знал от фронтов, что это та тоска, когда смерть вселяется в череп, – и это та радость, когда само солнце входит в сердце, – эти тоска и радость возникали у него при мыслях о женщине, о чудесном женском, что разлито в человеческом мире. Эта радость пришла к Эдгару Ивановичу в ту дряблую зарю.
– Мне очень грустно, Эдгар Иванович, мне очень одиноко, – иногда мне очень страшно, потому что я совсем, совсем одна во всем мире, – сказала Мария.
Переалкоголенные мозги могут все переаршинивать, память сшивает куски, отстоящие на десятилетия и на минуты друг от друга, – и очень часто тогда возникает ощущение невероятной чистоты, целомудрия, правды, ставшей над всеми неправдами, чтобы взять от небытия нуль.
– Я пришла сюда, чтобы уйти от всех, и вы тоже пришли сюда, как странно!.. Я думала сейчас о вас. Мне никогда никто в жизни не сказал – люблю, даже Федор. И я никому не говорила этого слова. А сейчас я скажу. Мне иногда кажется, что я люблю вас. Нет, это не только кажется, это – правда. Мой отец был инженером, как вы. У вас волосы, как вороненая сталь, вы, – как ворон, – а виски ваши уже седеют, – и я часто ловлю себя на мысли, что мне хочется погладить ваши седые волосы. Все проходит. Я совсем пьяна. Я очень много думаю о вас.
Эдгар Иванович не запомнил, с вечера или на рассвете лежала за пыльным оконцем мезонина, за парком, за рекою – желтая, дряблая, уже осенняя заря. Пружина на диване дренькнула – именно выцветшим звуком.
– Что вы делаете, Эдгар? – спросила Мария, не добавив отчества – Иванович, – и она впала в бессилие.
– Я люблю тебя сейчас, Мария, – сказал Ласло.
Федор Иванович один бодрствовал на своей походной койке, когда вниз спустился Ласло. Остальные спали на соломе по углам столовой. Свечи догорали. Федор Иванович поднялся со своей койки, босыми ногами подошел к столу и налил себе водки.
– Тебе нельзя пить, Эдгар. Я не люблю пить, Эдгар. В этом доме очень большая тишина, только совы кричали, – сказал Федор Иванович. – Выпьем за дружбу, Эдгар!
Федор Иванович опустил руки и опустил глаза.
– Тебе нельзя пить, Федор, – сказал Эдгар Иванович.
– Нет, почему же? – ответил Садыков.
И Ласло крикнул, подняв пустую руку, чтобы чокнуться:
– Да, выпьем до дна!
– Но ты налей себе, чтобы пить! – сказал Федор Иванович, – твоя рука пуста.
За окном легла дряблая заря. Эта ночь стала началом романа Ласло.
Это были два друга, Федор Садыков и Эдгар Ласло, люди великой эпохи русской революции, которую они считали своею родиной, потому что в ва-банке со смертью они остались живы, командуя миром и волями московского Кремля, мельники его жерновов. Эти два человека, русский рабочий, ставший инженером, и обрусевший венгр, ставший русским интеллигентом и – по существу – родившийся инженером, – они шли достойными людьми, навсегда – один сохранивший, другой обретший – европейскую манеру внимательности, вежливости, чистоплотности и аккуратности. Оба они знали, что жизнь каждого из них лежит, – жизни, отданные революции, – жизнь Федора в кармане его косоворотки, жизнь Эдгара – в его жилетном кармане. Эдгар был физически красив, и у обоих у них были глаза, существовавшие к тому, чтобы действовать. У Федора Ивановича тяжело обвисли плечи, как тяжела была походка израненных его ног, – он был примечателен красотою неправильностей, морщин на лбу, голубых славянских глаз, запавших деловою понуростью, нежных скул в красных венках румянца, русского – сибирского – пробора картофельных волос. Ласло слил в себе кровь волжских и придунайских степей, по которым прошли крови очень многих народов, аланов, гуннов, готов, унгров, – и волосы падали у Ласло назад за широкий лоб, откинутые назад веками ветров прошлого и Российским политехническим институтом.
За окнами светилась дряблая, уже осенняя, желтая заря.
– Да, выпьем до дна. – Ты помнишь, Эдгар, принципы Жирардона?
– Какие именно?
– А вот хотя бы тот, что естественные водные потоки влекут за собою своими водами твердые вещества, стало быть, и всякую грязь. И при этом, количество этих твердых частиц зависит от сопротивления размыву. Движение воды безостановочно, но движение этих взмытых частиц не непрерывно, – вместо того, чтобы быть непрерывным, оно перемежается, и нисхождение застревает на перекатах.
– Да, совершенно верно, – ответил Ласло, – но Жирардон же утверждал, что и глубины распределены в поперечном профиле неравномерно, они больше в частях ложа, представляющих наименьшее сопротивление размыву. Жирардон думает, что не следует уничтожать перекаты.
– Ты пьян, Эдгар?
– Да, это совершенно верно.
– Но мы сейчас говорим не о гидрологии.
– Да, совершенно верно.
Федор Иванович глянул на Ласло. Тот стоял спокойно и прямо, – Федор Иванович опустил глаза и побрел к своей койке.
И опять был труд созидания трасс и профилей, – той бескровной войны за социализм. Где первейшее – человек, где строилось человеческим трудом, чтобы переустроить природу, труд и человека – во имя человека.
Осенью, когда собирались заметать первые метели и дощаники вмерзали в речные льды, Садыков поехал в Коломну, где начиналось строительство, – Ласло же вернулся в Москву. И только через год Ласло приехал в Коломну, когда монолит был уже заложен.
Надо было пролить очень много мозгов, чтобы на кальке и ватмане восстановить природу рек, где все закономерно, все соподчинено и просчет в миллиметр может сломать сотни километров живой природы. На луга под Митяевом и Бачмановом, на щуровские и константиновские холмы – из Хорошевских и чернореченских лесов, от станций Голутвин и Щурово, от протопоповских гранитоломен проложили железнодорожные подъездные к строительству пути, по ним и на тысячах мужичьих лошадях обозами потащили на строительство материалы – лес, гранит, щебень, песок, железо, разобранные гусеницы экскаваторов, землесосов, бурильных инструментов, оборудования для заводов сгущенного воздуха, бетонного завода, сборочных мастерских, – материалы и инструменты, – ибо через три весны Москва и Ока должны были последний раз за их тысячелетья разлиться волею природы, чтобы затем скованные гранитом и человеком, их силы подчинились человеку.
На лугах под Коломною готовилось поле боя с природою. На щуровских холмах и на холмах у Константиновской возникали рабочие поселки, контора главинжа, инженерский городок. Щуровский цементный завод работал на строительство, и над самою Окою у позвонков монолита стал бетонный завод, дымил и гремел над Поповкою камнедробильным цехом, – думпкары везли бетонную кашу на монолит. Вдали, на опушке леса, безмолвствовали заборы завода, где вырабатывался сгущенный кислород, которым вместо динамита и амонала рвали гранит, прокладывая ложе плотине. Голутвинский машиностроительный служил инструментальной мастерской.
Садыков приехал в Коломну и поселился с Марией в доме для приезжающих Голутвинского машиностроительного в осенние дни, когда на лугах на Оке лили дожди, обращая луга в древность. На щуровских горах стыли тогда сосновые леса в ожидании зимы. Мужики по селам убирались на зиму. Ничто, кроме мыслей Садыкова, газетных статей, ряда заседаний кремлевских учреждений да кипы кальки и ватмана, не говорило на этих лугах и в этих лесах о том, что здесь возникает строительство, что сюда придут тысячи людей, здесь возникнет, застроится, заживет жизнь. Эти луга строительства, над которыми вскоре после приезда Садыкова заметались метели, стали для Садыкова полем сражения, нанесенные на карты, с которых они должны будут сойти в действительность, к самим себе, к деревням, которые исчезнут, к будущему, – и на картах было сделано уже все то, что должно будет быть, и на картах значилось, как загудят морские пароходы под Москвою и как уйдут в историю, уничтоженные, Сергеевская, Бобренево, прочие.
Любовь Пименовна Полетика, приехавшая на строительство за год раньше Ласло и матери, приехала тогда к тому, чтобы рыть курганы и становища, разрывать архейские эпохи, рыть земли, которые уйдут под воду, когда сломается река.
В зимние рассветы, когда снега сини и небеса колки, если нет метелей, и свинцовы небеса, если идет поземка, в те получасы отдыха и раздумья, когда розвальни тащили Садыкова на луга к зарождению строительства, в получасы одиночества, Садыков мог думать, кроме очередных дел, о том, что глыба гранита, положенная под щуровским кладбищем на дно Оки, скованная бетоном, – есть продление, освобождение, украшение человеческой жизни. Развалежки подъезжали к дому для приезжающих на рассвете, и Садыков, закутанный в тулуп, ехал к работам. Зимние русские рассветы медленны, небо тяжело, проселки испоконны, тулуп пахнет овчиной, ветер сносит в сторону лошадиный хвост, вешки на дорогах монгольствуют. А на местах, где возникали на снегу срубы, вышки лесопильного завода, штабеля дров и леса, каре гранитов и кирпича, уничтожая первобытность, работали новые люди, орали возчики, свистала лесопилка, посвистывали паровозики и: – появились бабы в киноварных полушубках, с ландрином, махоркой и пирожками, фалдами полушубков и обильностью своих задниц, хранившие тепло этих пирожков. Вновь распиленный лес и стружки от теса пахнут на морозе арбузами, – но есть другой запах, необъяснимый, – запах возникновения новой жизни, замороженных рук техника и десятников в холодной из теса конторке, запах махорки от людей и дыма от железной печки в конторе, запах слов и острот, – да, да, – запах звуков и человеческих слов, и человеческих следов по снегу, смявших первобытный снег, где запах арбуза, натесанных топорами стружек, также есть запах возникновения новой жизни, вместе с махоркой. Там, где раньше ничего не было и паслись по летам, в оводах, стада, киноварные полушубки уверяли: – «пирожки горячие, во рту паруют, внизу жируют!» – Возчики определяли запахи – и пирожков и полушубков, – и это тоже было возникновением жизни. А эти места, занесенные снегом, среди сосенок, в полях и на лугах – были позициями к бою за прекрасное будущее человечества, когда остроты пильщиков над запахами пирожков обязательно звучали бодростью – бодростью строительства. Садыков знал ту бодрость работы, когда бодро спорится дело, когда бодро возникает делаемое, когда даже сон является помехою.
К весне ж бабы в киноварных тулупах исчезли, потому что плотники и печники, маляры, стекольщики, каменщики – построили на строительстве рабочую столовую, которая называлась фабрикой-кухней. И бараки весной наполнились рабочими так, что бараков не хватило и пришлось ставить брезентовые палатки, взятые у военного ведомства, – и эти военные палатки были не случайны, потому что на лугах работали армии.
Маршал Садыков был главинжем. Маршальские развалежки ездили от одного места возникновения жизни к другому в те часы, когда начинались дни, чтобы к полдням быть в штабе, – в просторном и теплом свете проектной, – над чертежами и планами, где на планы стекали, кроме вод, история и человеческая мысль, строящая историю, время, людей и силы. Здесь мысль учитывала глыбы гранитов, влагоемкости суглинков, миллиметры карт, вырастающие в кубы воды и живой силы, – рассчитывала человеко-часы, машино-часы, последовательности и уроки работ. Белый свет дня сменялся в чертежной восковым покойствием закатов, загоралось электричество и над домом мерзла Полярная. Чертежная безмолвствовала решениями дел. Косоворотка Федора Ивановича расстегивалась усталостью, папиросы утомляли губы, – и косоворотка Садыкова, самая обыкновенная, казалась сшитой не из полотна, но из кожи, такой же крепкой, как кожа на юношеских скулах Садыкова, загрубевшая временем – и рек, и революции. Рабочий день Садыкова заканчивался в час Полярной, чтобы в час же Полярной наутро возникать вновь.
Бой был начат, тысячи людей строительствовали, когда приехал Ласло, и Ласло взял маршальство отделами экономики труда и материальным, людьми и вещами, когда Садыков маршальствовал природою и планами работ.
Эдгар Иванович приехал с семьей и поселился в Коломне у сестер Капитолины и Риммы Скудриных, в их тишине за калиткою. Ласло привез с собою книги и вещи, чтобы создать покойный и рабочий инженерский быт. Дом за калиткою пребывал тих, очень близко под звездами, в скрипучих половицах, с теплой лежанкою. Дом заглох тишиною Капитолины Карповны Скудриной. Дома Эдгара Ивановича после работ ждала жена, Ольга Александровна. Наступала новая осень. Падчерица Любовь Пименовна выходила к позднему обеду с тетрадью после работ над сводками раскопанного, слушала новости со строительства, приносила свои новости. Кабинет Эдгара Ивановича зарос книгами, книги выползали в столовую, и звуки в кабинете прятались в книги и в ковер на полу. Эдгар Иванович оставлял дому часы звезд и луны, хотя солнца в комнатах этого дома было очень много, того солнца, о котором очень знала Ольга Александровна. Ласло работал плечо в плечо с Садыковым и так же упорно. В послеобеденный час – в беспорядке вопросов и ласки – из-за книг в кабинете возникала Алиса. Отец читал газету около стакана чая, дочь забиралась на колени и притихала на коленях котенком, не мешая отцу священнодействовать газетой. Солнце физическое оставалось для Эдгара Ивановича в просторном кабинете конторы главинжа и на лугах строительства, – и почти физическим солнцем в доме была Алиса, единственная дочка, Лиса, как называл ее отец.
Однажды Алиса спросила отца:
– Эдгар, мы живем или играем? – она называла отца по имени, как мать.
Отец не понял, срастив абзац газеты с вопросом дочери, спросил:
– Что ты хочешь сказать, Лиса?
– Мы живем или играем? – вот, ты и мама, – вы живете, а я и Мишка, хотя он уже большой и ходит к Любе, ее товарищ, – мы с ним играем в куклы. Куклы не живые, они из тряпок, и голова для куклы – мама купила мне ее в Москве у ГУМа, когда мы еще жили там. А ты играешь с нами, потому что мы маленькие. Мы с Мишей живем или играем?
Все газетные абзацы заслонились тогда вопросом дочери, первою дочернею внеурочною мыслью, – и отец растерялся в ответе, всем – позвонком и сердцем поняв, как дорога ему дочь, его плоть, его продолжение жизни, потому что в том беспорядке живой жизни, который надо привести в порядок наукою Мечникова, Воронова, Лазарева и машинами, все же имеется пока одно решение трагедии смерти, трагедии и человека, и человечества, – продолжение рода и крови. И отец прижал к себе дочь, прижимаясь к жизни, так сильно, что на глазах у дочери появились слезы физической боли и недоумения.
И из-за книг в час отдыха после обеда, вместе с Лисой, вслед за Лисой, за ее смехом и ручонками, верткими, как масленичные качели, приходила жена, друг, мать – Ольга Александровна, – женщина, которая возникла в его жизни впервые вместе с его молодостью, отдав ему все свое последнее. Он был репетитором Любови и сына, умершего от тифа на гражданской войне в его отряде. Она принесла и отдала ему все, всю жизнь. Тогда, в прямопроспектном Петербурге, в гулкой квартире профессора Полетики, где встречала она всегда Ласло на пороге, пустой гостиной, на этом самом пороге в солнечный день, в гулком и просторном биении сердца, впервые поцеловал Ласло, по-мужски, любовником, руки и шею Ольги Александровны, – и она поцеловала его, все отдавая в этом поцелуе, эти гулкие комнаты, свое время, мужа, детей. Ему было двадцать три, ей тридцать два. В этой гулкой гостиной, также в солнечный день, в закат, она сказала Пимену Сергеевичу Полетике, что она уходит от него навсегда, – и глаза ее светились в тот час счастьем. У порога ждал Эдгар. Сроки ухода длились тогда сроками великой войны, и для Ольги Александровны были те годы стремительной героикой. Тысяча девятьсот семнадцатый год стал ее бабьим летом, оказавшимся не в сентябре, но в июле. Для Эдгара она научилась думать по-немецки, как думал Эдгар, – и вместе с ним она пошла на штыки гражданских войн и голода революции, вместе с ним пробираясь через те отвесы, которыми переползала Россия в своем перестройстве хлеба, вер, быта, обычаев.
В отряде Эдгара она потеряла старшего своего сына, убитого белыми. Впервые по-настоящему в страсти закрылись ее глаза на мир от поцелуев Эдгара, и Эдгар увидел первые ее у глаз морщинки немолодости. Она молча шла за Эдгаром по фронтам, эта гордая женщина, друг, – эта покойная, чистая женщина, принявшая штыки революции своим брачным ложем, знавшая, что страсти человеческие – обязательно честны, обязательно правдивы, обязательно проверены на июньские русские росные рассветы, светлые, ясные, чистые и никак не похожие, как для некоторых, на палительные головни русских пожарищ. Она научилась все подавлять в себе, что было вне ее чести. На фронте, на станции Мациевская около ног Федора Ивановича Садыкова разорвалась однажды граната, – их было тогда трое в дежурной комнате, она, Эдгар и Федор, – осколок ударил в ее плечо, – она руками вынула осколок из мяса раны, сморщив от боли губы, сдвинув брови, но улыбаясь. Когда же отгрохотали пушки революции и Эдгар пошел к рекам, Ольга Александровна родила дочь Алису, – свою последнюю дочь, ибо годы ее шли уже к закату. Она собрала тогда время в инженерный порядок и стала хранить книги Эдгара и его дела.
В часы, когда засыпала Алиса, Ольга Александровна приходила к Эдгару, со свечою в руке. Она всегда была в черном платье. Последний чай перед полночью был горяч, он выпивался в кабинете, где книги пахнули книжным червем, напоминающим запах мертвецкой. Жена садилась на диван, рядом с мужем. Они говорили между собою по-немецки, на языке, которым встретил жизнь Эдгар Иванович и которым он провожал Лису в постель.
– Weist du, ich denke, das Lew Trotzki nicht Recht hat, –[7]7
– Ты знаешь, я думаю, что Лев Троцкий не прав, – (Нем.)
[Закрыть]
Она говорила о делах, вычитанных из книг и газет, которыми она помогала мужу. Свеча на столе горела свечою Фауста, покойствовала полночь отдыхом последнего чая, – и муж и жена говорили о том, что стократ величавее Гете, – о революции в мире, той, которая приходила и переливала историю на жернова Эдгара, – как здесь, так и за стенами этого уездного дома, за этими часами жены и мужа, когда муж растворял время женою и книгами, потому что плоские четырехугольники книг имеют свойство камерой-обскурой кидать человека и человеческую мысль во времена и пространства куда угодно и как угодно, – а голос, волосы, голова, плечи жены, ее слова, ее теплота, ее ласка, ее строгость – могут заставить человеческое существо взять на ладонь свое собственное сердце и в сердце спрятать свое существо, когда космичествует покой и то чудесное, что дало жизнь рыжей Лисе. В полночах, когда засыпала жена, эта гордая, покойная, разумная женщина, сестра в революции, когда свеча гасилась и книги проваливались во мрак, – Эдгар Иванович поднимал голову локтем и рядом с ним во мраке чуть белело плечо жены, уже покрытое холодком дряблости, родное и доверчивое, раненное на Мациевской. Ее дыхание было ровно, счастливо, – этой женщины, которая днями всегда одевалась в черное, лишь по июням в белое, и которая стала первой в жизни. Это было таинством любви, тот кувшин, который нельзя расплескать так же, как кувшин революции.
За домом, на лугах шло строительство. Раз в неделю, когда выпадали свободный час или свободная ночь, иль мозги начинали дрябнуть, к Эдгару приходил с завода, из дома для приезжающих Федор Иванович, – или Эдгар Иванович ехал к нему – выполнить законы дружбы и чокнуться – не водкой о водку, но сердцем о сердце, мыслью о мысль. Тяжелоплечий Федор шел тогда по комнатам, смотрел солдатским глазом вокруг, приветствуя и шутки пересыпая нравоучениями:
– воздух слишком сух, надо поставить аквариум, не дорожите здоровьем, –
– покажи печку, как закрываете, я научу, как надо,–
– Лиса, открой веко, ты малокровна! –
Федор Иванович садился на диван в кабинете, чтобы отдыхать и не двигаться часами. Из-за книжной полки извлекалась заветная бутылка. Федор знал каждый жест Эдгара, Эдгар знал каждый жест Федора. Федор наливал себе рюмку коньяку и острил. Любовь Пименовна забиралась в угол дивана, Ольга Александровна уходила по хозяйству. И начинались часы разговоров, чтобы этими часами проверять себя, свои дела, свои мысли. Книги с письменного стола снимались, свечи ставились в большом количестве, к Федору подвигался табурет с тарелкой. Женщины безмолвствовали. Федор опирался рукою о колено Эдгара, чтобы облегчить свои плечи и во имя дружбы. И Федор отдавал свои помыслы, возникавшие у него за цифрами и планшетами.
– Ты говоришь о Льве Троцком, – говорил Федор Иванович, – давай подумаем о речном ложе, стало быть, особенно, если река потечет задом наперед. Давай примем во внимание администрацию, то есть самих себя, партийную ячейку, то есть самих себя, рабочий комитет, то есть опять же самих себя. Мы отвечаем за все. Коса на речном перекате лежит, как известно, подобно рыбе, головою против течения, и имеет также, как известно, форму рыбы, рыбью голову и рыбий раздвоенный хвост. Отмели похожи на рыб не случайно, но это не главное. Главным же образом нужно рассчитать, что будет с рыбиной косой, когда вода потечет ей в хвост. Мы строим плотину, заново, переделываем климат и географию. Так, стало быть. На пустые луга съехалось десяток тысяч рабочих, а связаны этим строительством и зависят от него – миллионы, – понятно. Место боя, – тоже понятно. А кто это чувствует у нас? – мало, кто. Инженеры машинисток в Голутвин по субботам возят, фокстротят. Грабари имеют артельных жен, называемых стряпухами, – мы построили фабрику-кухню, но из-за этих артельных жен, то есть стряпух, рабочие предпочитают питаться в бараках, и в каждом бараке обязательно есть шинкарка. А мы с тобой есть все.