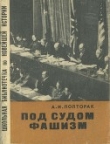Текст книги "Том 4. Волга впадает в Каспийское море"
Автор книги: Борис Пильняк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 31 страниц)
– Я тебе отвечу, Федор, – говорил Эдгар Иванович. – Обрати внимание на товарища Моисея из Библии, который выводил евреев из Египта. Он был неглупый мужик. Он путешествовал по морскому дну, производил манну небесную из ничего, путался в пустынях, как мы в троцкизме, устраивал съезды Советов и приемы на Синае. Сорок лет отыскивал свою жилплощадь и воевал за нее. И до обетованной земли он не дошел, предоставив Иисусу Навину останавливать солнце. Вместо него дошли его дети. Старик Моисей не мог дойти до обетованной земли – на основании логики. Люди, знавшие Содом, не могут быть в Израиле, – они не годны для обетованной земли, потому что они помнят, что такое есть городовой, откуда у него растут усы и кто такая фрау – просвирня в городе Липецке. Старик должен был лечь костьми для нового поколения, ибо только новое поколение, новые поколения, которые не будут знать городового, годня для обетованной земли. Я думаю, что мы сейчас работаем в Моисеев, по морскому дну мы отпутешествовали и манною небесной питаться перестали, – но к новой жизни мы не готовы с тобой, в ней будет жить моя Лиса. Я помню, как майоры давали в морды унтерам. Что же касается администрации, месткома и партячейки, то также в Библии чудак объяснял о действии правой руки в момент неведения левой. Женщины ж – ну, пусть наслаждается каждый, как хочет.
– В медицине такая раздерганность называется лихорадкой, – отвечал Федор Иванович. Он говорил медленно и трудно, тяжелоплечий человек. Свечи горели гетевски. Книжные полки покойствовали моргами мыслей, камеры-обскуры в человеческое время и знание. – Да. Но Моисей написал скрижали. Я слыхал следующую разновидность рассуждений. Мне говорили, что каждая историческая эпоха имеет свою мораль, рожденную эпохой. Палки доказательств, дескать, могут ломаться, но их не надо перегибать до тех пределов, когда они сломаются вместе с доказательствами. Говорят, что общественной моралью наших лет является мораль политическая. Можно быть безграмотным человеком, спрашивающим, что такое за наука химия, и пишущим корову через отмененное ять, невеждой и пьяницей. Можно быть неверным слову. Можно быть, так скажем, неразборчивым к вещи. Можно быть нечестным к женщине, к мужу, к семье, потеряв всякое понятие о семейной чистоплотности, – во всяком случае, у людей, придерживающихся таких взглядов, с точки зрения старой морали, семья и проституция спутали свои понятия. Надо быть, дескать, моральным политически, – и даже не очень моральным и не очень грамотным, но – ортодоксальным. Быть политически неграмотным – не морально. Эти же люди говорят о том, что политические таланты родятся так же, как актерские, писательские, художнические. Они утверждают, что можно быть прекрасным музыкантом, бездарным политически, – можно быть честнейшим астрономом, человеком, верным слову, грамотности и чести к женщине, – женщины, к слову говорят они, на бесчестность мужчин очень радостно отвечают своим бесчестием, – астроном может быть мирового имени, и такой астроном, утверждают они, не будет в фокусе нашей общественности. Философы такого рода утверждают, что у этих астрономов имеется право не интересоваться вопросом, «како политически веруеши?» – за недосугом от звезд. Эти философы не могут решить, кто прав, – эти ли астрономы, просящие помиловать, – «помилуйте, ведь он же пьяница и бабник, ведь у него же государственная мебель на квартире и даже не содраны музейные ярлыки, ведь он малограмотен!» – правы ли эти астрономы, которым противопоставляются эти, живущие на государственной мебели, потому что они умеют делать – делать революцию, как астрономы умеют караулить звезды, и умели, и умеют умирать за революцию. Эти люди, дескать, должны жить колоссальной волей, рассудком, рационализмом, мозгом, все подчинив разуму, уничтожив все, что лежит за разумом. – Я думаю, что таких противопоставлений делать не стоит, и они напоминают твои рассуждения о недошедшем Моисее. Да, не дошел, – но он же написал скрижали. Нам – жить! Нам писать скрижали будущего, которые должны быть омыты нашей кровью. Ты немножко нигилист, потому что ты знаешь тот соус, на котором поджаривают эти скрижали, – я и ты, мы убивали людей в затылок, – все это окольные пути, совершенно верно. Этот соус не должны знать в новой жизни, как в обетованной, стало быть, полагалось, что забыты ваалы и проделки жены Патифара[8]8
Патифар – бог неба, солнца, плодородия (семит.).
[Закрыть]. Но я думаю, что ничего не надо откладывать, и для себя я решаю все сразу, и коммунистическую мораль, в частности.
– Вы говорите о рыбах, Федор Иванович. Я хочу рассказать странную вещь, – Любовь Пименовна говорила тихо. – Сейчас великий пост по-старинному, продают мороженую навагу. Я шла с базара и вдруг почувствовала, что пахнет фиалками, очень хорошо. Я стала искать, откуда идет запах. Улицы были пусты и морозны, у меня нет никаких духов. Я наклонилась к кошелке, – пахло навагой, – я подняла голову, – пахло фиалками. Наконец я поняла, откуда этот запах. Разреженный запах наваги похож на запах фиалки. Фиалками пахла навага. Так часто бывает в жизни, когда наважьи рыбьи запахи превращаются в запахи весны. А дома оказалось, что рыба несвежая.
– Совершенно верно, очень признателен. Любовь Пименовна, бойтесь наважьих фиалок!
Друзья чокались сердцами о сердце, – эти кувшины нельзя было расплескать. Мысли Федора и Эдгара бродили по российским весям и чувашам, по заводам и строительствам, около английских шахт и по долинам Янцзы, около концернов Стиннеса и вокруг карьер Макдональда. У этих людей были и будни, начальства, подчиненные, соработники, друзья, безразличные люди, враги, удачи и неудачи, – и в эти часы свечей Гете и покойствия книжных камер Эдгар и Федор Иванович говорили о всяческих своих буднях, о вчерашнем и третьегодняшнем, что было их средой, их делами и делало их общественное мненье. Так горели свечи, рожденные Гете, до часа, когда Федор Иванович поднимался и уходил. Любовь Пименовна провожала Садыкова по мертвым уличным снегам в эти часы здравствующих звезд.
Дочь Лиса продолжала настаивать на своих вопросах. Лиса сидела на столе между книг.
– Эдгар, ты сказал, что ты, и мама, и я, и Мишка, – мы все живем одинаково. Мы живем жизнью. А кукла Мила – она из тряпок – она тоже живет?
Лиса не дождалась ответа.
– Расскажи мне сказку.
Эдгар Иванович не сумел как следует объяснить, почему не живет кукла. Лисе стало скучно. Эдгар Иванович рассказал, как медведь рубил тот самый сук, на котором сидел.
– Хорошо, только мама лучше тебя рассказывает сказки, – сказала Лиса.
– Почему?
– Потому что мамины сказки в книжках с картинками, а у тебя я ничего не вижу, как медведь рубит сук и падает. У мамы все нарисовано в книжках.
Лиса сидела на столе против Эдгара Ивановича, врастала в книжки и вырастала из них, маленькая, рыжая и веселая. Эдгар Иванович играл с ней в джанкэн-понг, она таращила пальцы страшными ножницами и болтала ногами, как языком.
Эдгар Иванович много раз наблюдал за Лисой, как она играла на ковре. Ковер застилал кабинет Эдгара Ивановича. На родинах ковров – в Кашгарии, в Ширазе – ковроделы знают, что ковры могут читаться, над коврами можно сидеть, как над шахматами, читая их образы письмен и времени, – европейцы не знают этой грамоты, не знал ее и Эдгар Иванович, – но для Лисы на ковре был нарисован целый мир, реки, моря, поля, города. Этот ковер остался у Эдгара Ивановича от его отцов, от детства, и в детстве своем Эдгар Иванович также, как Лиса, видел эти ковровые миры, забытые теперь. Лиса показывала отцу, где на ковре находится Коломна и где Москва, где строительство и как ехать по ковру из Москвы в Коломну, – рекой и железной дорогой.
Верхом на отце выезжала Лиса через столовую в спальню, чтобы отец посидел минуточку над ее кроваткой. За приземистыми оконцами дома старух Скудриных рос сад, занесенный снегом, светилось иной раз оконце в бане охламона Ожогова да мерцали в небесах звезды.
Мир дома Ласло был тверд и налажен.
Законы речей инженера Евгения Евгеньевича Полторака о том: – «что такое любовь, Вера Григорьевна? – что такое жизнь? – что такое смерть? – и что такое правда? – все это пустяки перед нулем смерти, именно потому, что множитель нуль все превращает в самого себя», – эти законы, оправдывавшие Евгения Евгеньевича Полторака, будут существовать до тех пор, пока человек, каждый сам для себя, не определит, не решит – что такое любовь, честь, жизнь, смерть. В эпохи, когда человеческая индивидуальность стирается, когда нули смертей, казалось бы, превращаются в цепи, – эти цепи никак не являются оковами ва-банков, – ибо каждый человек должен, обязательно должен решить для себя свою честь. Разговоры о Моисее примыкают сюда.
В человеческом мире однолюбость не есть закон биологический. Эдгар Иванович навсегда был связан с Ольгою Александровной, прошедшей с ним его путины становленья человеком и родившей для него дочь, его любовь и будущее. Но Эдгар Иванович не был физически верен своей жене, как очень многие мужчины той эпохи и как многие женщины не были верны своим мужьям. В теплушках, на шпалах, в случайных городах, случайными ночами, ибо тогда ломался быт и у каждого за плечами стоял нуль ва-банка, были разбросаны женщины, ничем не обязывавшие, дававшие радость своим женским, казавшимся вечностью, повергающей нуль, стоявший за плечами. Пожары революции не оставляли мозгов для большего, и женщины терялись в рассветах и в новых дорогах.
Годы гражданской войны исчезли вместе с теплушками, убранными из-под откосов. Остальное оправдывалось моралью буден. Было две жизни: жизнь первая и жизнь вторая, похожая на волчьи лесные тропы, неприметные логова, приметы, заметы, вехи. Жизнь первая была делами строительства революции, камерами-обскурами книг, обычаями дома, законами дружеств. И из жизни первой можно было и надо было выключать себя в жизнь вторую. В сотне дневных рабочих разговоров и звонков по полевому телефону со строительства – был один, иль звонок, иль разговор наедине, о часе, о месте, о поезде в Москву. И там, в этом часе и месте, начиналась вторая жизнь, таинственность, о чем никто не знал и где радость была единственным, оправдывающим все. В любовничестве нет будней усталости, рублей, задворок характеров, – и очень многое оправдывается у людей тем, что это – в тайне, этого – никто не знает, этих тайных троп, неприметных примет, скрытых от всех, мест свиданий. Здесь, в эти часы, выключенные из дел и времени во вторую жизнь, была только радость наслаждения женщиной. Ладонь женщины, положенная на мужские глаза, может закрыть иной раз весь мир – не только на основании законов физики для зрения, – но так может закрыть мир, что ладонь становится больше мира, – и обнаженное колено женщины может сжимать сердце так же, как раздумье о смерти под пулями в бою, ибо смерть и любовь суть не только нули, но и равенство.
Ночь белесой зари на изысканиях стала началом романа. Мария Федоровна Садыкова любила Эдгара Ивановича и она осталась его любовницей, когда он приехал на строительство. Она шла навстречу, Мария, всем своим прекрасным, чтобы отдать его. Она любила, опустив свою любовь в тропы музыкантов-классиков, ничем не оправдываясь и не думая об оправдании. Она прятала голову на грудь Эдгара Ивановича, как страусы прячут свои головы под свое же крыло иль в палительные пески тех пустынь, где живут они в диком состоянии.
Каждый мужчина знает счастье обладания женщиной, – и каждый человек знает еще большее счастье владения человеческой душою, всеми помыслами и всеми мыслями, которые – вот тут, на ладони. Часы встреч, выключенные из времени, были – то десять утра, то десять вечера, то четыре дня, – и тайные тропы были также то в доме для приезжающих на машиностроительном, то в лугах и Щуровском лесу, то в московском поезде. Эти часы таинственных троп всегда приходили необыкновенно, сворованные у самих себя. Когда они кончались, за последним поцелуем, за ступеньками парадного и за крестопутьем переулка, – вторая жизнь Эдгара Ивановича включалась в жизнь первую, дел, деяний, забот, нарядов в земельно-скальный подотдел, гранитов, «рук». За крестопутье переулка можно было вернуться к Федору Ивановичу и поздороваться с Марией Федоровной, чужою женщиной, женою друга, спросить об ее здоровье и передать привет от жены, потому что в человеческих делах очень часто тайные дела не кладутся на весы морали. За переулками, в настоящей, первой жизни плечи впрягались в дела, дни растворялись свинцовыми просторами лугов, приказов, заседаний, подсчетов, дел и воли, где нельзя расплескивать мыслей и надо ими командовать в походе истории.
Охотники в лесах ловят волков облавами. Обкладчики выслеживают волчьи тропы. Охотники встают по волчьим лазам, затягивают флажками перелески. Лес тих, медленен, безмолвен. В безмолвии леса начинают улюлюкать и арярякать кричаны, чтобы поднять волка и погнать его по тропам, которые обложены охотниками и флажками. Волчья жизнь становится смертью.
В доме старух Скудриных, где жизнь Риммы Карловны походила на судьбу запаха наваги, ставшего фиалковым запахом, из-за книг возникала рыжая Лиса. Глаза Федора Ивановича были к тому, чтобы рожать действие. Глаза Эдгара Ивановича, когда они возвращались из-за пространств, были также к тому, чтобы действовать. Эти люди жили, чтобы действовать, чтобы умирать за делаемое.
И наступил последний год строительства.
Весна шла очень большим солнцем. Метели спятились в зиму. Солнце пришло из-под снегов, как снега ушли в ночь. Этою весною последний раз разливались реки Ока и Москва по прежним, тысячелетним, созданным природою, тальвегам, – позвоночник монолита перекопал уже Оку.
И был майский день.
В полдень, в обеденный перерыв, когда гудели предупредительные сирены и вывешивались сигнальные знаки, указывающие, что всем надо уходить с лугов, ибо туда пошли подрывники рвать сжатым кислородом граниты, – из рабочего кабинета, заваленного планами, картами и таблицами, где по углам на полу валялись образцы пород и куда шло очень много майского солнца, – Федор Иванович стал разыскивать телефоном Эдгара Ивановича и Марию Федоровну. Марии сказал Федор Иванович:
– Мария, ты будешь у меня через четверть часа, по важному делу. Очень прошу.
Эдгару:
– Эдгар, ты придешь ко мне сейчас, по очень важному делу. Очень прошу. В кабинет.
По существу говоря, с этих телефонных звонков начался настоящий и нужный повести роман между Марией Федоровной и Эдгаром Ивановичем.
Утром в этот день, встав в четыре часа, Федор Иванович ходил на работы. Ротозейством прораба и десятников вода размыла песок и фашины[9]9
Фашина – связка прутьев хвороста для укрепления насыпи (спец.).
[Закрыть] у перемычки, и Федор Иванович в скафандре, в водолазном костюме лазил под воду, на дно реки, чтобы осмотреть подгоризонтные части работ, хотя это и не было делом его. Два водолаза всовывали Федора Ивановича в резиновое туловище, закручивали сигнальным концом, обували в свинцовые туфли. Скафандры – эти алюминиевые шлемы, похожие на черепа марсиан по Уэллсу, – привинчиваются, как герметическая пробка, за пробкой скафандра начинает шуметь нагнетаемый воздух, земля оторвана, измерения меняются, вода смыкается над головой и над головою бегут белесые пузырьки отработанного воздуха. Законы физики меняют под водою свет, видимость, давление, – человеку под водою необычно. Федор Иванович осматривал фашины. Фашины проросли, заплелись, задохнулись самими собою. Под водою стало темно и холодно, шалые рыбешки хотели глянуть за стекла скафандра, сжатый свистящий воздух шумел в ушах, мешал слушать подводную тишину, подчеркивая ее. Солнце в ту минуту, когда Федор Иванович вылез на баркас, показалось громадным. И это солнце и фашины, разбухшие под водою, родили тревожную мысль, которую Федор Иванович не мог осознать и привести в порядок. От перемычки по Константиновской старице, служившей отводным каналом, перебравшись через канал на баркасе, Федор Иванович пошел в управление главинжа, к себе в кабинет, прошел Константиновской, по дороге проверял деловые уклоны фашинных одежд нового ложа берега. День наступал просторен и солнечен, облака возникали, чтобы растворяться в сини. На фашинной укладке работали женщины, пестропаневые степнушки. На земле валялись только что срезанные лозы чернотала и козьей ивы. Женщины вязали ивовые косы, затягивая лозины вицами, – были бодры и весело смотрели вслед инженеру. Фашины рядами укладывались на речное ложе и приколачивались к земле ивовыми ж рогулями. Чернотал и козья ива берутся для фашин потому, к тому, чтобы они прорастали в воде, закреплялись корнями и закрепляли бы ими землю дна. И Федор Иванович осознал свое ощущение. «Все это будет залито водою», – Федор Иванович, поглядывая на здоровенных девок и баб, смеявшихся ему навстречу и вслед, увидел вдруг себя на месте одной из козьих ив. Это совсем не то, что быть под водою в скафандре. В каждой лозине осталась жизнь этих лозин, связанных, зажатых вицами, тысячей, – их заливает водою, они хранят жизнь, – и корни одной лозы впиваются в тело другой, лозы ищут соков, чтобы кормиться, ищут земли, убивают друг друга, – лоза добралась до земли, она сыта, – но она задыхается, – и она, задыхаясь и убивая соседей, разбухая водянкой, тянется к солнцу, – это совсем не то, что быть в скафандре на дне под водою, и совсем так, как умирают рыбы в воздухе. Пестрые женщины вдоль этих траншей фашинных кладок и синеширокопорточные гологрудые землекопы представительствовали жизнь и русские древности, – то и другое очень кровомясое.
Тогда загудел гудок к обеденному перерыву и завыли сирены, люди пошли вон от строительства, ибо на строительство отправились подрывники рвать граниты жидким кислородом, – тем самым, которого не хватает ивам под водою. Федор Иванович, в толпе рабочих, ехавших на фабрику-кухню обедать, на думпкаре, поехал к себе, в кабинет, – и он ждал жену и друга.
Эдгар Иванович очень внимательно глянул на Федора, отошел к окну, сел на подоконник. Мария Федоровна, в покойствии и ясности, села у стола, против Федора Ивановича. Федор Иванович рассасывал папиросу. Вновь взвыла сирена, и сейчас же за нею громыхнул первый взрыв, тряхнул дом, прозвенел стеклами. Федор Иванович опустил и поднял глаза.
– Что же ты мне скажешь, Эдгар? – спросил Федор Иванович.
– О чем? – переспросил Эдгар Иванович.
– Я хотел бы знать о тех отношениях, о которых ты и Мария молчите, но которые есть между вами, – сказал Садыков.
Глаза Ласло стали, чтобы действовать. Кривою линией он прошел по комнате, обогнув стол карт, и стал у стола. Мария Федоровна встала со стула, ее лица никто не заметил. За окном светило солнце, так сильно, что острые его лучи делали тени в кабинете черными. За домом выл, сипел, захлебывался экскаватор, и кто-то кричал: – «Мита-а-яй! а Митааяяай, я пообееедал!» – В трагические минуты у людей всегда мало жестов.
– Хорошо, буду говорить я, вам трудно, – сказал Федор Иванович, опустив голову и вновь подняв ее. – Сегодня в четыре часа совещание, Эдгар, ты знаешь, но я не об этом. Тамбовский батюшка сказал однажды за преферансом, ремизя партнера: – «человек человеку за преферансом – брат!» – хорошо сказал. Я мог бы добавить еще рассуждения о состоянии фашин под водою, которые натолкнули меня на решение не откладывать разговора, ибо в фашинах мы сознательно топим живые прутья. Но мне сейчас не до аллегорий. Я позвал по следующему поводу. Три года тому назад, восьмого августа, в усадьбе Спасское, вы – ты, Мария, моя жена, и ты, Эдгар, мой друг, – сошлись, скрыв это от меня. Мне было больно, я понимал, что наши отношения станут очень сложными. Я считал это случайностью. Я никак не являюсь властителем душ, у меня были такие же приключения, и я допускаю их возможность за каждым. Но год тому назад ты, Эдгар, вернулся к Марии. Я читаю дневники ровно девять месяцев. Я делал вид, что я ничего не знаю, полагая это увлечением, которое пройдет со временем или о котором вы расскажете мне, если это серьезно. Тогда в Спасском ты, Эдгар, хотел чокнуться со мною пустою рукой, – но ты мне друг, Эдгар. Мы строим новую жизнь и новую общественность, стало быть, и новую мораль. Нам надо напрягать все силы, чтобы работать и освободить себя от всего для работы. Прошли осень, зима и весна, и я говорю с вами. Я не хочу скрывать, что мне очень трудно, потому что я любил Марию, как умел. Время мне указывает, что это не временное увлечение. Полигамию я не считаю коммунистической моралью, но честность в отношениях коммунистов я считаю долгом коммуниста. Однако, я предлагаю сейчас не рассуждать, но действовать. Ты понимаешь, Эдгар, что моему сердцу сейчас трудно с тобою. Мы строим новую общественность и новую мораль. И мне кажется, Эдгар, что у нас нет поводов ссориться. Но ты понимаешь, что я не могу допустить поругания моей жены. Я предлагаю вам жениться, раз вы любите, без ненужной лжи. Я буду на этом настаивать, как на естественном ходе вещей. Ключи от нашего дома у тебя, Мария. Я останусь жить в этом кабинете. Ты, Эдгар, имеешь право получить квартиру на строительстве в Скальном поселке. Я останусь в этом кабинете, пока ты не разберешься в наших вещах, Мария, и пока вы не устроитесь. О вещах говорить нам не стоит. Прощайте. Идите. Всего хорошего. В четыре начнется совещание, Эдгар, но было бы хорошо, если бы ты зашел в три, надо подторговаться.
Мария Федоровна бессильно села на стул, выслушав приговор. Эдгар Иванович ни единым мускулом не проливал кувшина слов Садыкова. Глаза его стали остры, как остры бывали глаза его предков-кочевников, следивших в степи за врагом. Федор Иванович принял этот взгляд.
– Нет, Эдгар, мы не враги, нет. Виноваты мы все. Я припомнил, что я ни разу не сказал Марии о том, что я ее люблю, не успел, не удосужился. Всего не обдумаешь сразу. Мы поговорим потом, Эдгар. Мария, дай твою руку, я поцелую. Идите.
Зазвонил телефон.
– Да, – сказал Федор Иванович, – это я, Садыков. У гусеничного номер пять, хорошо. Да. Нет. Хорошо, буду, У меня новость, сейчас я разошелся с женой. Да. Нет, я просто не нахожу нужным ложных положений. Она выходит замуж. За Эдгара Ивановича. Да. Совещание в три с половиною.
Федор Иванович повесил трубку. Служебный кабинет пребывал деловит и рабоч. Стены смотрели чертежами. Окно смотрело в луга. За окнами светило солнце, ветер нес запахи сырой земли, трав и цветов. В такие дни человек должен быть дружен с землею. Мария Федоровна заплакала, уронив голову на стол, на чертеж.
– Это служебный кабинет, Мария, – сказал Федор Иванович, – перестань. Ступайте. Я зову следующих, меня ожидают на очереди.
Садыков позвонил.
Федор Иванович выбежал из-за стола, когда вышли Мария и Эдгар. Федор Иванович – своими больными ногами – очень быстро ходил по кабинету, геометрическими прямыми. Его плечи обвисли еще тяжелее, чем обыкновенно. Морщины сползли со лба к глазам. Лицо стало таким, какие бывают у людей, прошедших тридцать верст пешком, не спавших сутки и пришедших из слякотей в чужое жилье, в сумерки, к вечернему русскому чаю – не для того, чтобы чайничать, но чтобы сказать деловую, короткую истину, страшную новость и идти дальше, не отдыхая, в ночные версты, по следующим страшным новостям.
Опять зазвонил телефон. В кабинетах строительств люди могут себя чувствовать иной раз так же, как волки за флажками волчьей облавы. Звонила Любовь Пименовна.
– Да. Да? Найдены хорошие древности? Да, да. Я приду сегодня к вам вечером, можно? – Я очень устал. У меня сегодня все время почему-то аллегории. Вы помните, мы спорили, – да, это так всегда, – я строю будущее, новую реку, – вы раскапываете для будущего древности.
Опять зазвонил телефон.
Федор Иванович сказал в трубку:
– Да, иду.
Федор Иванович вышел из кабинета. Земля под ногами теплела в зеленой мураве. Солнце слепило. Облака растворялись в синем небе. На траве лежали рабочие, отдыхая после обеда. На пороге фабрики-кухни девка у девки искала в голове вшей. Садыков шел обедать, в очереди к кассе стал рядом прораб Сарычев, в соломенной шляпе, похожей на китайский зонт. Садыков и Сарычев поздоровались.
– Я сейчас разошелся с женой, – сказал Федор Иванович, – я всегда желаю людям всего хорошего и предпочитаю жизнь опрощать елико возможно. Эдгар Иванович – мой друг, они любят друг друга. Все это я считаю естественным ходом вещей и долгом коммуниста. Ласло честный коммунист, Мария Федоровна – честная женщина. Я помог друзьям, им было тяжело. Как дела на вашем участке?
Садыков был совершенно покоен. На совершенно неподвижном его лице скулы собрались в рабочие будни.
Волк, обложенный флажками, – в лесу, в рассветный час, в изморозном дожде, – слышит, как улюлюкают и арярякают кричаны, – изморозный дождь намочил флажки, – волку нет дорог, – волк похож на лозы козьих ив в фашинных кладках.
Солнце, так же, как Федору Ивановичу, обрезало глаза Марии Федоровне и Ласло, когда они вышли на солнце, – и также сине было небо, – но земля провалилась для них, ибо ни он, ни она не заметили нескольких километров от строительства до Коломенского кремля, до Маринкиной башни, которые прошли они рядом в безмолвии остановившихся у каждого – свое, ощущений. Если на кремль взглянуть от Маринкиной башни, азиатский Коломенский кремль чудесно вдруг превращается в средневековую европейскую готику – именно Маринкиной башней. Здесь пролегала тропа жизни второй, тем, от чего само солнце входит в сердце. В перемешанности жизни второй и жизни первой за-арярякал вдруг Азией азиатский кремль – и улыбнулась насмешливо европейская готическая девичья Маринкина башня. Глаза Марии Федоровны и Эдгара Ивановича вернулись из-за пространства.
– Какая ерунда! – сказал Эдгар Иванович, и Мария не слыхала этих слов.
– Что же мы будем делать, Эдгар? – спросила Мария.
– Что делать? – переспросил Эдгар Иванович, не слыша. – Ты иди сейчас домой.
– Куда – домой?
Ласло не ответил. Готика Маринки безмолвствовала. Эдгар Иванович вспомнил, как вчера он носил на руках любовницу Марию, всю забрав ее в руки, и как говорил ей нежные слова. Мария Федоровна принадлежала ему сейчас – навсегда. Он взглянул из-за пространств на эту женщину, которая стояла против него – и глаза не понимали, – женщина была чужая, незнакомая. Федор Иванович, рассуждая о законах течения рек, где не может быть отступлений от законов, – о том, как сильна человеческая жизнь, как цепка жизнь, – несколько раз рассказывал Эдгару Ивановичу о поразившей его минуте, когда Мария, в лужах крови на фронте, в доме, где убили ее отца и мать, вдруг заиграла на рояле, одна, для самой себя, и улыбнулась тогда Федору Ивановичу застенчивой, беспомощной улыбкой, когда увидела его. Мария Федоровна пришла к Садыкову из-за ва-банков смерти. Мария Федоровна сейчас стояла против Ласло, беспомощно опустив плечи, – она беспомощно улыбалась, ее улыбка, должно быть, была такою же, как тогда на фронте. Небо над землей покойствовало очень сине, глаза Марии в синем свете светились, очень голубы.
Из кремлевских развалин вышел музеевед Грибоедов, баки его величествовали нечесанностыо, цилиндр съехал на затылок. Черную крылатку музеевед закинул за плечи.
– Ласло, привет! – крикнул Грибоедов. – Откуда и куда? – Идемте ко мне, я покажу вам каменную бабу, только что найденную на дне котлована, никак не хуже московского Исторического музея, – какие фуфудьи! – Товарищ Полетика, Любовь Пименовна, ее расчищать будет. – Идем! – И также пришло время выпить.
От музееведа пахло луком и водкой. Охотники в лесах на волчьих облавах перетаскивают флажки с места на место, чтобы все больше и больше суживать волчьи пути. У музееведа валялись кучами стихари, орари, ризы, рясы, штабели икон, – в углу сидел голый деревянный Христос. И около Христа, в углу, подпирая потолок, стояла каменная баба, страшная, обросшая водорослями, – смотрела на комнату слепыми, ухмыляющимися глазами. Азиатский Коломенский кремль из окон музееведа Азией и был. Музеевед предложил водки с зеленым луком. Эдгар Иванович не отказался от водки и выпил.
– Мария, посиди здесь. Федор просил прийти в три, к совещанию. Через два часа я вернусь.
Музеевед налил вторые рюмки и чокнулся с голым Христом, потому что Ласло пил машинально. Мария села в угол каразинского дивана, забралась в угол с ногами. Автобус потащил Ласло из города на строительство.
Когда Эдгар входил в комнату совещания, он слышал фразу Федора Ивановича:
– Старая мораль умерла, когда люди дрались кулаками и на дуэлях за женщин и страдали от ревностей.
Федор Иванович прервал себя, увидев Эдгара Ивановича:
– Ты пришел, Эдгар, – давайте заседать! – сказал он и сел рядом с Ласло.
В средневековье у рыцарей был обычай бросать противнику перчатку вызова, – такие вызовы по-азиатски-русски превращаются иной раз в каменных баб, как Маринкина башня превращается в готику средневековья. Федор Иванович превратился в кричана. Брови его собрались в дело. На совещании инженеры отчитывались в работе. Когда расходились с совещания, прораб Сарычев, пошедший рядом с Ласло, сказал:
– Федор Иванович – настоящий коммунист, честно реагирующий. Когда свадьба?
Эдгар Иванович ответил, не улыбаясь:
– Да, Федор – отличный товарищ.
Весь тот день Федор Иванович пробыл на делах и к сумеркам пошел в город. Он встретил Любовь Пименовну; вместе они, в синий час сумерек, ходили к Маринкиной башне, – в тот час, когда начинают летать летучие мыши и кричать совы, а закат холодеет ночью, чтобы побагроветь востоком. Садыков ни словом не обмолвился о дневном своем разговоре с Ласло, отчимом Любови Пименовны. Готика Маринкиной башни упиралась в сумрак неба, к звездам. Под развалинами стены шумела мельница, темнел омут.
– Это любимое мое место в Коломне, – сказала Любовь.
Садыков был молчалив и покоен, он сидел подле на камнях, оперев голову ладонями. Вокруг башни бесшумно шмыгали летучие мыши, и в башне кричала сова, в синем мраке, в синей тишине.
– О чем вы задумались, Федор Иванович? – спросила Любовь Пименовна.
– Я слушаю тишину. У меня сегодня очень трудный день и я очень устал.
– Да, около этой башни всегда тихо. Я записала преданья об этой башне, о ее судьбе. Вы знаете легенду о том, что душа Марины Мнишек летает вороною над Россией. Эта ворона души размножилась в тех ворон, которых мы знаем, – именно поэтому вороны – всегда живут в местах разрушения, вестники умирания. Мою работу о Маринкиной башне я заканчиваю тем, что башня залита новой рекой. Но – вот, что меня всегда поражает. Я часто хожу в башню днем, там растет бузина, припекает солнце, пахнет лопухами и – ничего нет, пусто, кирпич, осколки цемента, бузина, – ничего нет, и тем не менее около этих камней протекала очень длинная – и история, и поэзия, я не знаю, как выразиться. И здесь всегда тихо.