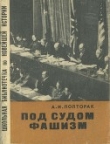Текст книги "Том 4. Волга впадает в Каспийское море"
Автор книги: Борис Пильняк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 31 страниц)
– Я пойду, – сказал Садыков и поднялся, – я очень устал за этот день. Любовь Пименовна, придя домой сегодня, должно быть, вы узнаете новость, трудную и вам, и Ольге Александровне, главным образом, скажите ей, что я всем сердцем с нею, – а для вас, а вам – позвольте поцеловать вашу руку. Да, это всегда так, была история, была поэзия, – остались камни. И никакая история не запишет о том, что вот сейчас, здесь, у этой башни, здесь, около вас – мне очень хорошо. Берегите вашу чистоту, Любовь Пименовна, – и встретьтесь с вашим отцом, и помирите с ним маму.
– О чем вы говорите, Садыков? – спросила Любовь Пименовна, поднимаясь за Федором Ивановичем.
– Всего хорошего, Любовь Пименовна, – ответил Садыков. – Я буду приходить к вам, – можно? – хорошо? – Садыков тихо и очень осторожно поцеловал пальцы Любови Пименовны.
Башня и кремлевские развалины безмолвствовали.
В лугах кричали перепела, путая свои – «спать пора! спать пора!» – с плачем и скрипом землечерпалок. Федор Иванович шел пешком. Строительство горело армиями электрических огней. Федор Иванович прошел в чертежную, в рабочий свой кабинет. За открытым окном пели песню мужские и женские голоса. Федор Иванович прикрыл ставни, – человеческая песнь затихла, перепелиный крик исчезнул, и слышнее и зловещее стал слышен плач, скрип, вой захлебывающихся в воде и в земле экскаваторов: крик этих машин, роющих землю, был поистине страшен из тишины кабинета, – крики, кряки, сипы, сапы, храпы, стоны, вой, визги.
Чертежная спряталась во мрак, как в сентябрьские ночи, когда эти ночи проходят русскими нищими, оборванцами, в медленности, мокроте и проваливают тогда землю в черный мрак, в такой, когда не видно своей же руки и самого себя, – в сентябрьских полях тогда ночами, когда ничего не видно, грязь налипает по шею и по полям бродят волки. По лугам в тот вечер проходил май. В чертежной Садыкова застрял сентябрь. Такие ночи существуют к тому, чтобы человек каялся перед землей. В сентябрьскую чертежную шли вой экскаваторов. Федор Иванович сидел у стола, папиросы красным светом освещали скулы, свет папиросной золы на скулах был очень злобен, скулы были жестки, как жестока была эта сентябрьская ночь в мае. В свете папирос возникала трубка телефона, та, которая не оказалась справедливостью, но очень большою жестокостью перчатки средневекового рыцарства. Когда папиросы погасали, тогда вспыхивали спички.
– Земельно-скальный? – говорит главинж Садыков. – Все в порядке? – Хорошо.
– Тепловая станция? – говорит главинж Садыков. – Все в порядке? – Хорошо.
Человек в ночном белье сидел, опустив голову на ладонь, морщины на лбу собрав по-стариковски, – телефонные провода рыскали по строительству, – лицо стало очень добро, всепрощающе. В природе нет движений геометрически прямых, ничто в природе не движется геометрическими прямыми, построив свое движение эллипсами, параболами, гиперболами, – реки вод, как и лет, всегда строят себе кривые ложа, не могут иначе. Федор Иванович воспринимал Марию геометрически прямой. Ему было больно. За окном цвел май.
Федор Иванович встал от стола, подошел к окну, распахнул окно, долго смотрел в заснувшие луга. Человеческой песни уже не было, но перепела кричали, не подозревавшие своей гибели в тот час, когда эти луга будут залиты. Восток багровел холодом. Федор Иванович покашлял, отхаркался, плюнул за окно, выпил молоко из крынки и бодро лег на жесткий диван, чтобы спать. Через четверть часа он храпел.
Мария Федоровна в этот час лежала, сжавшись комочком, на павловском красного дерева из усадьбы Каразиных диване у музееведа Грибоедова, в той самой комнате, где валялись стихари, орари и где стоял голый Христос. Около Христа горела свечка. И за Христом стояла страшная, зеленая, протащившая свое тысячелетье на дне реки Оки, каменная баба, щурила слепые свои глаза. За стеной бредил музеевед. За домом пели третьи петухи. И Мария Федоровна, сжавшись комочком, плакала, уткнув голову в подушку, – около ее ног лежал огромный ее пес, по имени Волк, сторожил ночь, ее и Христа.
Эдгар Иванович в тот час ходил под кремлем по берегу Москвы-реки. Был он в широкополой черной шляпе, в черном пальто, в рыжих крагах. Кремль и Москва-река провалились в запространства, и так же, как для Садыкова, для Ласло эта ночь оказалась сентябрьской. Надо было возвращаться из запространств, решать и действовать. Перчатки чести нельзя не принять, честь осталась за Садыковым. И человек решил. Эдгар Иванович стряхнул в ночь со шляпы беспорядок мыслей и пошел – мимо Маринкиной башни, куда Лиса и Мишка бегали подкарауливать таинственности, – к дому, к жене, к Ольге Александровне. Эдгар Иванович помнил слова Садыкова о чарке, которую надо выпить до дна, – он умел собирать в порядок свои мысли, – и он понимал, что в себе самом он посеял войну, где подрались его инстинкты. Коммунист, он должен был принять перчатку чести брата Федора, – но он видел в своих запространствах – не Марию, а – дочь Лису. Мария и для него, как для Федора Ивановича, становилась формулою.
В доме Скудриных никто не спал, но в доме не горел огонь. И над домом в майской ночи сиротливый поднимался месяц, выбираясь из-за старых лип и серебря крышу дома.
Эдгар Иванович Ласло собирал материалы для любопытной теоретической статьи, – а именно, он наблюдал перерождение психологии рабочих и – психологию перерождения. Основными кадрами рабочих на строительстве – каменщики, плотники, землекопы, грабари, тачечники, грузчики, пильщики – были рабочие-сезонники. Психология рабочего-сезонника, крепко связанного с деревней, посылающего свои рубли в свои деревни, полумужика, – общеизвестна, как общеизвестны и условия работы сезонников, когда этот год они работают на Турксибе, тот на Кавказе, третий в Ленинграде или на Сяси. Сезонники живут и работают артелями, связанные родством, соседством по деревням и председателем – артели, выбранным еще у себя на родине. Каждое место работ сезонников временно, и сезонники, эти полумужичьи пролетарии, всегда чуть-чуть пиратствуют на работах и всегда чуть-чуть своя хата с краю. Около монолита сезонники застряли на несколько лет, и Эдгар Иванович Ласло наблюдал, как быт и психика сезонников перестраивались в быт и психику постоянных рабочих, настоящих пролетариев, – артели рассыпались и перестраивались, сезонники шли в союзы и в общественную работу, учились грамоте и образовывали семьи, не связанные со своими деревнями, инстинкты рвачества стирались. Сезонники не только работали, как волы, ели артельную кашу и спали на голых нарах, но они стали появляться в красных уголках, в библиотеках, на собраниях, в кино, и российские рубахи и паневы сменялись после работ на европейское платье, а на постелях появлялись простыни. Сезонники работали на одном и том же месте уже четвертый год.
Эдгар Иванович понимал всю закономерность этих явлений, как понимал, что всегда на строительствах и спешат больше, чем следует, и суматошатся, и живут без быта иль – точнее – бытом лагерей и походов, временных бараков, временных, взятых у военного ведомства, палаток, так называемых, гессеновских. Шинкари, артельные жены и просто проститутки, кинутые мужья и жены, поножовщина – обстоятельства на строительствах почти неминуемые, как неминуемы и библиотеки, стенгазеты, рабочее изобретательство, профессиональная активность, ночные смены, несчастные случаи. За всем за этим Ласло видел законы созидания психики рабочего класса, новой русской культуры, где тысячи рек, ручьев и ключей рабочей психологии так же закономерны, как течение рек подлинных, и где налицо законы и класса, и рубля, и быта, и пола, и российских суглинковых путей и перепутий.
Рабочие поселки расположились вокруг строительства. Рабочие, не вселенные в постоянные дома, жили во временных бараках и в гессеновских резиновых палатках за слюдяными оконцами и за брезентовыми дверями. На перекрестках бараков шумели передвижки, спортивные площадки, кино под открытым небом, лавки КСПО и Моссельпрома, витрины стенгазет и приказов. – В женских палатках пахло так же, как и в мужских, подогретой в солнце резиной и землей, и еще пахло туалетным мылом и испорченным коровьим маслом, – туалетным мылом женщины мыли после работ лица, коровьим маслом мазали волосы. На порогах женских бараков пелись песни. Мужики изгонялись из женских бараков всегда очень шумно. На старшей по бараку лежало следить за порядком, тушить электричество, прекращать по ночам смешки и хахи.
Вечером в тот день во всех бараках, как на всем строительстве, все знали о разговоре между Садыковым, Ласло и Марией Федоровной. Вечером под небом показывали кинокартину, и рабочие пили в ларьке нарзан и ситро. Вечером в женском бараке номер пять, как и в других, должно быть, бараках, в час, когда потушено было электричество и женщины лежали по нарам, собравшись спать, в тишине засыпающих тел, сказаны были такие слова:
– Теперь он ее убьет, – сказал во мраке бодрый бабий голос.
– Кто кого?
– Едгар – Марью Федоровну, – ответил второй голос, печальный. – Она ему поперек стала.
Охламон Иван Ожогов был прав, утверждая, что в каждом женском бараке, – если на барак семьдесят одна женщина, – семьдесят одно горе в каждом бараке, – или, по крайней мере, так казалось. Женщины, уравненные с мужчинами в гражданских правах, не уравнивались бытом и не уравнены, конечно, биологией, когда дети остаются на руках матерей. В бараках были собраны холостые женщины, от сорока лет – старухи, от тридцати до сорока – вдовы с детьми, от двадцати двух до тридцати – вековушки, до двадцати двух – девушки, у которых будущее оставалось в этих же бараках, все женские судьбы, созданные отсутствием мужчины, – и естественно, что в женских бараках очень напряжена была судьба пола, горькая судьба и обреченная.
– Думал он все время и думал: не дело коммунисту драться из-за бабы и страдать от этого, – раз любишь – живи полюбовно и откровенно, а не блуди потихоньку, как воры. – Женщина говорила речитативом, не громко, как рассказываются сказки, рассказывала всем уже известное, начинавшее превращаться в предание. – Смотрел он все время, смотрел, – может, опомнются, – и пришел конец его терпению. Позвал он их к себе в кабинет перед ясны очи и сказал тихо да ласково…
– Тоже – ясны очи!., сволочи они, все кобели! Не отвяжешься от них, кобелей, – сама, как дура, и знаешь, и лезешь, а потом не удумаешь, куда глаза да брюхо от людей убрать!.. Все они кобели одинаковые!
– Теперь он ее убьет, – повторил во мраке бодрый голос.
– Это что же такое!? – крикнул злобный голос. – Нам проходу нет, волосы с мясом рвут, ишь, сколько их сюда на луга навалило.
– Теперь она ему поперек стала.
– Брось, девки, пустое говорить! – возник звонкий и бодрый голос. – А комсомол на что? а женотдел? – мы что, не люди, что ли? – революция для всех была!.. Это верно – пристают. Только знай свой край, да не падай. Чай не зря нас политграмоте учат, на совещания зовут, – это теперь не деревня! – Революция для всех была, а с ответственных товарищей ответственный и спрос!..
– Позвал он их к себе в кабинет перед ясны очи…
– Ясны очи! тоже!
– Это что же кругом делается? Своих баб мужики в деревнях оставили, сами жрут, а мы отвечай. Мне вчера все кости вывернули, черти.
В бараке, в темноте, пахло резиной, потом, душистым мылом и коровьим маслом. Заплакал грудной ребенок, ему ответил второй. Зажгли угловую лампочку, электрический свет осветил портрет Ленина, венок из бумажных цветов вокруг Ленина и голову женщины, склонившуюся над ребенком.
И в тот же час шли разговоры в подземелье у охламонов, у печи кирпичного завода. У столовой доски сидел акатьевский дед Назар Сысоев, тот самый, который в девятьсот восемнадцатом году прикупил себе турчаниновской мебели красного дерева, – приходил дед Назар повидать сыновей, младших, работавших на строительстве, да старшего, ставшего охламоном. Подземельная печь погромыхивала заслонками. Седой дед говорил сыну:
– Так и живете в пещере? –
– Так и живем, – ответил сын.
– Ты слухай, сынок! – Действительно, что ли, река задом наперед потечет?
– Потечет обязательно.
– Ты послухай!.. Деды жили, прадеды жили, и водили мы плоты с Оки на Волгу, тыщу лет водили, а может и больше, сызмальства приучались, каждый пригорок, каждый перекат знаем, что под Коломной, что под Касимовом, – испокон веку рекою жили. И теперь, выходит, кончится наша жизнь, не будет теперь Оки ни под Рязанью, ни под Муромом, ни под Елатьмой. Ты подумай!., мы-то как же будем, когда, сказывают, не то что Оки не будет, а даже самое Акатьево под воду уберется. Ведь это конец свету! – прямо, как в Китеже-граде, – тонуть нам, что ли, вместе с Акатьевом?
– Тонуть, папаша, не придется. Река возникает объективно. Вот почему революция и происходит, что река пойдет наново, а Акатьево, действительно, отойдет – подвинется от новой реки на новые места. Было тыщу лет – и нету, – надо наново. Это и есть объективная революция, папаша. Тонуть революционному народу, папаша, не приходится.
Вскоре за дедом Назаром в подземелье влез его младший сын Степан, ничего не разглядел сразу в подземельном мраке. Василий, старший брат, в подземелье именующийся Пожаровым, сказал иронически:
– Газетчик пришел, сочинитель и изобретатель. Я не спорю, реку гнать назад необходимо, – спору нет. А вот во власть лезешь… Я вот тебя звал рыбу ловить, – на это тебя не уловишь, с собаками не сыщешь. А мы бы к Акатьеву шоше провели и мост бы на рыбий деньги построили под Гололобовом.
Степан сказал миролюбиво:
– Ты, папаша, здесь обрелся? пойдем в культурную чайную отсюда. А с тобой и не спорюсь, Вася, за нас дела скажут. В Бронницах завод строют? – В Песках и Воскресенске химические заводы строют? На Коломенском машиностроительном новые дизельные цеха в половину Коломны построили? – я с тобою, Вася, не спорюсь. Я не спорюсь, Вася, ты за коммунизм стоишь, только все вы с винтов соскочили, не осилили, сумасшедшие вы. Вы жизни боитесь. А мы ее строим – на труд, а не на рыбы. Мы без страху живем. Ты, Вася, бросай свое сумасшествие.
– Ты зачем пришел-то? в газету опять про нас сочинишь, в «Новую реку» каплешь? – сказал иронически старший.
– Новая река старую жизнь зальет, а люди останутся и жить им придется по-новому. Вылезай ты отсюда, ведь, как кроты живете. А пришел я за папашей, пойдем с нами в культурную чайную.
– Там водки не подают.
– То-то.
– Степ, а Степ, – заговорил старик, – а Акатьево наше тоже зальют? – ведь, с испокон века…
– Опять двадцать пять. Зальют непременно!
В то время, когда говорили старик и сыновья, в подземелье вполз Иван Карпович Ожогов, – товарищ Огнев разлил водки, – спавшие пододвинулись из потемок к столу, расселись на корточках и разлеглись вокруг.
– Не об этом вы говорите, товарищи, – сказал Ожогов. – На строительстве сегодня, в двенадцать часов дня, Федор Иванович Садыков сказал Эдгару Ивановичу Ласло о новой морали, и все мы должны знать об этом и иметь свое мнение… Мы все, конечно, под колесо истории угодили и как бы нам кости не сломало, как Марье Федоровне.
Кирпичные заводы всегда похожи на места заброшенности и разрушения.
Здесь у печки было очень душно, нище и грязно, – наверху на земле цвел май, – и не понималось, почему люди не выползут из-под земли на свежий воздух, на траву, под небесный простор, – должно быть, май и звездное небо оказывались тем же, что солдатские письма из деревни в казармах. Сумерки же того майского дня прошли просторны и чудесны.
В сумерки охламон Иван приходил к себе в баню и долго тогда стоял на дворе, опершись локтями на калитку в садик, расставив ноги, опустив голову на руки, – сумасшедшие глаза его пребывали печальны и счастливы одновременно. В комнатах Ласло не зажигали света, там безмолвствовало, – вернулась в дом Любовь Пименовна.
Перчатки вызовов средневекового рыцарства превращаются иной раз в волчьи облавы, и моральные события коломенских весей так же законны, так же значимы, как вредительские взрывы на заводах, на шахтах, на реках. Просторные сумерки погасали очень тихо, и сумерки стали ночью. Волк на волчьих облавах, щетиня шерсть и скаля зубы, должен или прорваться через флажки, чтобы сохранить жизнь, или пасть под пулей, чтобы потерять жизнь: не дай бог, если волка поймают живьем, – тогда его посадят в клетку, чтобы крошились о решетку клетки его клыки и чтобы лысела шкура.
Когда ночь заслонила сумерки, в дом прошел Эдгар Иванович. Черная его широкополая шляпа опустилась на глаза.
В квартире Ласло никто не спал, но в комнатах не горел огонь.
Все двери в доме были открыты. В доме никто не спал, но в доме было безмолвно, – так показалось Ласло, не случайно безмолвно. Эдгар Иванович прошел в кабинет. Стены кабинета заросли книгами. Эдгар Иванович зажег свечу, свет свечи уполз под потолок, в книги. – И прежде, чем вошла из-за книг в кабинет Ольга Александровна, Эдгар Иванович видел ее, жену, мать, друга, женщину, которая отдала ему все свое последнее, которая возникла в его жизни вместе с молодостью, которая прошла вместе с ним его пути и перепутья революции, через российские моря по колено и ва-банк, – эта женщина, прошедшая с ним последнюю свою жизненную дорогу – от первых морщинок у глаз до пятилетних ласк Лисы, – он увидел всю эту дорогу, которая осталась за дверями, когда в комнату вошла Ольга Александровна. Она приходила в этот час к нему – со свечою в руке, в ночном халатике, – сейчас она вошла в черном дорожном платье, с белым, несмятым платком у губ.
– Я слушаю тебя, Эдгар, – сказала Ольга Александровна, став у порога и не закрыв за собою дверь, где за плечами матери во мраке соседней комнаты осталась Любовь Пименовна, от матери узнавшая ту новость, о которой ни слова не сказал ей Садыков.
Там, в запространствах, в юности, когда только что сошел снег детства, росли голубые цветочки, которые учебниками ботаники называются Galanthus, – их собирал в детстве Эдгар Иванович. Эти же цветы росли в поле, сейчас же за окопом, – рискуя жизнью тогда, Эдгар Иванович лазил за окоп, чтобы послать такой цветочек Ольге Александровне. Эти же самые цветы стояли у него на столе, подаренные ему вчера Лисой, нарванные в саду, первые цветы лета, – Лиса подарила их отцу в тот час, когда отец рассказывал сказку о медведе, рубившем свой собственный сук, и когда Лиса сказала, что мамины сказки лучше, потому что мамины сказки с картинками, а у отца ничего не видно. Цветы, называемые в учебниках ботаники Galanthus'ами, стояли в глиняной баночке около свечи.
– Как видно, ты все уже знаешь, Ольга? – спросил Эдгар Иванович.
– Я знаю это от Ожогова, – ответила Ольга Александровна, – но я хочу знать от тебя.
Ольга Александровна сморщила в боли губы – совсем не так, как некогда на фронте русской революции, когда своими пальцами она вытащила из мяса своей раны осколок гранаты. Ее руки потянулись к губам, несмятый платок смял ее губы.
– Мама! – крикнула Любовь Пименовна и стала сзади матери у порога.
Там, в запространствах, Лиса нашлась, как защитить мать. – «Хорошо, – сказала Лиса, – но мамины сказки с картинками, а у тебя я ничего не вижу, как медведь рубит сук!» – эти Galanthus'ы цвели – и будут цвести, пока есть земля, еще тысячелетья, как тысячелетья будут жить люди, ибо жива Алиса, – но он, Эдгар, она, Ольга, – они уйдут с земли или к червям кладбищ, или в последние судороги крематория, старясь по пути ко крематорию, когда у него окончательно поседеют волосы, когда у него выпадут зубы, одрябнут кожа и мысли, – а в это время будут цвести и цвести Galanthus'ы!
– Слушай, Алиса, – сказал Эдгар Иванович и замолчал.
– Да, мы слушаем, – сказала Любовь Пименовна.
– Вы говорите не с Лисой, а с Ольгой Александровной.
– Слушай, Ольга, – поправился, повторил Эдгар Иванович и заговорил, возвращаясь из-за пространств.
– Ты все уже знаешь. Я должен сказать, что все кончено. Федор поступил жестоко и честно, как требует коммунистическая мораль. Суди как хочешь. Я не могу не принять его вызова. Я не могу бросить женщину, которая честно отдана мне и которую я не совсем честно в свое время взял. Поверь, что тяжелее всего – мне. Суди как хочешь.
– Хорошо, – тихо сказала Ольга Александровна и села на стул к столу. – Завтра я и мои дочери, мы уйдем от тебя.
– Идем, мама, – громко сказала Любовь Пименовна и стала сзади матери.
Под глазами Ольги Александровны легла частая сетка морщин, и была она светла в своем горе, женщина, карие глаза которой яснели голубым русским небом. – Годы идут свинцовой поступью. Челюсти и плечи у людей могут гнить. Ольга, жена, мать, друг, женщина, возникшая вместе с молодостью, отдавшая все их общим делам, – майские ночи могут превращаться в сентябрь, в сентябрьских нищих оборванцев. Эдгар Иванович знал, что Ольга Александровна не может быть любовницей. Мария мирилась быть второю женщиной, – таких жен не бывает, если они жены. Ольга Александровна собрала все свои силы, чтобы подняться со стула.
– Хорошо, – повторила Ольга Александровна, – завтра я и мои дочери, мы уйдем от тебя, – чтобы спасти твою честь, если эта честь требует бросить дочь и старую жену.
Ольга Александровна положила руку на подсвечник, чтобы взять свечу, как делала всегда, уходя от мужа. Свеча гофманствовала, как некогда, когда Эдгар Иванович не запомнил, на рассвете или с вечера лежала за приземистым оконцем мезонина дряблая, желтая, сукровичная заря. Эта заря вспомнилась сейчас через свечу. Свеча осталась в руке Ольги Александровны, и неизвестно, сколько времени прошло сейчас в безмолвии, ибо Эдгар Иванович видел, как коснулась Ольга Александровна подсвечника и видел руку, всю закапанную стеарином. Ольга Александровна нашла, наконец, силы, собрала силы, чтобы поднять голову и свечу.
– Да, я должен, Ольга. Я коммунист прежде всего. Я должен уничтожить свои чувства!
– Я тоже коммунистка, Эдгар Иванович! – крикнула Любовь Пименовна. – Вы должны подделать ваши чувства!
– Прощай, Эдгар, – сказала Ольга Александровна.
– Прощай, Ольга, – сказал Эдгар Иванович.
– Мы прожили четырнадцать лет вместе, Эдгар, – что такое долг?
– Я не могу иначе, Ольга. Да, долг.
– Хорошо. Ты бросаешь меня и дочь. Прости, Алису. Тебе не жалко? – Ты справишься с собою? – Долг революции?
– Мама! – крикнула Любовь Пименовна. – Я тоже коммунистка, Эдгар Иванович, так же, как и вы! – Любовь Пименовна обыкновенно говорила на ты с Эдгаром Ивановичем. – Мама, ступай отсюда, я поговорю с Эдгаром Ивановичем. Я тоже коммунистка, Эдгар Иванович. Все это началось не сегодня, мама. Я не понимаю, о каком долге вы говорите, когда Мария была украдена несколько лет тому назад. Ваша честь, Эдгар Иванович, – честь труса и вора, который канонизирует воровство.
И тогда крикнула мать:
– Люба, как смеешь ты так говорить с отцом?
– Он не отец мне и не товарищ! – ответила Любовь Пименовна, – но мы были под одной крышей.
– Люба, ты не должна так говорить, – уйди отсюда, Люба. Всего хорошего тебе, Эдгар. Прости меня.
Эдгар Иванович стоял, опустив плечи.
– Нет, зачем же, пусть Люба останется. Она говорит правду, которую я знаю лучше ее. Но я и революцию знаю больше ее.
Ольга Александровна нашла силы поднять свечу. Она вышла из кабинета – со свечою в руке, которую зажег Эдгар Иванович, – оставив кабинет во мраке. Дочь обнимала плечи матери, мать шла прямо, впереди себя неся свет. Мать села на табурет в комнате Любови Пименовны, посреди комнаты, и дочь опустилась на колени перед матерью, на колени матери положив руки и голову. За открытым окном в саду пел соловей, последние свои песни, и за деревьями поднималась луна, непокойный лжесвидетель чувств. Мать сидела очень прямо, с рукою у губ, со свечою в правой руке. Дом зарос тишиной.
Эдгар Иванович долго стоял у окна, у стола, кабинет чернел тишиною и мраком. Эдгар Иванович чувствовал, как скулы его крепко срослись с глазами и глаза были к тому, чтобы действовать, – он знал, что он принадлежит к той породе людей, которые умели делать, как астрономы умели караулить звезды, и умели – умирать за делаемое.
Эдгар Иванович крикнул в темноту комнат:
– Любовь Пименовна, вы не правы, потому что я должен подчинить свою биологию, да, свои инстинкты! – слышите, Любовь Пименовна, я не оправдываю моего вчерашнего дня, но сегодня я прав! именно – прежде всего я коммунист!
Эдгару Ивановичу никто не ответил. Дом заглохнул тишиной. Женщины слышали в немотствующей этой тишине, как на ощупь, во мраке переодевался Эдгар Иванович, рылся в ящиках стола, присаживался на диван, – и слышали, как прошумели его шаги через столовую и через террасу в сад.
Хлипнула, пискнула, хлопнула калитка. В саду захлебывался соловей своим собственным пением. Тогда, в прямопроспектном Петербурге, в гулкой квартире профессора Полетики, в тот день, когда мать собралась уходить в счастье к Ласло, так же клала Любовь Пименовна, маленькая девочка Люба, голову свою на колени матери. Тогда было счастье. Сейчас пел соловей, которого не требовалось в петербургских прямолинейностях, – но прямолинейности Петербурга никак не стали сегодняшней геометрией Эдгара Ивановича.
Мария Федоровна лежала беспомощным котенком в углу павловского музейного дивана, когда пришел Эдгар Иванович. Деревянный Христос скрещивал руки, мастер семнадцатого века спутал елейность лица Христова с идиотизмом. Волк поднял уши и опустил в недружелюбии глаза, когда вошел Эдгар Иванович. Мария протянула руки навстречу Эдгару. Эдгар Иванович пребывал бодр, деловит и покоен.
– Ну, вот эта ночь и есть наша свадьба, – сказал Эдгар Иванович, – даже Христос присутствует. Надо разбудить музееведа, пусть приготовит чаю. Очень странная свадьба, большевистская любовь! – Эдгар Иванович весело улыбнулся.
– Ты хотел прийти в пять, – я ждала тебя весь вечер и всю ночь. Музеевед спит, только один Волк около меня. Здесь страшно, в этом странном и чужом доме. У этого Христа и у этой бабы глаза сделаны так, что они все время следят за тобою, куда бы ты ни отвернулся.
– Прости, милая, что я не пришел в пять. Я был занят на работе. Завтра ты переедешь ко мне жить, мы получим квартиру на Земельно-скальном поселке. Завтра мы будем веселиться, завтра приезжает в Коломенский театр московская труппа, Малый театр, я купил билеты. Надо разбудить Грибоедова, – как его настоящее имя?
– Не надо его будить, не уходи от меня, мне страшно одной с людьми. Нам надо так много сказать друг другу.
– Нет, почему же? он даст чаю, – как его зовут? – через час мне надо идти на работу, скоро рассветет. А поговорить – у нас очень много времени теперь для всяких разговоров.
Вторая жизнь стала первою. Христос случайного дома безмолвствовал, Христос сидел у ног каменной бабы, – у ног Марии лежал Волк. Земля становилась серой в рассветном часе, и город готовился завыть колоколами, стаскиваемыми с колоколен. Эдгар Иванович пребывал очень бодр. Музеевед предложил водки.
Реки, которые движутся своими тяжестями, именно в этих тяжестях имеют колоссальную силу. Инженеры знают десятки гибелей, когда стихии воды уничтожают города и тысячи людей, ломая все на своих дорогах. Инженеры-гидравлики записывают эти гибели, их даты, и каждый инженер-гидравлик, учась на этих гибелях, расскажет, как рвутся плотины, сделанные из гранита и бетона, те, которые сдерживали десятки миллионов кубов воды, рвутся в клочья и, разорванные, уничтожаются в какой-нибудь десяток минут. Плотины могут быть сломаны и в четыре часа дня, и в полночь, и в полдень, освобождая водные разрушительные стихии. Вал волны тогда поднимается до пятнадцати метров вверх, и этот вал мчится со скоростью ста километров в час, свинцовый вал воды в три этажа хорошего дома, расплескиваясь на десятки километров в стороны, мчит быстрее курьерского поезда, уничтожая все на своем пути – деревни, города, людей, человеческий труд, – срывая, разрывая, ломая, унося себе вслед. Вслед за этим валом, который идет тупым рокотом свинцовых сил, созданных тяжестью, идут пожары опрокинутых цистерн, коротких замыканий, загоревшихся лесных складов, – люди тогда безумеют в гибели. Но – если так сильна вода, – так же, и еще больше, должны быть сильны монолиты плотин, чтобы сдерживать водные силы. Эти ж монолиты строятся инженерами, инженеры должны уметь подчинить плотинам силы вод, – инженеры должны уметь, рассчитав математические формулы, эти формулы сил, рожденных тяжестью, – превратить в гранит, бетон и железо, – инженеры должны защищать граниты от воли волн – строгим расчетом гранита и должны помнить, что только законы физики, соподчинение этих законов, есть их, инженеров, работа.
Эдгар Иванович Ласло командовал людьми около этих гранитов. Каждый инженер-гидравлик чуть-чуть боится воды, ибо он знает ее силу, и каждый гидравлик видел страшные сны, когда во сне он стоял перед плотиной в спутанном времени, руки инженера распростирались бессильно перед ломающимся, гнущимся гранитом, из-за которого рвалась – вода.
Каждый день Эдгар Иванович был на работе, человек революции, рожденный ею. Кроме вод Москвы и Оки на монолит стекали еще воды истории, ибо монолит подпирал не только воды, но и будущее. Эдгар Иванович знал, что плотина не может быть смыта, ибо тогда срывался смысл его жизни. Время свое Эдгар Иванович нес, как монолит, где нельзя не рассчитать ни капли воды. Дни на строительстве заканчивались ночным мраком. Так прошли полтора месяца до смерти Марии. Свадьба, как долг, была сыграна под монолитом. Эдгар Иванович взял в новый дом на строительстве из дома Ольги Александровны – чемоданы и книги. Он сам их увез, сложив на ломовиков.
Отбывал закатный час, когда возчики выезжали с ящиками книг со двора старух Скудриных. Двор зарастал зеленой муравой. Эдгар Иванович вышел на улицу сзади возов, последний раз распростившись с домом и с зеленой муравой двора. У калитки на улице стоял Федор Иванович. Федор Иванович поклонился Ласло и протянул руку.
– Уезжаешь? – спросил Федор Иванович. – На Скальный?
– Да, уезжаю, на Земельно-скальный, – ответил Ласло.
Инженеры помолчали.
– А я хочу зайти к Ольге Александровне, – сказал Садыков. – Очень одиноко мне одному, да и ей не лучше. Любовь Пименовна дома?
– Они обе дома. Я их не видел, они в саду. Зачем ты бьешь человечностью?
Закат медленно желтел. Возчики проехали уже много шагов вперед. Ворота остались открытыми. Садыков ничего не ответил. Лица инженеров в желтом закате желтели. Сказал Садыков:
– Ну, что же, до свидания, Эдгар. Догоняй возы. Я притворю ворота.
– Это опять – человечность?
– Не знаю, что ты хочешь сказать.
– Прощай.
Эдгар Иванович пошел за возами не оглядываясь.