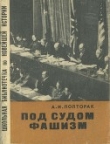Текст книги "Том 4. Волга впадает в Каспийское море"
Автор книги: Борис Пильняк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 31 страниц)
Люди знают, что значит разорвать семью, которой двадцатилетие, где старшему ребенку семнадцать, а младшему – четыре, где быт уже зацементировался и где оставляемый – жена, муж – остается для умирания, для боли, для вдовства, ибо у него все позади, в величайшей несправедливости, – ибо легче убить человека, чем пройти через смерть. – И надо главы писать о той любви, которая была пронесена через двадцатилетие, которая нашла силы все порвать, стать половодьем, чтобы строить наново, со студенчества, – которая забыла о морщинках времени у глаз, остановила время: надо писать главы о верности, побеждающей время.
Но это не конец рассказа.
Любовь есть рождение, ибо человек пришел, родившись, родить и умереть. Через год у них родился ребенок. – И он, и она – имели детей, родили детей, любили детей, растили детей; и – вот тогда, когда родился этот новый ребенок, – они вдруг узнали, что, в сущности, они не знали, – что такое – рождение детей. У него были дети от женщины, которую, оказывается, он не любил; у нее были дети от мужчины, которого, оказывается, она не любила. Этот ребенок родился от любящих, и из всех детей этот единственный, рожденный в большие человеческие заполдни, был подлинным счастьем рождения. Он, профессор, пришел к ней в больницу. Около нее в корзинке лежал ребенок. В глазах у нее было счастье. В глазах у него было счастье. И оба они знали, что мир прекрасен, смерть в этом мире побеждена, все в этом мире оправдано, и, поистине, все надо отдать за будущее, то, в котором будет жить этот единственный, рожденный в заполдни, но рожденный в любви, любимый каждым мускулом и каждой кровинкой отца и матери, как солнце в молодости, – сын, кусок их самих, их повторение, – новый человек! – ибо мир есть – верность.
Как приходит любовь, как проходит любовь?..
Ямское Поле.
12 декабря 1927 г.
Нижегородский откос*
Глава перваяДесять лет человеческой жизни – громадный срок, и десять лет человеческой жизни – оглянуться назад на десятилетие – все это было вчера – Нижний Новгород, Откос, дом Рукавишникова, Печорский монастырь, Заволжье. – Всегда можно сказать о людях, что они просты, – и никогда нельзя говорить, что просты люди. –
Откос в городе Нижнем Новгороде существует к тому, чтобы очищать и печалить человеческие существа и чтобы выкидывать людей в неосознанное, в непонятное. Город Нижний Новгород расположен на горе, над Окою и Волгою, старый русский – бывший удельный, ныне губернский – город, обросоший кремлем, каменными домовинами, хорошими поколениями всех российских бытов, традиций, преданий, – и город всеми своими традициями и бытами обрывается под Откос, особенно с того места, где под Откос же обрывается кремль. Оттуда широчайшим простором видны Ока и Волга, заволжские поемы, заволжские луга, заволжские – Мельникова-Печорского – леса. Леса эти по сие число первобытны, глаз теряется в них. В городе Нижнем Новгороде идут месяцы, ярмарки, традиции, – там за Волгой, где теряется в сини лесов человеческий глаз, горят леса, идут грозы, живут звери, – там на Волге идут пароходы и парусники, уходят в серебро волжских просторов, гудят пароходными гудами. Пространства печалят и очищают человека. У нижегородцев есть традиция – ходить на Откос, часами стоять на Откосе, смотреть в пространства, молчать, думать, печалить, – эти заволжские и волжские просторы и пространства выкидывают человеческие мысли в то нереальное, что так бередит всегда человечьи души – тоскою по пространствам, неизмеримостью просторов.
Город Нижний Новгород – удельный лесной город. Верховые волжские плесы зимами сковываются в больших морозах. На Ошарской площади тогда катаются на коньках, а за монастырской слободой в Девичей роще, около Печор, над Окой и над Волгой ловко бегают на лыжах. Дома в Нижнем Новгороде ставились широкопазые, теплые, просторные, ибо надо было быть в быте длинных вечеров, медленных чаев, книги в кабинете, рояля в гостиной сумерками.
Это была хорошая семья русских интеллигентов, такая, которые перевелись в десятилетье октябрьской революции. Их было трое: отец, мать и сын.
Отец был путейским инженером, и каждое утро половина десятого он садился в санки с медвежей полостью, здороваясь с кучером Иваном, который крякал на морозе в заиндевевшую бороду, – конь, выхоженный дома с детства, нес в Кунавино в управление дороги, черпал простор и серебряный снежок Оки, с тем, чтобы ждать потом инженера в управленской конюшне, – в управлении инженер читал газеты, просматривал чертежи, подгонял десятников, служил, – с тем, чтобы к четырем, заиндевев Окою и косыми лучами красного солнца, снимать форменную свою шинель на кенгуровом меху в теплой своей прихожей, кинув ее на руки горничной в наколке; в ванной комнате тогда была теплая вода; в столовой в то время стояла уже суповая миска, и крышка с миски, в клубах веселого пара, снималась в тот момент, когда инженер, только что вымывшийся, опрыснутый одеколоном, входил в столовую; он целовал руку жены, жена целовала его в лоб; сын целовал руку отца, склоняясь почтительно и шаркая, – отец целовал сына в лоб; после обеда был – вечерний – чай, длительные и приятные минуты семейного отдыха, покойствия, шуток, маленьких новостей, партии шахмат отца с сыном; затем был кабинет в полумраке министерского колпака на лампе и с очередными книгами «Русской мысли», «Вестника Европы» и «Вестника Министерства Путей Сообщения» – до девяти, до встречи с друзьями для винта или для споров о государственной думе и о победах около Перемышля. Ему было сорок, и он был покойным, аккуратным, чистоплотным инженером, семьянином и верноподанным своей страны. Его звали – Кирилл Павлович Клестов.
Ей, жене, шел тридцать шестой год. Ее звали – Натальей Дмитриевной. У нее был единственный сын, родившийся в первый год ее замужества: больше детей у нее не было потому, что после первых родов она оказалась неспособной к рождению. У нее было много досугов и навсегда у нее осталась та медленность слов и движений, которая бывает у голубоглазых русских осьнадцатилетних девушек и которая заставляет предполагать, что кровь у таких девушек – не красная, но голубая, как их глаза и как голубые венки на руках, на висках и у глаз. У нее была медленная, чистая и хорошая жизнь, отданная, главным образом, сыну. С первых гимназических лет сына, она вставала вместе с ним, раньше отца, – и всегда она тонкими своими пальцами делала завтрак сыну в гимназию, заворачивая его в пергамент, с неожиданным каким-нибудь сладким. Сын целовал ее руки, и кучер Иван, который потом повезет отца в управление, отвозил его в гимназию. Она оставалась дома, дни ее были длинны. Дом был покоен. Она провожала мужа и садилась за книгу: она перечитала и перерассказала сыну многое множество книг, прочитанных ею на русском, французском и английском языках. Вместе с сыном она начала учиться музыке и всегда шла на урок вперед его, потому что утрами, отрываясь от книги, она разучивала каноны и гаммы. Сын возвращался к трем, и час до четырех был сладостнейшим ее часом, – они были в комнате сына, она стояла у печки, сын – юноша, как девушка, – отцовски ходил по комнате, и они говорили – о преподавателях и уроках, о Блоке, Метерлинке, о «Критике чистого разума» Канта, о «Сорока годах искания рационального мировоззрения» Мечникова и о последнем спектакле в городском театре. В половине шестого мать и сын шли на каток, сын катался с товарищами, мать – со знакомыми дамами и со студентами знакомых дам. В половине восьмого сын садился за уроки, вместе со своим одноклассником-другом, – мать всегда знала уроки сына. К десяти часам сын ложился в постель, и в доме тогда начиналась жизнь взрослых, отца и матери, их гостей, их дел, их часов на диване в кабинете. – Каждый живущий знает материнскую любовь, ибо у каждого живущего была мать. Человеку дано рождением детей сохранять себя перед вечностью. Должно быть, это верно, что каждая мать, отдавая себя сыну своему, любит в сыне самое себя, свое тело, свою кровь, свою жизнь, свое бессмертие. Если у женщины один ребенок и не может быть других детей, вся любовь отдана этому единственному, совершенно понятно, – этому единственному, который возник предвестиями мечтаний о нем, первым движением там под сердцем, болью рождения и стыдом рождения, – этому единственному, который возник из ее крови и пил молоко ее грудей, вся чудесность жизни которого прошла на ее руках. Наталья Дмитриевна знала, как многие нижегородцы, обрыв Откоса и знала, что та прекрасная печаль, которая щемит душу просторами семеновских лесов, непонятностью сладостной печали, когда сердце на ладони, вырванное из тисков кремлевских улиц, – есть любовь к сыну Дмитрию, ее единственному. Наталья Дмитриевна была медленна и прекрасна. Она всю свою нижегородскую жизнь думала, что она счастлива – домом, мужем, ребенком, своими днями и заботами, – и тогда она не задумывалась о печали Откоса, которым можно, как городу Нижнему Новгороду, срываться к людям.
Сыну Дмитрию шел семнадцатый год. Сын здорового, большого отца и медленной матери, у которой к тридцатипяти годам сохранились ямочки на щеках и голубые венки на висках, сын родился – здоровьем в мать и характером в отца, – так решено было в семье. Должно быть, таким, как Дмитрий, был юноша-Блок, любимый поэт Дмитрия. Дмитрий был покоен, подобран, деловит, не юношески рассудителен и медленен в своих поступках, как отец. Он был слаб здоровьем, хрупок и красив, как мать, и внешностью он походил на девушку больше, чем на юношу, с ямкой на подбородке, с девичим румянцем на щеках, с пальцами длинными, как у девушек. Люди по-разному складывают психический свой мир и по-разному определяют свое место: иные до старости чувствуют некую виноватость перед жизнью, иные никогда не чувствуют своего права на жизнь, – Дмитрий в ранних детских летах, бессознательно знал, где начинается и где кончается его право жизни, – он был прав жить просто потому, что он живет. Он был не детски уравновешен, но не был увальнем. Он был чуть-чуть замкнут. Товарищи в гимназии его любили, но знали мало, от приготовительного класса он дружил только с одним товарищем, Сергеем Березиным, на все гимназическое время его одноклассником. Как у матери, вся жизнь этого отрока и – затем – юноши была очень проста и прозрачна, в той детской мудрости, которая хранится чистотой. Он был чист в своих делах и помыслах. И отец, и мать, и товарищ Сергей знали всю его жизнь, все его мысли. В его покойности, жизнь не чинила ему событий. Товарищ больше матери, а мать больше отца знали, что пробуждение человеческих инстинктов, столь мучительные у юношей – инстинкта смерти, инстинкта права на жизнь, полового инстинкта, – у него прошли почти незаметно, совершенно безболезненно; самым страшным для матери был инстинкт половой, – мать склонна была думать, что этот инстинкт еще не пробудился в нем к семнадцатому году и чуть-чуть беспокоилась за сына – материнским своим половым инстинктом, – товарищ знал, что Дмитрий однажды – добровольно и охотно – пошел с одноклассниками в публичный дом на Миллионной, но просидел там весь вечер в гостиной, слушая рояль и поджидая товарищей, – а когда они уходили из публичного дома, когда товарищи чувствовали себя ворами, у себя же укравшими прекрасное, он весело сказал, поглядывая на светающие липы: – «Ерунда. Мерзость. Не интересно.» – Он танцевал на балах с гимназистками, но не списывал в тетради стихов и не писал стихов гимназисткам, ни одной за всю жизнь. Но стихи он писал, подражая Блоку, о блоковской России.
Город Нижний Новгород, который обрывается Откосом в человеческие неизученности, жил, доживал свой век в канонном быте, в традициях, в крепких кремлевских улицах, в крепких семьях. Дом Клестовых был покоен, медлителен, хотя, в старых, чуть-чуть нижегородских, интеллигентских традициях. Каждая новая книга толстого журнала должна была обсуждаться всей семьей. На Рождество надо было ездить в Москву пересмотреть постановки Художественною театра – и просматривать все новые постановки в своем городском театре, где отец и мать сидели в партере, в третьем ряду, всегда на одних и тех же местах, а сын уходил на амфитеатр к товарищам. У отца был день большого шлема. У матери – час чая. По субботам у сына собирались товарищи и товарки, на кружок самообразования, где читались Бокль, Маркс и Бюхнер, по указаниям отца, и обсуждались жестоко – под руководством матери. В час между собакой и волком, после вечернего чая, когда отец уходил к себе в кабинет, мать и сын шли на каток. – Война 1914-го года чадила Полесьем, Нарочами, Карпатами, Львовом, местечком Сбручицы. Первая глава о Нижегородском Откосе – закончена.
Глава втораяГимназист Дмитрий Клестов носил прическу на прямой пробор, ногти на руках у него были хорошо подстрижены, из-за ворота его гимнастерки выглядывал крахмаленный воротничок и пояс тщательно всегда подбирал гимнастерку. У Дмитрия была привычка – рассматривать свои пальцы. Он был хрупок, и руки его были длинны, с розовыми ладонями, как у девушек, но по-мужски уже сухи. – Гимназист Сергей Березин приходил к своему другу Дмитрию со всяческими несуразностями.
То, поспешно вошед в комнату Дмитрия, он прятал нечто под кровать Дмитрия и семнадцатилетними басами на все комнаты требовал у горничной трехцветную веревочку от пирожного, бывшего за чаем третьего дня, и, получив веревочку, просил, смущенно покрякивая и потряхивая своими нигилистскими кудрями, уйти из комнаты Наталью Дмитриевну, а, когда она ушла, торжествующе тащил из-под кровати лошадиную ногу, копыто, кусок кости с недоеденным собаками мясом, все промороженное инеем, – раскладывал на столе Дмитрия, отодвинув фотографии Блока и матери, бумагу из кондитерской, и тщательнейше заворачивал ногу – к великому удивлению Дмитрия, – и объяснил тогда, что сегодня имянинник классик Сега и что намерен он, Сергей, эту ногу отнести Сеге в подарок с визитной карточкой директора, украденной в свое время из директорского кабинета, – (Дмитрий тогда отговорил Сергея от затеи, грозящей исключением из гимназии, презрительно пожимал плечами и доказывал, что все это – совершенно не остроумно, нога тогда трагическую судьбу сыграла в истории нижегородских кинематографов, – Дмитрий вскользь сказал тогда, что будет в кино Леля Кнабэ, – Сергей не уступал в своих проектах, но решил зайти сначала в кинематограф повидаться с Лелей и потом отнести подарок классику Сеге; в кино же, в тепле, нога оттаяла и стала истекать сукровицей, Леля велела Сергею ее проводить, – Сергей оставил ногу на окне в фойе – на удивленье уборщику, – история ноги всплыла на гимназических партах и с тех пор каждый гимназист, от второклашки до семиклассника почитал за долг всякую стаскивать в кинематограф гадость) –
То неделями Сергей, увлекаясь Ницше, толковал об истинной человеческой свободе, которая связана у людей рудементарными инстинктами совести, и изыскивал способы уничтожить свою совесть, построив свою мораль только разумом; печалуясь существованием у себя совести, изыскивая способы ее уничтожить, Сергей пришел к выводу, что надо что-нибудь украсть, или ограбить, иль убить человека; но воровать было против-новато, не эстетично, – и однажды Сергей пришел очень радостным, сообщил, что нашел он человека, которого можно ограбить, и приглашал Дмитрия на грабеж – (Дмитрий на грабеж тогда согласился, ибо так же читал Ницше, долго обдумывая и продумывая Ницше и предложение Сергея; Дмитрий взял у отца револьвер; несколько дней товарищи ходили в Марьину рощу обучаться стрельбе; затем темным вечером вышли они на грабеж; Дмитрий оказался водителем, он совершенно не волновался, так казалось; они прошли в Пушкинский сад, тогда только что посаженный и совершенно пустой; было темно и холодно; Сергей уверял, что в этот час каждый вечер здесь ходит мужчина в шубе и с руками назад, с тросточкой между лопаток; человек появился во мраке; Сергей обнажил кинжал; Дмитрий поставил боаунинг на «feu»; Дмитрий должен был крикнуть – руки вверх! – к ним навстречу шел мужчина, прямой, как палка, с руками назад; Дмитрий пошел на него; тот вгляделся в Дмитрия и в тот момент, когда Дмитрий хотел крикнуть – руки вверх! – покойнейше сказал: – «Здравствуй, Митюша, – что ты тут делаешь?» – Дмитрий ответил вежливо: – «Здравствуйте, Александр Павлинович!» – и приподнял фуражку; это был лесничий, приятель отца, от которого недавно бежала со студентом-практикантом жена; лесничий прошел мимо, гимназисты постояли в недоумении; знакомого человека грабить было неэстетично; Дмитрий выругал Сергея, Сергей почесал затылок, и они пошли домой, рассуждая, что существенней не факт, но осознание факта, тем паче, что многое бывает глупо, как факт; больше гимназисты не покушались на грабеж и убийство, – лесничий же Александр Павлинович недели через две после той ночи повесился) –
Говорить не приходится о том, что Сергей каждый день был влюблен в новую гимназистку, иногда даже в нескольких сразу, и поверял свои тайны Дмитрию и Наталье Дмитриевне, так же бурно, как бурно переживал прочитанные книги и несправедливости в гимназии. Дмитрий, когда в комнате не было матери, вставал к печке на место матери, грел руки и покойно, всегда как самое обыкновеннейшее, поверял Сергею все свои дела и мысли, большие и малые одинаково. В гимназии, на уроках, Сергей долговязо поднимался из-за парты и говорил физику Надежину: «– Евгений Иванович, вы вывели мне в четверти тройку по физике. Прошу мне поставить пару, ибо сам сознаю, что знаю только на двойку!» – и за Сергеем скромно поднимался Дмитрий с просьбой переделать его четверку на тройку. Физик Надежин переделывал отметки, – но классный наставник классик Сега всегда возмущался: «– как? сто?! – сам знаю, сколько ставить, хотю цетверку поставлю, хотю – кол!» –
Проходила зима, приходила весна. Зима шла канонами, морозами, метелями, скрипами морозов и снегов, всеми российскими обычаями, сочельником, святками, новым годом, великим постом, дымами из труб в небо, дымами из труб в метель. Нижний Новгород покойствовал своею степенностью, в днях, закатах, сумерках и вечерах.
В закатный час однажды, уже в феврале, задержавшись на репетиции перед масленичным балом-спектаклем в гимназии, вернувшись домой, вошли неожиданно и – случайно – тихо в гостиную Сергей и Дмитрий. Дмитрий вздрогнул и ухватил руку Сергея, останавливая его. У окна стояла Наталья Дмитриевна. В комнате были густые сумерки, за окном была густая синь, золотело только случайное облако в небе. Натальи Дмитриевны, ее лица, ее выражения – не было видно, – виден был один силуэт. Она смотрела в окно, голова ее была опущена, руки ее были опущены, плечи ее поникли, в комнате была зимняя тишина. Всякий третий, если бы он был тогда в комнате, сказал бы, что у окна стоят женщина в очень большой печали, в горе, должно быть, – быть может, в таком горе, которого она сама не знает. Сергей тогда ничего не понял. Дмитрий же – он до боли сжал плечо Сергея, повернулся, потащил за собой Сергея вон из комнаты и там, в прихожей, около шуб вешалки, сел бессильно на сундук, покрытый ковром, опустил голову и руки, как мать.
– Что с тобой? – спросил подозрительно Сергей.
– Ничего, – ответил Дмитрий и крикнул: – Мама, мы пришли!
Есть и в мужской, и в женской – вообще в человеческих – судьбах такие дела, которые должен пережить, продумать и решить каждый живущий человек – только для себя, ибо только его одного, этого каждого, касаются эти дела, по-своему решить свою любовь, свою честь, свое время, свою старость – и молодость свою: этими делами человек определяет свое место в мире, не только пред лицом людей, но и пред безразличием того страшного, иль только безразличного лица, имя которому – смерть, имена которым – рождение, время, любовь, смерть. И тогда, в решениях этих дел, перед лицом решения их, в совершеннейшее безразличие падают для человека – его сегодня, завтра, его комната, вещи, быт, даже весь город Нижний Новгород, обрывающийся Откосом, – но Откос тогда становится реальностью. – В феврале Дмитрий отказался от роли в гимназическом масленичном бале-спектакле, не объяснив причин – ни начальству, ни матери, ни Сергею. Отец тогда, у себя в кабинете, сказал сыну, что директор, вчера за винтом, недоумевал, – отец сказал недовольно, сын опустил голову и рассматривал свои ногти, молчал. Отец молвил:
– Ступай. Глупо! –
и сын молча вышел. Дмитрий отказался от кружка самообразования, просил не приходить к нему товарищей и товарок, и сам перестал ходить к ним. Отец приходил к сыну, поправлял пенсне и спрашивал сурово:
– Что же, ты хочешь, что ли, остаться недоучкой? – разве ты не понимаешь, что коллективная работа с товарищами вырабатывает общественные навыки? – Шопенгауэра начитался? –
сын молчал. Отец рассердился тогда и вышел от сына, хлопнув дверью. – Ночью тогда, в час отца и матери, когда сын уже спал, отец говорил матери:
– Прости, Наташа, за вульгарность. Выслушай меня внимательно и не истолкуй криво. Жизнь – есть жизнь, и в жизни много отвратительного. Точно так же со мною поступил мой отец, когда мне было шестнадцать лет. Я объясняю поведение сына, – как бы сказать, – биологически… Не дай Бог, если он будет заниматься онанизмом… Надо отказать Даше и нанять новую горничную… я переговорю…
Но Наталья Дмитриевна не дала договорить мужу. Не гневом, но – колоссальнейшей болью, оскорбленностью, брезгливостью – заговорила она – протянув в умолении вперед руки и запросив пощады:
– Что ты, что ты говоришь, Кирилл!? – как тебе не стыдно? – как тебе не страшно! – как можешь ты так оскорблять меня – –
– Я говорю, как естественник, – сказал Кирилл Павлович.
– Как можешь ты так оскорблять меня, – прошептала Наталья Дмитриевна. Плечи и голова ее поникли. Она замолчала. Муж хрустнул портсигаром. Министерская лампа горела полночью, тишиной, двадцатиградусным морозом, ставшем на улицах. Жена вышла из кабинета во мрак гостиной, пошла к окну, заиндевевшему растениями доледниковой эпохи.
В февральские морозы солнце греет уже мартом. У нижегородцев есть правило в солнечные дни в феврале ходить на Откос, в полдень, когда семеновские леса видны на громадные десятки верст, и снег, и свет так остры, что ими можно порезать глаза. На Откосе трудно дышать от холода, мороз идет инеем, иней садится на ресницы, а обоз, который виден за тридцать верст на волжских льдах, уносит тогда с собою в неизвестность человеческую волю. И на Откосе, в полдень, отчаянным февральским морозом, Дмитрий, внимательно рассматривая Заволжье, те снежные просторы, о которые можно порезать глаза, сказал Сергею:
– Знаешь, Сережа, я наверное скоро застрелюсь, – сказал Дмитрий. Это было в пустой урок после большой перемены. Больше ни слова не говорил Дмитрий. Гимназисты пошли в классы. Сергей пропустил пятый урок и, пока Дмитрий рисовал голову Зевса, был у Натальи Дмитриевны. Он пришел расстроенным, он затворил за собою двери, – в комнату шли мороз и свет через хвощи доледниковых эпох, в комнате был белый, очень резкий свет, – Сергей сказал без вступлений:
– Знаете, Наталья Дмитриевна, я гулял с Митей до Откосу, – и он мне сказал – «знаешь, Сережа, я наверное скоро застрелюсь». – Я стал его спрашивать…
На плечах у Натальи Дмитриевны был тяжелый плед, плед придавил ее плечи. Мороз в окнах был холоден и пуст. Все морщинки у глаз и на висках Натальи Дмитриевны были очень видны. Морщинки у глаз – опустели, как опустели глаза, – плед стал невесомым.
– Сережа, Сережа, узнайте, Сережа, что с ним, узнайте сейчас же, узнайте во что бы то ни стало, – слышите, узнайте!..
Сергей ушел, чтобы не оставлять Дмитрия и чтобы прийти вечером. Через час пришел Дмитрий, покойный, чуть-чуть деловитый и медленный, как всегда. Мать видела его в окно, как он попрощался с Сергеем, пожал его руку и взял под козырек, поклонившись. Мать встретила сына в прихожей.
– Здравствуй, мама, – сказал сын, и он медленно раздевался.
Он пошел к себе в комнату. Мать пошла за ним. Мать прикрыла за собою комнату. Плед упал с плечей матери. Она протянула руки к сыну, она положила руки на плечи сына, она опустила голову на грудь сына. Она была бессильна и решительна. Сын судорожно обнял мать. Сын судорожно стал искать своими губами губы матери. Сын зашептал:
– Мама, мама, милая, милая… –
и судорожно оттолкнул сын свою мать, в смертной тоске закинул руки за шею, сжал свою шею своими руками, побитой собакой пошел к кровати, упал лицом на кровать, сказал негромко и твердо:
– Уйди, мама, – мама, уходи, уходи от меня, прошу тебя, мама.
Мать не ушла. Мать собою – как каждая мать – прикрыла голову сына, защищая от чего угодно, грудью своею прикрыла голову сына, говорила словами, у которых отступленья нет, – «что ты хочешь, Митя, сын мой, родной мой, что ты хочешь? – я все сделаю для тебя, – ну, скажи, ну скажи мне, родной мой, сын мой, – ну скажи мне только одно слово, что с тобою, и я все сделаю, что ты хочешь» – –
Сын молчал. Сын поправил, освободил свою голову, – поцеловал платье на груди матери. Сын сказал:
– Только никогда, ни о чем не говори отцу. Клянись.
– Клянусь, – сказала мать.
– Мама, я ничего не могу рассказать тебе. Я не могу, пойми меня. Уйди от меня сейчас. Скоро приедет папа. Я ничего не сделаю против твоей воли, я обещаю тебе. Уйди от меня, мама.
Мать вышла из комнаты сына. Мать долго стояла на пороге комнаты сына. Пледа не было на плечах у матери. Звонок мужа нарушил тишину сумерек, муж вошел в столовую, потирая руки от мороза. Сын поцеловал руку отца, отец поцеловал руку матери.
Ни сын, ни мать не пошли в тот день на каток. Сын сел за уроки. Мать сказала, что едет к портнихе, – мать поехала к Сергею, и мать, и Сергей бродили по Откосу, чтобы никому не мешать. Мать просила, как взрослого и как заговорщика, выпытать все у Дмитрия, мать крепко жала руки Сергею, в умолении. Откос проваливался во мрак и в холод. Мать в тот вечер с отцом уезжала в гости, чтобы оставить Дмитрия и Сергея наедине.
И был тогда трудный вечер двух гимназистов. Дмитрий стоял у печи. Сергей метался по комнате, штурмуя Дмитрия. На столе у гимназистов горела свеча, тень Сергея бегала по стенам и по потолку. В доме в те часы, нижегородствуя, засела солидная тишина, в тепле и в редких потрескиваниях мороза за окнами.
И Дмитрий признался Сергею, в отчаянной скорби.
– Да, я хочу застрелиться, потому что со мною случилась страшная вещь, которую определить я не могу и с которой я бессилен справиться. Я люблю свою мать. Нет, подожди. Ты вот любишь Лелю, – и ты же живешь со своей горничной, и ты ходил в публичный дом. Я никогда не любил никаких Лель, я никогда не сходился с женщинами и никогда не сойдусь, потому-что мне это омерзительно и совершенно не нужно. И вот, так, как ты любишь Лелю и свою горничную, и девку из публичного дома, – так я люблю свою мать, я люблю ее больше жизни, больше всего на свете и гораздо больше самого себя. Мне стыдно, мне позорно. Я молюсь на свою мать, как на бога, все прекраснейшее в мире – она, все чистое и священное. Но ночами я стою у двери в спальню отца и матери, и я подслушиваю все звуки, идущие оттуда, – и я готов убить отца от ревности. И дважды, точно случайно, я входил в ванну, когда мылась мама; я больше этого не делаю, потому-что боюсь, что у меня разорвется сердце от ее красоты.
Дмитрий стоял неподвижно у печи, когда говорил это. Он смотрел вверх остановившимися глазами, по щекам его текли и падали на грудь, на гимнастерку крупные, медленные слезы. Сергей бегал по комнате и тоже плакал, утирая кулаком глаза, но не стыдясь слез. Гимназисты подолгу молчали, плача. Сергей обнимал иной раз Дмитрия и мазал свой лоб его слезами, – иной раз пил из графина воду и говорил в растерянности:
– Постой, подожди, давай обсудим здраво. Ну, ты – – и не находил слов, бегал по комнате, гоняя свою тень.
– Мне надо застрелиться, – говорил Дмитрий, – потому-что ничего иного я не могу придумать. Я не могу посягнуть на мать, я не могу убить отца, которого она любит и который мне – отец. Я думал, – я ничего не понимаю. Всю жизнь самым близким человеком мне была мама, и сейчас я ничего не могу сказать ей, ибо я не смею оскорбить ее.
Сергей пил воду и бегал, останавливался против Дмитрия и говорил:
– Постой, подожди, давай обсудим здраво… Ну, ты дай мне слово, что не будешь стреляться в течение недели, – дай неделю на рассуждение. Надо обсудить.
Сергей ушел от Дмитрия через кухню в тот момент, в заполночный час, когда на парадном привычным звонком разбудил тишину дома Кирилл Павлович. Сергей вышел в луну и в мороз, смятенный делами друга. Он пошел на Откос, Откосом проверить себя и дела Дмитрия. Луна светила заволжскими просторами, мороз разбросал алмазы по снегу и мороз шелестел шагами Сергея. Тень Сергея сиротливым волчонком металась за Сергеем, – таким же сиротливым и растерянным, как мысли Сергея, сердце его и понятия о дружбе и долге, смятенные словами Дмитрия. Сергей долго мотался в ту ночь по Откосу, – и Сергей решил предать друга.
Наутро Сергей караулил из-за угла, как проехал в гимназию Дмитрий, как вернулся Иван за Кириллом Павловичем, как поехал Кирилл Павлович в управление. Тогда Сергей позвонил на парадном и прошел к Наталии Дмитриевне. Сергей чувствовал себя бесчестным человеком, потому что можно предать друга на тройке в четверти, но не пред лицом друговой смерти, – можно говорить дерзости старшим, но не вмешиваться в любовные их дела и не рассказывать о том, как их подкарауливают в ванных.
Сергей сказал Наталье Дмитриевне следующее, стоя и опустив глаза, поздоровавшись поклоном, не снимая пальто, с каскеткой в руках.
– Я узнал, что происходит с Митей. Я предаю друга, мне теперь нельзя с ним встречаться, ибо я дал честное слово, что все будет в тайне, а это касается именно вас. Но я решил снять с себя ответственность за его смерть. Он любит вас, Наталья Дмитриевна, как мужчина женщину, он видел вас в ванной, он ревнует вас к Кириллу Павловичу. Он знает, что вы не можете стать его женой и решил застрелиться. – Прощайте! – Сергей шаркнул ногой, поклонился и выбежал из гостиной, со слезами на глазах, шмыгая носом.
Наталья Дмитриевна осталась посреди комнаты – шахматной королевой на паркете пола. Плечи ее не были опущены. Голова ее – не была опущена. Она не видела, не заметила, как убежал Сергей. Она сказала в пустоту:
– Да-да. Никогда не говорите, никому не говорите об этом, Сережа, никогда, никому. Да-да.
Наталья Дмитриевна улыбнулась, как улыбаются во сне, брови ее тогда сошлись в строгости и решимости. Она оглянула комнату просыпающимся взором. Комната была пуста и безмолвна в тепле, противоставшем уличному морозу. Наталья Дмитриевна, все еще во сне, шагнула к круглому столу и взяла обеими руками спинку кресла, оперлась о него, поднялась на цыпочках, откинула назад голову, выгнула спину, прошептала еще раз: