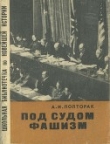Текст книги "Том 4. Волга впадает в Каспийское море"
Автор книги: Борис Пильняк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 31 страниц)
Волга впадает в Каспийское море*
Роман
Реки возникли в те эпохи, когда земля из астрономического состояния переходила в состояние геологическое. Кремнезем, граниты, сланцы, пески, глины – тальвег[2]2
Тальвег – наиболее пониженная часть долины.
[Закрыть] – река, поток воды – расход воды, живые сечения, горизонты, трассы, – перекаты, плесы, отмели – строжайшая закономерность, где решающим являются только законы физики, сил, тяжестей, веса, – только. Природа не знает прямых движений, и на каждой реке силою падения вод по горизонту уклона – должны быть два течения: сбойное верховое, клинообразное, сходящееся, которое, опускаясь на фарватере до дна, размывает это дно, сбрасывая на стороны размытые пески и превращаясь во второе течение – расходящееся-донное, идущее от дна фарватера к берегам, загрязненное и смятое, потерявшее свою живую силу.
Так было и есть веками.
Долины рек возникают от размыва. Реки по своим тальвегам всегда идут змеями, никогда прямыми руслами, – и горизонты падения русла рек похожи на лестницу – перекат, плес, перекат, плес, – водопады на реках живут, отодвигаясь к истокам рек, – так создано законами физики, потому что иначе б живая сила воды, которая в природе ломается плесами и перекатами, освобожденная, достигла б неимоверных сил и быстрот, и реки исчезли б, слив все свои воды, ничем не задержанные.
Вода, как природа, не знает прямого течения; воды ломают свои русла, чтобы воздвигать себе препятствия.
Эти два течения, расходящееся-донное и сбойное-верховое, именно они и определяют судьбы плесов и перекатов: чем круче заворот реки, чем круче поворот вогнутого берега, тем быстрее сбойное течение, тем сильнее живая сила, тем глубже размыв дна, – и здесь возникает плес, – но вода устала, сломав свою силу, вода вышла на отдых донного покойствия, она бессильна размывать, – и здесь возникает перекат, улегшийся песками между плесами. Если сила течения сильнее грунтов, она ломает, размывает берега, чтобы истратить свои силы, уравновесить их, – и река мелеет, растягивая свои живые течения широкими, но низкими поперечными горизонтами.
Так было от эпох, когда земля из астрономического состояния переходила в геологическое. Воды рек движутся параболами, гиперболами, эллипсами. Инженеры-гидравлики уложили законы течения рек в формулы математики, где не может быть погрешностей.
Роясь в юрских, девонских, каменноугольных пластах, инженеры исчисляют возрасты рек, их юности и старости. Щепка, брошенная в воду на Оке под Коломною, будет снесена в Каспийское море, – но камень, брошенный там же, будет поднят водою только тогда, когда живая сила сбоя будет сильнее камня, – так бывает очень редко, и камни засоряют речные донья. Прямое движение абстрактно, как нуль. Под городом Саратовом на Волге, которая тысячи лет тому назад называлась рекою Ра, семьдесят лет тому назад затонула баржа с кирпичом, сломала течение за собой и – народила целый остров песков против Саратова, десятки километров, раздвоивших Волгу на два рукава. Движение вод непостоянно, оно переходит от малого расхода к большому, от меженей до половодий, – но, раз пустившись в путь, подчиненная своей собственной тяжести и только ею двигаемая, вода чинит свое движение безостановочно. Инженеры-гидравлики знают силу воды – и они знают, что с этими силами можно бороться – никак не нарушая, никак не противореча им, но – координируя их.
Профессор Пимен Сергеевич Полетика ехал из Ленинграда на строительство новой реки.
Строительство раскинулось на несколько губерний. Под Коломною, ниже слияния рек Оки и Москвы, строился монолит, подпиравший и отбрасывающий назад окские и москворецкие воды. Одновременно с этим рылся канал под Москвою, соединяющий реки Москву и Клязьму. От Щелкова на Клязьме до Нижнего приготавливалось новое русло. Строительство имело целью создать реку, путь течения которой проходил бы от Коломны к Москве вспять по прежнему руслу Москвы-реки, каналом под Москвою до Клязьмы и от Москвы до Нижнего клязьминским руслом.
Профессор Полетика, инициатор строительства, ехал в Коломну.
В Москве он задержался на день, – надобно было побывать в Госплане, в ВСНХ, в Мосгубземотделе, в учреждениях, которые профессор называл строительными конторами. Профессор Полетика пребывал в старости, медленен, строг и сутул, старик строгих и старых правил, человек необыкновенной для революции судьбы. Ученый с европейским именем, большой теоретик, большой практик и строитель, Пимен Сергеевич Полетика с тысяча девятьсот третьего года, с дней съезда, расколовшего русских марксистов, принял теорию диалектического материализма в большевистском ее толке. С тысяча девятьсот семнадцатого в Россию пришла та справедливость, философию которой профессор принял в молодости, ему ничего не приходилось перестраивать. В двадцать четвертом году, как и в четырнадцатом, профессор писал по старой орфографии и лекции свои начинал словами: – «Уважаемые граждане, будучи марксистом…» – Очень немного имен, два-три десятка на всю Россию, сумели в двадцать четвертом остаться такими же, какими были они в четырнадцатом: это право до революции в среде не знавших этих людей они обрели своими делами, давшими им имена, поднявшими их над распрями имперских русских лет, – в среде ж людей, которые их знали, право это укреплялось человеческими их достоинствами, оказавшимися обязательными для всяческих лет, революция подтвердила их права. Профессор Полетика, старик, старчески и профессорски чудаковатый, никогда не ездил на автомобилях и всегда выходил из дома в сюртуке, этот ученый, медлительность почитавший одним из основных успехов прогресса и отдавший в двадцать пятом году в Ленинский институт толстую пачку писем Ленина. Студенты и инженеры четырнадцатого года относились к профессору с тем же почтением, что студенты и инженеры двадцать четвертого.
Индустриальное строительство, волею которого были окрашены русские годы, начиная с девятьсот двадцать шестого, воплощали в жизнь многие проекты строителя Полетики, он стал во главе многих строительств. Ему много приходилось разъезжать по России, но из Ленинграда в Павловск Пимен Сергеевич собирался так же, как в Нью-Йорк.
В Москву Пимен Сергеевич приехал ленинградским скорым, с утра, – проехал на извозчике в Большую Московскую гостиницу, где останавливался всегда, с дней своего студенчества, и где знали его по имени-отчеству. В девятьсот двадцать девятом году Большая Московская называлась Гранд-отелем. Пимен Сергеевич позавтракал яичницей, стаканом молока, – и поехал на том же извозчике, что привез его с вокзала и с которым разговаривал он по дороге о ножницах овса и мануфактуры, – по делам в Госплан, в Наркомзем, в Мозо. В Мозо Пимен Сергеевич узнал, что на строительстве монолита работает инженер Эдгар Иванович Ласло, – Пимен Сергеевич помрачнел, услыхав об этом, брови его строго защетинились: с инженером Ласло четырнадцать лет тому назад ушла от Пимена Сергеевича его жена.
С этого разговора в Мозо началась цепь вещей, развернувшая эту повесть.
Из Мозо, который находился на Садово-Триум-фальной, в доме прежней губернской земской управы, извозчик повез профессора переулками – Воротниковским, Пименовским, – и второй раз вспоминал Пимен Сергеевич о своей жене законом повторности явлений.
Двадцать пять лет тому назад Пимен Сергеевич, только что окончивший институт безусый инженер, венчался в церкви Старого Пимена. Тогда была молодость и все было впереди. В тот день, молодым инженером, не веруя в Господа Бога, все же торжественно стоял молодой этот инженер перед алтарем и перед любовью к невесте, священною, как всякая чистая любовь. Через одиннадцать лет после того дня жена ушла от Пимена Сергеевича и увела детей, оставив раздумья о человеческом достоинстве. С тех пор, со дня свадьбы, профессор не был ни в этой церкви, ни в этом переулке.
Профессор приказал остановиться около церкви Старого Пимена. На воротах в церковный двор висела вывеска:
«Аукцион при московских ломбардах».
Пимен Сергеевич прошел в церковный двор. У паперти толпились люди, на деревьях кричали вороны. Кацавейки, подтянутые кушаками, и платки на паперти, явные люди смоленского, Сухаревского и таганского рынков, скучали, степенны и деловиты. В стороне от чуек стояли двое, очень похожие друг на друга, не то мастеровые, не то интеллигенты, странно одетые люди, примерно так же, как персонажи Островского – в лаковых сапогах, в картузах с лаковыми козырьками и в черных длиннополых сюртуках. Пимен Сергеевич, сам всегда носивший сюртук, глянул удивленно на их сюртуки. Старший сказал профессору, подделываясь под прасолов[3]3
Прасол – оптовый скупщик скота и разных припасов (обычно мяса, рыбы) для перепродажи (устар.).
[Закрыть]:
– Начнут в четыре часа. Если касательно красного дерева, ничего особенного нет. Имеется один шкафчик буль. Пройдите, посмотрите сами. Если надо, можем собрать гарнитур.
Пимен Сергеевич ничего не понял, поблагодарил, сердито дернув шляпу, и прошел в церковь. Церковь походила на склад вещей, уцелевших от пожара. У стен валялись шкафы, гардеробы, диваны, много швейных машин. Иконы исчезли со стен, замазанных наскоро известкой, алтарь уничтожился, но росписи в алтаре остались. Стены лепились объявлениями и плакатами. – «В борьбе за мир крепите оборону Советского Союза!» – плиты пола заросли ошметками грязи. Перед ступенями, оставшимися от алтаря, стояли скамейки для торгующихся, как в уездных театрах, сам же алтарь исчезал под буфетами и гардеробами, и над ними, на высоте трех человеческих ростов, на двух гардеробах, на обеденном столе стоял столик с молотком и стулик для аукциониста. Людей в церкви, то есть в ломбарде, собралось немного, они не снимали шапок, деловито осматривали вещи и громко обсуждали цены, с которых начнется аукцион, вывешенные на гардеробах, кроватях и креслах вместе с номерками этих кресел, диванов и швейных машин. Сумеречный свет падал через решетки и пыль церковных окон. Профессор, следуя примеру остальных, ненужно пошел от вещи к вещи. Здесь продавали с аукциона невыкупленное в ломбарде, – продавали нищету, всячески случайную. Ситцевыми пуфами, никелированными кроватями и липовыми обеденными столами читалась история русской бедности. Покупатели, которые пришли на аукцион, были торговцами, – то есть прежние владельцы вещей не имели тех бесценков, за которые уходило их нищенство. В ломбарде сырело, серо и никак не свято.
Прыщавый юноша в шляпе, распахнув пальто и положив пальцы в карманы жилета, забравшись на гардероб, бодро крикнул со стола на гардеробах, стукнув молотком, стандартным речитативом:
– Аукцион начинается! Номер первый. Осмотрено?! – Двадцать! – Кто больше?! – Раз!
Покупатели сели на скамьи, законсервировав лица в строгую безразличность. – Два!
– Двадцать один! – безразлично крикнула чуйка с задней скамьи.
– Двадцать один слева, – кто больше!? – Раз! – бодро крикнул прыщавый щеголь. – Два!
Профессор вышел из церкви. Вороны полошились на деревьях. Сумерки наступали тихи и ясны. Компания актеров шла по деревянным доскам двора, заменявшим тротуар, – должно быть, обедать в артистический трактирчик, поместившийся за Старым Пименом. Актеры шли гуськом и хохотали. Неправильно получивший извозчик громко укорял актеров.
– Разве я вам не рассказывал разговора в трамвае? – говорил актер, шедший впереди. – В трамваях висят антиалкогольные плакаты, на одном из них написано: – «Первую рюмку берешь ты, а вторая хватает тебя!» – Я ехал в траме, рядом сидел мастеровой, он прочитал плакат раз, два, завздыхал, задумался и сердечно сказал мне: – «Хорошо бы так, – сказал мастеровой, – я бы в деревне при таких делах третий дом поставил бы, – а то пьешь, пьешь ее, окаянную, целую телушку пропьешь, пока она тебя, стерва, схватит!» –
Актеры расхохотались вновь. Профессор подошел к своему извозчику.
Двадцать пять лет тому назад молодой инженер подъезжал в карете к этим самым воротам и ждал у паперти невесту, чуть-чуть из озорства решив венчаться в церкви своего имени. Тогда отцветал май, в час венчания наступали сумерки, и так же кричали вороны на этих же самых деревьях – души разрушения. Молодой инженер знал тогда и честь, и долг, и счастье, и бодрую тяжесть взятого себе в руки на всю жизнь – любви, – и любовь у профессора Полетики была на всю жизнь единственной. Как человеческий труд, так и воля, и честь человеческие всегда борются с голой природой, – борются тою же самой природой, природой организуя природу, труд, честь, долг. Ничто не выпадает из цепи зависимостей. Пимен Сергеевич знал истину, истинную для него и всегда подтверждавшуюся в его жизни, – что человек всегда отплачивает человеку тем же, как платит человек. Стоит быть благородным с неблагородным, – и этот неблагородный постремится быть честным не только в делах, но и в помыслах, – и наоборот: – примите благороднейшего с поправкой на мерзавца, – он ответит мерзавцем. Профессор Полетика был естественником, – правило человека – быть благородным – он считал необходимым не только в плане морали, так скажем, высшей, – но и просто выгодной для человека, ибо быть благородным человеку – и удобней, и выгодней, и разумней, – разум же человеческий Пимен Сергеевич почитал превыше всего. Отклонение от норм благородства профессор считал патологией. Таким отклонением было его расхождение с женой, – или другие причины были решающими здесь? – биология, то неосознанное, подсознательное в человеке, оставшееся от зверя, инстинкты, кровь, наследственность? – но Пимен Сергеевич считал все это темным в человеке и человека недостойным. Жена пришла чистой женщиной, тихой девушкой, ограничившей мир шиллеровской и тургеневской романтикой. Карие глаза ее светлели – как голубое русское небо. И на пороге второго супружеского десятилетия, счастливого и действенного, как казалось Пимену Сергеевичу, ибо все ладилось в семье, спорился труд мужа, строилась его слава, росли хорошие дети, – жена ушла от мужа, сошлась со студентом, с репетитором сына, ушед, увела с собою детей. Это произошло в девятьсот четырнадцатом. Профессор запер опустевшие комнаты жены и детей, – и революция прошла этими замороженными комнатами, не входя в рабочий кабинет профессора, где Пимен Сергеевич оставался в одиночестве со своими лекциями, проектами, чертежами, формулами – один со своим трудом. С девятьсот семнадцатого Пимену Сергеевичу ничего не приходилось перестраивать, и судьба предоставила ему решать вопросы его личных дел, собственного достоинства, жизни и смерти, – тех вопросов, которые должен решить каждый, когда полки лет начинают давить на плечи, и которые каждый человек должен решить по-своему. Студент Ласло пошел стопами Пимена Сергеевича, стал инженером, изредка сталкивала их общая работа, они навсегда были незнакомы. Старший сын Пимена Сергеевича в девятнадцатом году погиб, убитый на фронте гражданской войны. Вестей от жены не приходило. В Мозо Пимен Сергеевич узнал, что Ласло работает на строительстве монолита. Мысли вернулись к отошедшему, закопались в десятилетии, засоренные временем. Мысли строились невесело.
Извозчик выехал на Тверскую. Солнце уходило в закат. Пребывал час, когда служилое сословие, расположенное в Москве военным положением, возвращалось со служб. Дворники поливали улицы водою. Если бы наркоматы, синдикаты, тресты и прочие многие служилые заведения ввели в те времена в Москве форму для своих тарифо-сеточников, – Тверская в тот час заполнена была б униформами, как плакатами, вне зависимости от пола и возраста. Служилое сословие лезло в трамваи и автобусы, рявкало автомобилями, черными ротами лилось по тротуарам и спортивными трусиками, рысцой бежало по мостовым около тротуаров, – змеями очередей вставало в хвосты у магазинов за хлебом, за колбасой, за водкой, за слоеными пирожками с капустой и за билетами в кино. Пимен Сергеевич не любил служилого сословия, плакаты ж приводили его в беспокойство, пугая. Страстная площадь взвывала плакатами кинематографа, ионовского Дома книги, РИ, «Вечерней Москвы», «Известий». Памятник Пушкина безмолвствовал. Тверская от Страстной до Советской походила на Пекин, на китайский город, где не видно неба за матерчатыми вывесками, – афиши издательств, журналов, театров, кино, лотерей висели через улицу, загораживая небо. Лишь над площадью губисполкома меркнуло небо, тихо уходил июльски-уставший золотой день.
Расплачиваясь, профессор спросил извозчика:
– Ну, как же, братец, – что ты скажешь в конце концов про жизнь? – голомяна? – Пимен Сергеевич повторил словцо, подслушанное у извозчика.
– Голомяна, – ответил извозчик. – Конечно, если смотреть без очков, – а то в очках ни пиля не увидишь!
– Нет, ты не прав, братец, – сказал ворчливо профессор, – жизнь никогда не может быть плохой, не должна.
В ресторане Большой Московской гостиницы играл оркестр, за накрахмаленными столиками сидели иностранцы, журналисты и прожектеры, понаехавшие в Москву на зуб пробовать строительство социализма в Союзе Республик. Полетика заказал себе у безразличного лакея, называвшего профессора по имени-отчеству, сухарей, молочного супа.
Повторность явлений всегда необычна, Пимен Сергеевич думал о церкви Старого Пимена: ожидая пищи, он потребовал к себе посыльного и, со своею запиской, послал его на Никольскую к букинисту Михайлову купить Четьи-Минеи, где записано житие святого Пимена.
Оркестр благозвучал фокстротами, бывшими в запрещении в те российские годы. Иностранцы из обеда делали каждый день ресторанные развлечения, превратив старинный русский трактир, знаменитый своими селянками и расстегаями, в европейско-американский «палас». Мужчины-иностранцы покойствовали в серых костюмах туристов, женщины – в бальных нарядах. Белые лакеи величествовали поспешной медлительностью. Пимен Сергеевич осматривал сытых людей, ему казалось, что он видел злодеяния и боли, которые должны твориться и творились за этими накрахмаленными столиками в живых цветах, – почему думал Пимен Сергеевич о злодеяниях, он не знал.
Столик иностранцев англо-американского типа говорил по-французски и по команде хохотал, – острил человек, сидевший спиной к Пимену Сергеевичу. Пимен Сергеевич расслышал: – «Донбасс, mal, malheur», – перевел на русский– «зло, несчастие». – Остривший оглянулся, – Пимен Сергеевич узнал инженера Полторака. Полетика вспомнил его имя – Евгений Евгеньевич. Полторак оглянулся еще раз – его столик притих. Тогда Полторак поднялся и пошел к Пимену Сергеевичу, – иностранцы провожали его глазами, рассматривали русского ученого и, встретившись с Пименом Сергеевичем взорами, поклонились ему. Инженер Полторак, здороваясь, протянул Пимену Сергеевичу обе руки.
– Вы в единственном числе, профессор, – мои друзья, иностранные инженеры, зная вашу славу, были бы польщены, если бы вы пересели к нам, – сказал Полторак.
Профессор лениво поклонился иностранцам и ответил инженеру:
– Благодарствуйте, поблагодарите их. Я устал, а кроме того, я питаюсь молоком и гренками.
– Да, да, я что-то слыхал о вашем нездоровье, – какое несчастье для России, – сказал инженер Полторак и присел к профессору. – Вы сегодня едете на стройку? Я тоже туда еду по делам ГЭТа.
Костюмом Полторак походил на иностранца, но скулы его славянствовали. Синий его жакет шился не только для глаза посторонних, но и для барственного покойствия владельца. Пробор Полторака блестел помадой. На указательном пальце его блестел бриллиант в старинной оправе. Именно на этом кольце задержал свое внимание профессор Полетика, и только потом глянул на совершенно вежливое лицо инженера. Глаза Полторака смотрели действенно, умны и точны, – «и все же такие, которых не следовало бы иметь порядочному человеку, – подумал профессор. – Он правильно их прячет за бриллиантами».
Инженер Полторак был очень холен, – и профессор вспомнил, что больше всего поражали его в инженере – зубы, обезображенные золотом, тщательно ухоженным. Этот человек всегда встречался во всех строительных комиссиях, служа сразу в десятке хозяйственных правительственных учреждений.
Инженер заговорил.
Пимен Сергеевич сидел против него – громадный старик, седоволосый и волосатый, ворчливолицый, в понурых очках, в старомодном сюртуке с белым бантом из-под бороды.
– Вы, конечно, знаете об этом, мы сейчас острили, – оказывается, в Донбассе не хватает воды, не хватает уже теперь. Это один из могущественнейших наших промышленных центров, – да вы знаете лучше меня, – в Сталинграде строится тракторный завод, который будет выпускать, если в году триста рабочих дней, каждый день по сто тридцать три трактора, – да вы знаете лучше меня колоссальное значение Донбасса. И вот оказывается, вопреки всем проектам и планам, Донбасс превращается в пустыню, Донбасс обезвожен, там не хватает воды не только для производства, но и для людей и для всего подсобного. И я рисую себе картину, как зловеще на Донбасс надвигается безводье, как изнывают заводы и их заносит песком, все выжжено солнцем, заводы задыхаются и кричат, задыхаясь своими домнами, – пить, пить!
– Ну, положим, – сказал профессор и глянул строго в щель между очков и лохматых бровей.
– Вы, кажется, разрабатываете проект обводнения Донбасса? – расскажите!
– Мер очень много, – ответил строго профессор и пожевал губами. – Со временем я их опубликую.
– А я все по-прежнему в ста комиссиях, – сказал иронически инженер и быстро спросил: – А вы надолго в Коломну? – Колоссальный проект! – И перебил себя: – Вы не обращали внимания, Пимен Сергеевич, на то, что все строительства всегда на крови, как и всякая живая жизнь, впрочем. Мы, люди, родились в крови и умираем, потому что остановилась кровь. Человеческая любовь начинается и кончается кровью. Я не знаю ни одного строительства, где не было бы крови, – строят дома – сорвался со стропил рабочий, построили завод – машины измололи мастера, ведут дорогу – поезд свалился под откос, роют канал – прорвалась плотина затопило рабочих. Это мистично, но это факт, – все на крови. Кругом – кровь и кровь. И красное – кровавое – знамя революций есть символ кровавых рождений. Когда же исчезнет кровь, тогда Донбасс будет занесен безводными песками. На вашем строительстве еще не было крови? – тихо спросил Полторак и смолк.
– У меня сегодня день повторности явлений, – удивленно сказал Полетика.
– О чем вы говорите?
– Это, знаете ли, так, пустяки.
– А крови на вашем строительстве еще не было?
– Нет, не было, – ответил Полетика.
– Будет, будет! – воскликнул Полторак, и зубы его, обезображенные золотом, этим золотом злобно блеснули. На секунду он стал очень серьезен, глаза примерились, точно он стрелял в цель, и он сказал деловито: – Вы не хотите сегодня познакомиться с моими коллегами. А это было бы интересно для обеих сторон. Разрешите откланяться. До завтра, в Коломне.
Инженер Полторак всегда выглядел тщательно-чистым, крепкий человек, – и он всегда вызывал у профессора Полетики ощущение грязной липкости.
Полторак встал и пошел к своему столику. Иностранцы поклонились Полетике. Лакей принес поджаренную булку и молочный суп. Профессор, строго оглядевшись вокруг, прикрыл салфеткой бороду, повязавшись сзади, как повязываются дети, – и стал медленно и сердито есть, – и стало понятно, что сердитость Пимена Сергеевича очень добра.
Мысли о надвигающейся на Европейскую Россию пустыне принадлежали Пимену Сергеевичу, его раздумий никто не знал, кроме двух-трех соработников и учеников, – Полторак заговорил его словами, – Пимен Сергеевич отнес это за счет повторности явлений.
Пребывал профессор в этом зале иностранцев и русских, подделывающихся под европейцев, явлением чужеродным. Гремел с хоров оркестр. Электричество загорелось очень просторно в этом белом зале.
Посыльный принес Минеи святых за месяц август и молвил, получая за труды:
– Этих самых святых Пименов, оказывается, почитай с десяток, а то и больше. Всех не нашлось. Вам позвонят.
Часы до поезда Пимен Сергеевич провел у себя в номере за Четьи-Минеями, листал их так же внимательно, как перелистал за свой век десятки, сотни тысяч математических страниц английских, немецких, французских, русских книг строительства и математики чистой, той, которая бесконечна и упирается в непознанное человеком, давая право человеку расчетом звезд строить каналы и новые реки, заводские машины и различать атомы. За книгами Пимен Сергеевич не походил на старика.
Однажды к профессору звонил телефон.
– Товарищ профессор Полетика? – Здравствуйте, Пимен Сергеевич. Говорит антиквар Михайлов. Я к вам послал Минеи за август, других пока не нашлось, дошлю, как достану. Пока имею сообщить о нескольких святых православной церкви Пименах. Первый. Преподобный палестинский, подвизался в пустыне Руве при Маврикии. Пятьсот восемьдесят второй – шестьсот второй годы. Память двадцать седьмого августа. Второй. Пимен Великий. Умер в четыреста пятидесятом году. Египетский авва. Сподвижник Паисия Великого и Иоанна Конова. Постоянно плакал о грехах своих и других людей. Своими назидательными речами имел большое влияние на окружающее его общество. Третий и четвертый. Пимен многоболезненный и Пимен преподобный, киево-печерские иноки. Мощи их почивают в Антониевой пещере. Последний из них был другом преподобного Кукши, имел дар пророчества. Память двадцать седьмого августа. – Пока все. Об остальном письменно сообщу на днях, и пришлю книги. Имею честь откланяться.
Букинист повесил телефонную трубку. Профессор вернулся к столу и к Минеям. Он не ясно понимал, зачем ему понадобились святые и преподобные Пимены. За Пименами возникал инженер Ласло. Навыком ученого, привыкшего к книгам, Пимен Сергеевич положил в свою память издателя – Киево-Печерскую лавру. Киев был родиной Пимена Сергеевича, гимназистом он часто бегал в страх качающихся во мраке свечей и лампад и в сырую прохладу пещер над Днепром, где в раках лежали нестрашные трупы святых, мощи. Сырость пещер напомнила светлый простор петербургской квартиры, коридора, порога, за которым Пимен Сергеевич простился с Ольгой.
Профессор Полетика читал славянскую вязь:
«Что тя ныне, Пимене, именуем; монахов образ, и исцелений самодеятеля, воздержания ранами страсти уязвиша душевныя, гражданина ангелов и собеседника, вышния метрополии жителя, добродетелей сосед, и благочестивых утверждения. Моли спастися душам нашим».
«Светильник рассуждения быв, озаряя души приступающий к тебе с верою, и стязю жизни показуя тем, мудре. Тем же тя хвалами ублажаем, совершающе сотое твое торжество, Пимене, отцов похвало, постников удобрение. Моли спастися душам нашим». На обложке тисненого черного переплета Миней было распятие Христа.
Профессор отложил в сторону книгу, похлопал по ней пальцами. Детство, печерские пещеры, церковь Старого Пимена, жена, супружество, десятилетие революции, ломбард у Старого Пимена, – эти Минеи были наивны, дряхлы и – мертвы, никогда жизнь не вернется к ним, эта река человеческого духа – умерла, с христианством покончено. Там поистине все было на крови, пусть эта кровь превратилась в России в плохой кавказский кагор и в ситные опресноки. Двадцать пять лет тому назад мораль тех лет благословила любовь профессора, и в буфете в ломбарде продаются теперь простокваша и пирожные, – весну ж профессора, строителя Полетики сменил Ласло, но труд профессор отдал социализму. Полу, любви, крови – каждый человек многое отдает в своей жизни. На аукционе в ломбарде продаются швейные машинки и буфеты Сухаревского модерна, их маклачат чуйки. Одно непреложно навсегда – человек должен быть честен, правдив и чист, «добродетелей сосед», – иначе – гибель, – и каждый должен иметь свою честь. Святые Пимены, мертвецы, не стали образом. В Антониевой пещере, в Киево-Печерской лавре холодно, темно, страшно, – мальчику Полетике в пещерах всегда становилось беспомощно, все делалось ненужным, – там горели лампадки и свечи, упиравшиеся в вечность, и свечи подтверждали страх и ненужность – всего, начиная с этих пещер: так бывает в жизни, когда все становится ненужным, – это – болезнь, смерть. Профессор Полетика вечность заменил бодростью и строительством. Академик Лазарев, вкапываясь в физические законы человеческой жизни, строя физические фундаменты человеческому бессмертию, установил, что самая высокая острота восприятий у человека – в двадцать лет, – пусть так: взятое к двадцати годам, человек сопоставляет всю жизнь, – и сопоставлять надо честно – во имя физических законов и строительства человеческой жизни.
Пимен Сергеевич стряхнул с мозгов мысли о прошлом. На память пришел Полторак. За холодом пещер стал зной пустынь. И за пустынями стала Россия, СССР, социалистическое строительство.
Пимен Сергеевич подошел к окну. Земля стемнела. Кремль уходил своими башнями в небесный мрак, звезды в небе светили июльски-усталы, над зданием ЦИКа горел красный огонь. Под Кремлем лежала Москва тысяча девятьсот двадцать девятого года, колоссальных дел и замыслов, колоссального мужества и колоссальной напряженности. Всячески напряженная, до судорог, Москва, как весь СССР, шла солдатским шагом военного похода – в социализм, чтобы победить. История в те годы не шла, но бежала, не текла, но строилась, как строилась вся Россия. На самом деле, если б была введена униформа цехов строителей, Россия ходила б армиями. И на самом деле Москва жила в тот год бытом военного лагеря, в серых и героических буднях, как солдатская шинель, в героических приказах осадного положения, не допускающих возражений, в крепостном – и не страшном – продовольствии очередей. В крепость превратился город, бывший невоенным, в городе остались старики, дети, ненужные походу истории, повисшие на ней. Город жил переуплотнением крепости. Как всегда в крепостях и в походах, из-за глетчеров и глетчерных воль, которые идут и ведут историю, – из-за глетчеров, из них, из-под них ползли сырости и плесени недовольств, неверия, усталости, предательства, грязи, хлипи, зловония, потому что отбросы из крепостей некуда вывозить. И, как часто в крепостях, именно отбросы больше всего говорили о войне. Все было понятным. Именно так должны строиться истории, когда они – строятся. Отбросы надо забыть. Надо строить новые дороги в небывшее, чтобы по этим дорогам пошла жизнь, людей в историю надо гнать, ибо все разумное – действительно. Щебни истории надо закапывать в геологию, как щебни строительства.
Город и Кремль уходили в тот час во мрак веба, над зданием ЦИКа горел красный огонь знамени. В Кремле, в Китай-городе, на улице Первого мая, бывшей Мясницкой, пустели в тот час стеклянные кабинеты учреждений, двигающих историю в социализм. Человечья Москва перелилась в тесноту домов, в театры, в кино, в цирки, в парки, в трактиры, в пивные, не очень думая о войне и толкуя – о Кабуки, о Горьком, о КВЖД, а также о сетках жалований, о свиданиях с Марьями Ивановнами, о сокращениях, о сегодняшней «Вечерке». – Пусть так. – Пимен Сергеевич думал о своей работе. Через несколько месяцев под Москвою потечет, новая, молодая река, взявшая в себя окские воды.