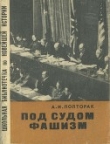Текст книги "Том 4. Волга впадает в Каспийское море"
Автор книги: Борис Пильняк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 31 страниц)
Он, профессор Пимен Полетика, своим трудом и знанием, вместе с волей революции, идущей в социализм, силою и трудом рабочих создал проект этой молодой реки. И это было боем за социализм, так, как понимал социализм профессор Полетика, когда человеческий труд, волею своею перестраивая реки, этими реками смывает крепостные отбросы и строит новые, трудовые отношения. Река вместе с историей будет глетчером светлых вод и должна размыть и тесноту военных лагерей, и усталости недовольств, и время, – ибо человеческое долголетие создают не только академики Лазаревы, Вороновы, Штейнахи, но и освобожденный труд, освобождающий от себя человека для раздумий, разумий и досугов.
И Пимен Сергеевич увидел через мрак – теми глазами, которые есть у художников, когда художники умеют видеть не только то, что есть, но и то, что они хотят видеть:
– весенняя ночь, река, простор реки, огни на воде, морские пароходы под Москвою, гранитные дамбы. – Над водою всегда по-особенному разносятся звуки, точно они влажнеют, – профессор услыхал девичий смех с реки, влажный и молодой, смех комсомолки-дочери. Смех навсегда останется счастьем человечества вместе с молодостью. Но смех пояснел, Пимен Сергеевич узнал его, – это был смех Ольги, тогда, двадцать пять лет назад. В тысяча девятьсот двадцать девятом году в России мало смеялись, строительствуя. Да, да, – и, если смех есть счастье человечества, то в напряжении собранные мышцы на лбу – есть гордость человечества. Лохматые брови профессора собрались в строгость.
Профессор зазвонил за счетом.
Профессор записал в записную книжку:
«К проекту борьбы с пустынями. Расчет смываемых полыми водами гумусов, процент сбрасываемости их в моря».
Поезд профессора Полетики уходил в десять сорок пять.
На вокзале, в кислых запахах и в белесом свете, как всегда, суматошились люди. За газовыми огнями фонарей рельсы уползали в теплый мрак шарить темные российские пространства. Со шпал дул ветер, по-июльски сухой. Пространства пребывали в убогости, отступая от средневековья. Поезд оказался местным, пригородные люди тащили в вагоны свою бедность.
На перроне в толпе видел профессор Полетика Евгения Евгеньевича Полторака, его форменную фуражку и плечи кожаного пальто. Полторак спрятал глаза от профессора в толпу за людские затылки, – глаза Полторака глянули очень внимательно, презрительно, – так показалось профессору. Инженер Полторак уходил за толпу с нарядной женщиной, и профессор не знал, где сел в поезд Евгений Евгеньевич.
А в вагоне на скамейке против Полетики оказались те два маклака, которых видел Пимен Сергеевич сегодня у Старого Пимена, что поражали длиннополыми своими сюртуками и черные фуражки которых походили на лаковоклювых ворон, душ разрушения.
Старший поклонился профессору и молвил почтительно:
– Кажется, изволили видеться нынче в Пименовском на аукционе?
Пимен Сергеевич не ответил, в неловкости стечения явлений сделав вид, что не слышал соседа. И соседи забыли о профессоре. Поезд пошел шарить просторы рельс. Зарево Москвы погибло очень быстро. Поля легли перевобытностью и тишиной, и тишина вселилась в вагон. Люди рассовывали под головы свои узелочки бедностей и засыпали. В вагоне захрапело, запахло спящими людьми, сапожной кожей и свежею гарью. Свечи в тусклых фонарях превращали вагон в конские денники. Пимен Сергеевич приладил было к столу свечу, чтобы читать, – но пришел кондуктор, постоял раздумчиво и приказал свечу потушить, объяснил, что свечи в неурочном месте зажигать не дозволено, – Пимен Сергеевич возразил было, сославшись на вагонный мрак, – кондуктор разъяснил снова и не спеша:
– Вагоны сделаны не для того, чтобы читать, а чтобы ездить. Тушите во избежание штрафа.
Поезд волочил время российскими весями, останавливая его станциями. Полетика дремал, подложив подушку под голову. Его спутники бодрствовали, эти два брата явно ярославско-славянского происхождения. Спутники сняли свои картузы, оказались оба причесанными на прямой пробор. Всю дорогу они пили коньяк, обмениваясь редкими репликами. Примерно через каждые полчаса старший открывал серебряный поставец, выпивал сначала сам, затем наливал брату, брат пил, – старший убирал поставец и бутылку в чемодан, – младший спрашивал:
– Бисер брать будем?
– Обязательно, – отвечал старший.
Полчаса они молчали, пили вновь, младший спрашивал:
– Фарфор брать будем?
– Обязательно, – отвечал старший.
Еще через полчаса младший спрашивал вновь:
– Так называемые русские гобелены брать будем?
– Обязательно.
Поезд волочил ночь, останавливая время огнями – красный, желтый, зеленый – и криками станций. Вагон мирно храпел в священнодействии ночи. За окнами пылил небом сухонький месяц. Июль разводил душную пыль. Сбрасывалась назад, за окнами, избяная деревенская матушка-Русь – поля, перелески, болота, бронницкие и коломенские земли, деревенские авосьные проселки. Поезд, несмотря на росную сухость месяца, вздымал за своими шумами на шпалах пыльные вихри, погрохатывая эхом.
В полусне Пимен Сергеевич думал о том, что там, где при Тамерлане цвели сады и поля, – там теперь пустыня, песок, зной, камень, – что татары, бывшие в России на коломенских этих землях, приходили в Арало-Каспийские степи вестниками – не только истребления, но и монгольских песков, – пустыня Аравии некогда была богатейшим и цветущим государством культуры, наук, религии, – красные пески Египта так же цвели некогда, – а татары? Пять веков назад, на исторической памяти России, совсем недавно, на низовьях Волги стояли богатейшие города татар, о них писали арабские и генуезские ученые и нормандские купцы, – ныне эти города потеряли в песках даже следы свои, – безводный зной песков надвинулся на Поволжье до Нижнего, на Донбасс, на Кубань, – пески, зной, смерть, сделавшие лица татар желтыми и сухими, как пески.
– Позднее Александра брать не будем? – спросил младший.
Старший брат ответил:
– Невозможно.
Поезд пришел в Коломну за час до рассвета, когда ночь запылилась и похолодала зеленым востоком. Строительство, место боя за социализм, легло кругом огнями, шумами и бодростью, переделывавшими все, вплоть до воздуха, – но станция пребывала еще в тылах и заброшенности. После вагона стало бодро. Поле-тику встречал инженер Садыков.
На перроне сошлись – и Полторак со своей спутницей, и Полетика, и маклаки. Кругом за шпалами горели бередливые огни строительства, но за папертью станции, за станционными стройками к городу пустая площадь проваливала во мрак самый город. Там лаяли древние собаки. В темноте на площади фыркали лошади, и ночь от города пахла конским потом.
Полторак сказал:
– Вы тоже с этим поездом? Жаль, что в разных вагонах. Вы не знакомы? Надежда Антоновна Саранцева, артистка. А, и вы здесь, рыцари старины? Это мои друзья и поставщики – краснодеревщики-реставраторы, Павел и Степан Федоровичи Бездетовы.
И крикнул во мрак, не ожидая ответов:
– Эй, извозчик!
Инженер Садыков, встречавший профессора, знобивший после бессонной ночи, заботливо поддерживал Пимена Сергеевича. Скулы Садыкова землели, и плечи сутулились. Приезд профессора на строительство был событием. Инженер Садыков, инженер от станка, как шутили о нем, научился уважать знание, собранное в этом старике. Старик шел бодро, маршал на месте сражения, никому не отдавая своего чемодана. Садыков докладывал сухо, как рапорты. За шпалами ждала автодрезина, и автодрезина пошла темнотою, особенно черной перед огнями строительства. Из-за темноты, в которой рыскала узкоколейка автодрезины, долетали лязги ночных работ. Дрезина вошла в фонари, прошла между тяжестями складов и стала у бараков под земляными рвами, ветер, дувший в дрезину, остановился вместе с нею. Садыков пошел вперед, по насыпи, около рвов развороченной земли, в траншеях цементных бочек, кирпича, леса, бута, вырезанных и срезанных огнями фонарей, – шли окопами боя, где гранит и бетон противопоставлялись природе, где взяты были железом и человеческим трудом под уздцы земля, реки и леса. Циклопический монолит уходил цепью фонарей в километры за Оку.
Профессора ждала мягкая кровать, свеча на ночном столике, последний номер журнала «Строительство», – на полу под кроватью чуть заметно обыватель-ствовал ночной горшок. Садыков откланялся. В комнате с открытыми окнами шелестело июльскою ночью и сторожкой тишиной новых строек, где тишина пахнет сосною. За окном посвистывали паровозики Дом-кара, сопели небывалыми болотными птицами землечерпательные снаряды, под самыми окнами пересвистывались ночные сторожа, подчеркивая тишину и ночь. Электричество всегда бодро. Дом для приезжающих спал в электрическом свете. Коридор в плакатах и тишине хранил сосновые запахи. За стенами спали шведы, немцы и американцы, приехавшие на строительство работать и собирать машины.
Пимен Сергеевич не сразу лег в постель. Из потрепанного своего чемоданчика он вынимал толстую клеенчатую тетрадь, с красным обрезом, такую, которые называются «общими» и бывают у школьников, и профессор вписывал в нее математические формулы, за которыми скрывались мысли о зное песков.
…Древнейшие русские земли, Поочье, Ока, Москва, – рязанский край, старая татарская, старая московская и разбойничья дороги, – история России от муромы, мери, рязани, мещеры, от удельных времен до железных дорог – памятник защиты от крымских набегов и смутных лет казака Ивана Заруцкого, последнего мужа Марины Мнишек, женщины, потерявшей смерть, – экспедиции полковника Римана, – а до этого, до России, – сарматы, аланы, финны, скифы, каменный и бронзовый века. Пейзаж искони русский: река Москва полями вливается в Оку, над Окою холмистые берега, заросшие соснами, щуровскими и чернореченскими лесами, – пейзаж понур – поля, холмы, дерево, трава, камень, пески, валуны, былинные окские воды, юрские эпохи. В чернореченских лесах – пожары, болота, волки. – Летом, в белые по июню безнебные ночи было три года тому назад, здесь: сливались две реки, безмолвствовал превращенный в артсклад Голутвин монастырь, дымил Коломенский завод, умирала Коломна, русский Брюгге, начавшая умирать с дней, когда пролегла Казанка, – были шпалы Казанки, мосты через Оку и Москву, сосны, песок, небо, песни крестьян из Выселок и Бобренева, где женщины сажали картошку, косили луга и пасли скотину, а мужчины ходили обивать железо на Коломенском машиностроительном заводе.
В этом месте страна давала бой старой России, Расее, Руси – за социализм.
Три года тому назад, в июне, пришли на луга сюда люди, мерили и бурили землю, всматривались в пространство и в будущее, вкапывались в юрские и пермские эпохи, ходили около рек и по лугам, жгли костры, так же, поди, как некогда кочевники, – и стало известным, что даден здесь будет бой за социализм, перестраивающий историю и геологию, – что ни Бобренева, ни Парфентьева, ни Амерева, ни Сергиевской и многих других деревень больше не будет, ибо земли их уйдут под воду. Бобреневцам надо было уходить на новые места. Мужики не соглашались до боя, – но за людьми с теодолитами пришли тысячи людей, люди свозили материалы к бою, строили дороги, форпосты, редуты, бастионы, с людьми пришли богатство, бодрость и дела, – и через год бобреневцы решали, что они, конечно, надули пришедших: пришедшие предлагали перенести и построить Бобренево заново, по-европейски, образцовым поселком, – бабы требовали, чтобы Бобренево было перенесено и поставлено – точь-в-точь, как было, и бабы отмеривали веревочками, примечая узелком широту и высоту потолков, дверей, окон, пазух, чтобы требовать точности точь-в-точь по узелкам, – мужики ж, хитруя, пошли работать на строительство. На строительстве Бобренево прозвали – Дуракином, – Дуракино волком на четвереньках уползало в Хорошевские леса от строительства, но и село хорошево поползло за Дуракином, – а дуракинцы ж со строительства потащили домой рубли, новые аршины соображений, книги, сытость, новые разговоры о небывалых делах. – Здесь строилась молодая река, созданная не геологией, но сделанная человеком.
Москва, Ока, Поочье. Река перестраивала геологию. Река уничтожала не только деревни и историю, но и археологию. Деревни уходили на новые места. Инженеры бурили и перекапывали подпочвы. Археологи прощались с тысячелетиями. Археологи рыскали своими партиями и раскопками по десяткам квадратных километров, которые навсегда будут залиты водою, искали становища первобытного человека, городища древней мещеры, курганы, могильники, – собирали доисторию. Когда перемычки освободили окское дно, археологи искали затонувшие в водах века.
Инженеры знали, очень знали ту бодрость рождения нового, что бывает на всяком строительстве, – археологи знали бодрость прощания. В мистику рождения на крови веровать не следовало. В весях и в коломенской старине азиатская баба Россия нищенствовала очередями недостатков и умираний, – здесь на строительстве, где три года назад, как сотни лет назад, была тишина лугов, – сейчас здесь за скрежетом и шумом побед боролась за будущее новая жизнь, бодрость дела, упорный и веселый труд, разумность и богатство. Старорусские были отступали к дуракинцам. Были рассчитаны профили рек Оки, Москвы, Клязьмы, их тальвеги, ложа, их геологические основания, их живые сечения, расходы, режимы, их силы, – все то, что дает знание реки. Профили Москвы-реки, ее бьефы около городов Москвы и Коломны разнятся всего на семь метров, – то есть Москва-река под городом Москвою выше Москвы-реки под Коломной – по отношению к уровню океана – на семь метров, – а, стало быть, если подпереть Москву-реку под Коломной хотя б на восемь метров, воды Москвы-реки потекут вспять. Плотина под Коломною – монолит – строилась в двадцать пять метров, с таким расчетом, чтобы окская вода, погнав вспять москворецкую, потекла б на Москву. Под древним городом Росчиславлем, под Коломною, под Бронницами возникали громадные озера, водохранилища новой реки, перестраивающие географию. Котлованы под монолитом обнажали речное дно, как века археологов. Археологи провожали века.
Июльский день наступил золотом дня, росою и легкими в небе облачками. Пимен Сергеевич почти не спал ночи. Аукционы Пименов остались на вчера, чтобы почерстветь. До того как войти в столовую, один, стороною и потихоньку, Пимен Сергеевич ходил к постоянному реперу осмотреть его и проверить, – у Полетики была примета, он считал первым признаком порядка работ порядок у реперов. Бетонный сторож строительства хранил луга в порядке полнейшем. Строительство будничало работами. В рабочем поселке гремели громкоговорители, оставленные с ночи.
К семи часам в столовую дома приезжающих вышел бодрый старик, строитель, делатель. Прорабы и техники в столовой, сосредоточенные люди в брезентовых сапогах до паха, молча съедали яичницу, пили кофе и уходили в бой. За домом зноем работ шипели экскаваторы. Расторопные горничные в белых халатах звенели посудой.
На стене в столовой, на доске объявлений, висели будни приказов. Профессор всегда внимательно читал эти будни, примечая, что порядок их так же существенен, как реперы. Десятитысячная армия строителей имела в себе все, что имеет в себе десятитысячное человеческое общество, от милиционера до радиовышки. Стенгазета была печатной. Пимен Сергеевич стал читать, ожидая Садыкова.
Фельетон посвящался дуракинцам. В фельетоне сообщалось, что на строительство приехал кинооператор, – фотографирует показательного прогульщика, один из показательных прогульщиков тут же был приклеен, парень лежал головою в яму, ногами и спиною вверх, спал с тросточкой в руке. Объявлялся конкурс на прогульщика. Женотдел высмеивал нарядниц. Карикатура изображала сводную физиономию инженера или техника, в фуражке с кокардой, с десятком рук, обнимающих сразу бутылку портвейна, работницу в платочке, барышню в шляпке и ватерпас. Передовая писала о том, что строительство есть освобождение труда и освобождение человеческого времени, которые созидает Союз республик. На строительстве было два кино, синяя блуза, живая газета и семнадцать библиотек-передвижек, – они объявляли о себе в стенгазете. Во второй передовой разбиралось и клеймилось изнасилование работницы тремя грабарями и субботние балы техников на голутвинском вокзале. – На доске инженерских объявлений извещалось о десятке собраний десятка общественных организаций, расписание лекций, читаемых рабочим, сообщения главинжа, наряды технического бюро, извещения о новых экземплярах заграничных строительных журналов.
Пимен Сергеевич любил вдыхать этот бодрый воздух приказов напряженного труда, размеренной поспешности, указывающий, что все пахнет новым, как в этой сосновой столовой дома приезжающих, – новые стены, новые столы, новые скатерти, новая витрина с выступившей на раме золотой и клейкой смолой. Насилие работницы, чубаровщина, – было мерзостью, – глупые балы с подкрашенными машинистками на железнодорожной станции – были обывательщиной, – все это тонуло в главном, в решающем, в разумном – в строительстве.
Пимен Сергеевич ждал инженера Садыкова. Инженеры и техники разошлись, профессор остался в одиночестве. Профессор спросил у белой горничной:
– Что же это я в газете прочел, девушку негодяи… опакостили? Как же это?
– Это еще что! – строго ответила горничная и сердито звякнула тарелкой. – У нас у одного инженера жена повесилась. Мы ему покажем, что такое есть мы, женщины, раз революция нас всех уравняла!
И замолчала, не пожелав говорить, ушла за перегородку к кубу. Пимен Сергеевич плохо расслышал ее фразу, сказанную соработнице:
– Обязательно пойдем, мы ему покажем, как… Мы организованно протестовать будем!..
Федор Иванович Садыков пришел с опозданием. Горничные убирались, не обращая на Пимена Сергеевича никакого внимания, шепчась у себя за перегородкой. Садыков пришел пасмурным, деловым, усталым и действенным, сапоги его облипли по щиколотку свежей грязью, лоб мокнул от солнца, и от козырька фуражки лоб раздвоился загаром. Этот инженер был главным инженером строительства, – и Садыков не походил на главинжа, на маршала, этот инженер от станка: главинжи, потому что им приходится командовать десятками тысяч людей, миллионами тонн гранита, десятками миллионов денег и мозгами, – люди кабинетные, огороженные секретарями и докладами, – кабинеты создают пухловатую белизну и одевают в мягкие пиджаки, – от Садыкова пахло землей, расстегнутый ворот его рубахи обнажал ключицы, походил он на мастерового, и секретари за ним не ходили. Профессор Полетика любил этого человека прямых идей и прямых действий.
Вслед инженеру Садыкову в столовую пришел инженер Полторак, приехавший из Коломны.
– Простите, я запоздал, – громко и трудно сказал Садыков. – Вчера умерла моя бывшая жена, ставшая после меня женою инженера Ласло. Она повесилась. Сегодня ее похороны. Сейчас мы перейдем в контору, вам сделают доклады, я уже всех оповестил.
Садыков сел на скамейку у стола, положил руки на стол. Солнце аккуратно обрезало фуражку на бритой его голове. Горничные перестали шуметь посудой. Солнце светило по-прежнему.
Повторности явлений! Ольга не была уже женою Ласло, – жена, Старый Пимен, ломбард у Старого Пимена, печерские пещеры, Четьи-Минеи, – все это ушло во вчера, в десятилетия, в никуда, – беспомощность антониевых пещер есть болезнь, – но собранные в напряжении мышцы на лбу есть гордость?!
Пимен Сергеевич спрятал свои глаза под брови, крепче уселся на скамье. Стечение случайностей, повторности систематизировались.
Просвистал мимо состав думпкаров. Пропела сирена.
– Каким образом она повесилась? – спросил профессор.
– Это сложная история, – ответил Садыков, – я должен был повидать Ласло, чтобы спросить его, будет ли он на похоронах, ибо иначе на похороны пошел бы я. Мне трудно говорить об этом, Пимен Сергеевич.
Садыков помолчал.
– Я не ошибаюсь, что первая жена Ласло, Ольга Александровна, была вашей женой?
– Да, – ответил Пимен Сергеевич.
– Она живет в Коломне вместе с дочерью Любовью Пименовной Полетикой и Алисой Ласло.
Инженер Полторак спросил удивленно и поспешно:
– Любовь Пименовна, девушка лет двадцати трех?
– Да, они – моя жена и дочь, – сказал Полетика.
– Любовь Пименовна работает на археологических раскопках, она коммунистка, – сказал Садыков.
Разговор в этом месте прервался, ибо вошел в столовую охломон Иван Ожогов, сторож на строительстве, человек с сумасшедшими глазами. Он торопливо здоровался за руку с горничными, с Садыковым и Полетикой, рекомендуясь каждому в отдельности: – «истинный коммунист Иван Ожогов до тысяча девятьсот двадцать первого года!» – Он остановился перед Полтораком, скорчил страшную рожу, выражавшую презрение, вильнул задом, спрятал за спину руки, сказал: – «С вами здороваться не желаю, с братцем моим целуйтесь, вредитель!» – еще раз скосил глаза и растянул в бессмысленность губы, повернулся к Полетике, прижал руки к груди, умилился, крикнул:
– Это вы и есть старый большевик профессор Пимен Сергеевич Полетика?! Нам надобно поговорить!
Около половины одиннадцатого дня профессор Полетика и инженер Садыков вышли из конторы на осмотр строительства.
Работы раскинулись на десятки квадратных километров. На лугах, где испокон веков текли Москва и Ока, работало десять тысяч рабочих, – день и ночь в работах. Семь тысяч землекопов, тачечников и тачечниц, каменотесов, плотников, маляров, столяров, штейгеров и прочих рабочих в ряд с машинами перекапывали, перестраивали природу. Русский «Нами» отвез Садыкова и Полетику к монолиту, Полетика хотел посмотреть, как достраивались плечи и замок, – то место, где монолит впаивался в геологию. Краны складывали ряды гранитов, названных сгущенным воздухом. Сотни тачечниц свозили землю, заменяя экскаваторные рефулеры. Прораб в соломенной шляпе, в белой рубашке и в сапогах до паха убеждал инженера Садыкова дать еще одну «руку» рабочих, и зубы техника блестели под солнцем, готовые грызть тот самый гранит, которым и в который вкапывались замки монолита. Ока сломала свое русло, протекая в двух километрах отсюда по отводному каналу. У перемычек сипели, захлебываясь водою, насосы. Котлован обнажал окское дно, пески, гранит, ракушек. Майоны экскаваторов скрипели тяжестями, вычерпывая землю и въедаясь в нее. Профессор Полетика залез на граниты, присматривался, смотрел кругом, пряча глаза под брови. Над ним горбились краны, под ним к подножию плотины в котлован сползали рельсы вагонеток. Майоны грызли известняки. У рельс работали тачечницы. Под солнцем пахло развороченной землей и бетоном. Тачечницы под Полетикой, сотни здоровенных девкищ и бабищ в пестрых паневах, в красных платочках, босоногие и с засученными рукавами, одна за другой катили тачки по доскам, валили землю в вагонетки, по другим доскам шли с пустыми тачками за новой землей.
Этот пейзаж, где маршалами в бою со старой Россией за Россию новую стояли Полетика и Садыков, совершенно не походил на картину Серова, где шагает Петр в Петербурге.
И тогда в неурочный час загудел гудок.
И тачечницы бросили тачки по команде гудка. Женщины стали строиться в ряды. Женщины пошли с работ, молча, суровыми рядами. В километре отсюда, у Константиновской, также возникла пестрая колонна женщин. Толпа женщин пошла от перемычки. Женщины уходили к городу.
– Что это такое? – спросил Полетика.
– Не знаю, – ответил недоуменно Садыков. Женщины уходили молча и деловито, по-солдатски.
Прораб на велосипеде поехал догонять женщин, обогнал их, слез с велосипеда. Женщины прошли мимо него молча, не останавливаясь. Прораб вернулся, сдвинув соломенную шляпу на затылок. Женщины уходили. В полях шло несколько таких колонн. Прораб бежал к полевому телефону.
– Забастовка, что ли?! – крикнул на бегу прораб и махнул шляпой.
Садыков пошел к «Нами» Полетика побежал за ним. Техник, бросив телефонную трубку, помчал за «Нами». Брошенная не на место телефонная трубка вдруг запищала и сразу надорвалась. По лугу, рысью навстречу «Нами» бежал председатель рабочего комитета. По команде неурочного гудка на всем строительстве женщины бросили работу и пошли в Коломну. Председатель рабочего комитета, мчавшийся рысью, взмокший и задыхающийся, повалился на землю и, лежа, с сердцем, готовым разорваться, докладывал Садыкову, чего не понимал. В конторе все были на ногах, телефонные трубки соскакивали со своих крюков. В коломенский исполком уезжал автобус, и из исполкома по лугам мчал мотоциклет. Экскаваторы перестали сипеть. Солнце светило полднями.
Расея, Русь, Коломна: провинция. – Кирпичный красный развалившийся забор на той стороне улицы упирается в охренный с бельведером дом на одном углу, а на другом – в церковь, дальше площадь, опять церковь, ветлы, летнее небо, мостовые. Свинья лежит в пыли посреди дороги, из-за угла выехал водовоз, свинья не посторонилась, водовоз ловко нацелился и проехал свинье по хвосту, свинья взвыла, став на дыбы. – А за калиткой – зеленый двор, заборчик в сад, терраса в диком винограде, позеленевший домик под липами, полуразваленная баня, тишина, солнце, пес на солнышке, подсолнечные солнца. За окнами к улице живут хозяйки дома, сестры-старухи Капитолина и Римма Скудрины. За окнами в сад, за террасой живет прежняя жена Полетики и Ласло с двумя дочерьми, с Любой Полетикой и Алей Ласло. В бане живет, одиночествуя с собакой охломон Иван Ожогов, родной и младший брат Капитолины и Риммы, переименовавший себя из Скудрина в Ожогова.
Речь идет о сестрах. В комнате Капитолины Карповны очень бедно и очень чисто прибрано, устоялось десятилетиями, как должно быть у старой девы, у девы-старухи, кровать под белым покрывалом, рабочий стол, ножная машинка, манекен, кисейные занавески.
Эти две старухи, Капитолина и Римма Карповны, пребывали потомственными почетными столбовыми мещанками города Коломны и всея мещанской Руси, белошвейками, портнихами, – и никому, кроме себя, по существу они не надобились. Сестры уродились погодками. Капитолина – старшая. Жизнь Капитолины прошла полна достоинства мещанской морали, вся жизнь ее прошла на ладони всегородских глаз и всегородских моралей, – благословлена всегородской сволочью, – Капитолина Карповна была почетной мещанкой. И не только весь город, но и она знала, что все ее субботы прошли за всенощными, все ее дни склонились над мережками и прошивками блузок и сорочек, тысяч аршинов полотна и миткаля, – что ни разу никто чужой не поцеловал ее, – и только она знала те мысли, ту боль проквашенного вина жизни, которые делают жизнь ненужной, – а в жизни были и юность, и молодость, и бабье лето, – и ни разу в жизни она не знала любви. Она осталась примером всегородской чести, проквасившая свою жизнь целомудрием пола, Бога, коломенской морали.
И по-другому сложилась жизнь Риммы Карповны, тоже белошвейки.
Это сталось двадцать восемь лет тому назад, это длилось тогда три года – тремя годинами всеколоменского позора, чтобы позор остался на всю жизнь. Это сталось в дни, когда годы Риммы закатывались за тридцать, потеряв молодость и посеяв безнадежность. В Коломне жил казначейский чиновник, актер-любитель, красавец и дрянь, он был женат, у него были дети, он был пьяницей. Римма полюбила его, и Римма бросила к чертовой матери всеколоменскую мораль, подчинившись своей любви. Все случилось всеколоменски позорно и неудачно. За Коломной рос семибратский лес, за Москвою-рекою легла пьяная лука, где можно было бы сохранить тайны. – Римма отдалась этому человеку ночью на бульварчике, называемом Блюдечком, – и мальчишки подкарауливали их из-за кустов, чтобы улюлюкать и предать наутро позору. И ни разу за все годы позора Римма не встретилась со своим любителем под крышею дома, встречаясь в полях и на улицах, в развалинах кремлевской Маринкиной башни, на пустующих барках, даже осенью и зимой. Маринкина башня хранила в себе не только смерть Марины Мнишек, но и смерть любви Риммы Скурдиной. На улицах в Римму чужие тыкали пальцами и не узнавали свои. Даже сестра Капитолина сторонилась тогда сестры Риммы. Законная жена казначейского актера ходила бить Римму и наущала – тоже бить – запрудских парней, – и Коломна своими законами стояла на стороне законной жены. Римме не давали прошивок и мережек, чтобы шить сорочки, и она голодала. У Риммы родилась дочь, окрещенная Варварой, ставшая наглядным пособием позорных свидетельств и позором. У Риммы родилась вторая дочь – Клавдия, и Клавдия стала вторым свидетельством позора. У Риммы в паспорте значилось: «имеет двоих детей», «девица», – как было бы записано в России до революции и у Марии, матери Христа. Казначейский любитель бил Римму и любил ее через водку, и он уехал из Коломны с законной женой. Римма осталась одна с двумя девочками, в жестоком нищенстве и позоре, женщина, которой тогда исполнилось много уже за тридцать лет.
И с тех пор прошло еще почти тридцать лет, время зазастило, время просеяло, – и Римма знает, что в ее жизни – было: – счастье, – ее жизнь полна, заполнена. Старшая Варвара замужем, в счастливом замужестве, и у нее уже двое детей. Муж Варвары служит чертежником. Варвара служит учительницей. Младшая Клавдия служит дошкольницей. Римма Карповна ведет хозяйство, домоначальница, родоначальница. Римма Карповна счастлива своей жизнью. Старость сделала ее низкой, счастье сделало ее полной.
И у Капитолины Карповны теперь – только одна жизнь: жизнь Риммы, Варвары, Клавдии, внучат. Бе целомудрие библейской смоковницы и всеколоменские честь и честность оказались ни к чему. У Капитолины Карповны нет своей жизни. Время просеяло: биологическая честь Риммы оказалась сильнее всеколоменской чести Капитолины, позор превратился в счастье, ибо ничто – только ничем и может быть, – честь же Риммы создавалась подобно речным перекатам и плесам, подпертым монолитом любви!.. В комнате Капитолины Карповны – манекен, швейная машинка, остановившееся время.
Над Коломной умирали колокола.
Российские древности, российская провинция, по-очье, леса, болота, деревни, монастыри, усадьбы. В обывательской Коломне – двадцать семь церквей, четыре монастыря. Цепь городов – Таруса, Кашира, Росчиславль, Коломна, Рязань, Касимов, Муром, память российских уделов и переулков в целебной ромашке истории, каменные памятники убийств и столетий, седые камни Кремлей: в Маринкиной башне в Коломне умерла Марина Мнишек. – Если Москва походила в тот год на воинствующую крепость, Коломна обывателей пребывала городом глубокого тыла, податей, наборов и разверсток, принявшая войну, потому что войну приняла страна. Город обывателей жил в профессиональных книжках и в очередях, и в лавках не было товаров, отданных фронтам, – и в лавках было две очереди – профкнижников и не имеющих их, как билеты в кино были для иных – двадцать пять, сорок и шестьдесят копеек, профкнижникам же – пять, десять и пятнадцать. Профкнижки в Коломне, в домах, где они имелись, лежали на первом месте, рядом с хлебной карточкой, причем хлебные карточки, а стало быть и хлеб, выдавались только имеющим гражданские права, – лишенцам же хлеб не давался. Тылы обывателей в войнах нищают без крови, желтеют, немотствуют без громов и пушек. Люди в тылах притихают и понимают немногое. Дома в тылах глохнут, зарастают бузиной, разваливаются. Очереди в тылах пасмурны и медленны, как уездные сумерки. В тылах усиленно тогда пасут скотину и мародерствуют мародеры. Алкоголь в городе продавался, по существу говоря, только двух видов – водка и церковное вино. Водки потреблялось много и церковного вина, хотя и меньше, но тоже много – как на Христову кровь и теплоту, так и для женского пола. Папиросы в городе курили – «Пушку», одиннадцать копеек пачка, и «Бокс», четырнадцать копеек, – иных не курили. Как за водкой, так и за папиросами – очереди становились профессиональная и не профессиональная, уже не по профсоюзному принципу, а по табачно-алкогольному. Глубокий тыл командовал Коломной, – Коломна жила солдатским тылом. Заведующий музеями старины ходил по Коломне в цилиндре, в размахайке, в клетчатых брюках, и отпускал себе бакенбарды, как Грибоедов. Грибоедовым его и прозывали. В карманах его размахайки хранились пудовые ключи от музея и монастырей. Пахло от Грибоедова луком, водкой и потом. В доме его, похожем на чулан, валялись музейные библии, стихари, орари, поручи, рясы, ризы, воздухи, покровы, престольные одеяния – тринадцатого, пятнадцатого, семнадцатого веков – и валялся в пыли у него деревянный голый, в терновом венце Христос, взятый из бобреневского монастыря, работы семнадцатого века. В кабинете у Грибоедова стояло красное дерево помещика Каразина, на письменном столе дворянская фарфоровая фуражка с красным околышем и белой тульей – служила пепельницей. – Помещик Каразин, Вячеслав Иванович, служил некогда в кавалергардском полку и ушел в отставку лет за двадцать пять до революции, ибо, будучи послан на расследование воровских и дебоширских действий своего коллеги, рапортовал командиру полка истину, ненужную шефу кавалергардов, – шеф, сиречь императрица Мария Федоровна, покрывала вора. Каразин подал в отставку и поселился в усадьбе, приезжая оттуда раз в неделю в Коломну за покупками, ездил в колымажной карете с двумя лакеями, указывал белой перчаткой в лавке Костакова, чтобы завернули ему полфунта зернистой, три четверти балыка, штуку севрюжки. Один лакей расплачивался, другой принимал вещи. Однажды купец Костаков потянулся было к барину с рукою, Каразин руки не подал, молвил кратко: – «обойдется!». – Ходил Каразин в дворянской фуражке, в николаевской шинели. Революция выселила Каразина из усадьбы в город, но оставила ему шинель и фуражку. В очередях помещик стоял в фуражке, имея вместо лакеев перед собою жену. Существовал Каразин распродажей старинных вещей. По этим делам заходил он к музееведу. У музееведа видел он мебель, отобранную у него из усадьбы волею революции, смотрел на нее пренебрежительно. Но увидел однажды Каразин на столе музееведа пепельницу фасона дворянской фуражки и покраснел, как околыш.