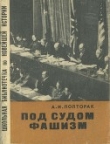Текст книги "Том 4. Волга впадает в Каспийское море"
Автор книги: Борис Пильняк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 31 страниц)
И старик зашептался с краснодеревщиками.
– На строительстве сегодня был бунт, бабья забастовка. Ровно в половине одиннадцатого, по гудку, как прогудел неурочно гудок, все работницы на строительстве бросили работы и валом поперли в город в порядке, песен не пели. На углу Репинской улицы они встретили гроб Садычихи и пошли за гробом и запели похоронный марш, и многие бабы заплакали, завыли как белуги. Забастовка, – дожили!
– Динамит у тебя на лугах? – спросил Павел Бездетов.
– Нынче ночью, под шумок, – из-под бабьих юбок!..
Реставраторы слушали стоя, озабочены и молчаливы. Лица реставраторов пришли в строгость. Старик ликовал в обреченной веселости. Провинция, азиатская Коломна, которая проследовала по следам мокрых пяток Якова Карповича, недоумевала, не понимала этой забастовки, когда женщины, тачечницы со строительства, в молчании более страшном, чем брань и крики, проводили в землю Марию Садыкову, – сотни женщин, измазанных в земле, закаменевших каменным трудом, безмолвными шеренгами пестрых плахт и панев, оставшихся от русской старины, заполнили коломенскую старину улиц и прошли за гробом до могилы. Скудрин видел за этими колоннами сына Александра, его подвал и пулю в его лоб, себя, свои попранные время и достоинство, сережки и кольца приданого Катерины, закопанные в бане под половицами, свой осьмнадцатый век, свои старость и часы в читальной, где газеты издевались над ним, – за этими колоннами женщин старик слышал дым и грохот динамита, сломанных людей, воду, которая ломает все, – и видел себя за дымом динамита, за потоками воды, за развороченными гранитами, – себя, паршивого старичишку, Бездетовых, Полторака – так же примерно, как на картине Серова, где Петр шагает по Санкт-Питер-бурху. Паршивый старичишка был Петром. Паршивый старичишка вложил свои язвы в революцию, чтобы отплатить за себя, за Александра, за Россию, за вольтеровское свое красное дерево. Провинция, стекая пятками Якова Карповича, уселась на диван. Яков Карпович – жил, наслаждаясь бытием.
– Тарарахнет, бабахнет, хи-хи, за дымом и громом нас никто не заметит.
Торшер закоптил.
Инженер Евгений Евгеньевич Полторак приехал ровно в девять, подъехал к дому на извозчике, поспешно прошел по двору, стряхнул воду с плеч в прихожей, пошел в кабинет. Катерина в тот час пела в гостиной песнопенья Костальского, аккомпанируя себе на клавесинах, и пела очень тоскливо. Кабинет Якова Карповича пребывал в красном дереве. По столу для книг плыл у Якова Карповича хрустальный корабль, оправленный в бронзу. В этот фрегат наливался коньяк, чтобы путем алкоголя, разлитого через краник из фрегата и через рюмки по человеческим горлам, путешествовать путем алкоголя на этом фрегате по норд-остам вольтеровских фантазий. Краснодеревщики налили коньяку во фрегат – в честь Полторака, и краснодеревщики безмолвствовали около фрегата в глухо застегнутых сюртуках, мертво и немигающе наблюдая за всем. Дождь за окнами утверждал осеннюю ночь.
И Евгений Евгеньевич, как Скудрин, был необычен в этот вечер. Человек организованной европейской внимательности, Полторак очень спешил в этот вечер и слушал в коротких своих разговорах только себя, к себе прислушиваясь и себя подкарауливая. Он спешил, и он же замедлял свое время, путая его.
Яков Карпович топтался босиком и голубком вокруг Полторака, примащиваясь к нему, то хихикая и хмыкая, явно хитруя, то проваливаясь в злую и очень покойную серьезность, – Яков Карпович – жительствовал.
– Вы слышали, Евгений Евгеньевич, – забастовка?! – сказал Скудрин.
– Да, слыхал, – протест.
– Как вы это понимаете, Евгений Евгеньевич?
– Как понимаю? – я сегодня на производственном совещании был у рабочих. Они теперь решают – не то, сколько им жалованья себе положить, но – решили, что работу мне не сдадут, решают, как им работать за инженеров.
– И бабья забастовочка – одно к одному выходит? – не то что рабочие, а и бабы в силу входят? – спросил тихо Скудрин и добавил строго: – Сегодня ночью начнем, откладывать нечего.
– Надо начинать, – подтвердил за Скудриным старший Бездетов.
– Да, надо, – подтвердил Полторак, – воды сейчас нет, изгадим самые пустяки… – И спросил удивленно и беспомощно: – Как дела? как вы поживаете, Яков Карпович? – Вы – могли бы убить? – На совещании сегодня я почувствовал, что у рабочих перестроилась психика так, что они – хозяева, вершители, судьи!..
– То есть как, – как дела? – сегодня ночью подорвем.
Да, надо. Я говорю, что сейчас мало воды, а вода сильнее динамита, – и опять Полторак впал в бессилие. – Яков Карпович, вы можете убить?
– Как убить?
– Безразлично как, но – убить? Яков Карпович жительствовал.
– Убить? – переспросил он и заговорил поспешно хихикая: – Я вам мысль приготовил, кхэ, мысль! – о теории Маркса. Теория Маркса о пролетариате – просто глупость, и скоро будет забыта, неминуемо забудется, потому что сам пролетариат должен исчезнуть. А сколько народу было расстреляно, – три мои сына погибли у стенки, сегодня люди поплывут по Оке. Вот, какая моя мысль, да… А стало быть, и вся революция ни к чему, ошибка истории, кхэ, ошибочка-с на наших горбах. Пройдут еще два-три поколения, и пролетариат исчезнет в первую очередь в Соединенных Штатах, в Англии, в Германии. Маркс написал свою теорию при мышечном труде, решив, что мышечный труд останется эдак навсегда. А оказывается, теперь машинный труд заменяет мышцы, скоро около машин останутся одни инженеры, а пролетариат превратится в инженеров. У машины – пять человек, а в конторе, – сорок, конторщики станут пролетариями. Вот, кхэ, какая моя мысль! А инженер – не пролетарий, потому что, чем человек культурней, тем меньше у него фанаберских потребностей и ему удобнее жить со всеми материально одинаково, уравнять материальные блага, чтобы освободить мысль, да, кхэ!.. Вы скажете, эксплуатация останется? – останется, да, потому что это в крови, – но не Марксова эксплуатация, нет. Мужика, которого можно эксплуатировать, потому что он зверь, – его к машине не пустишь, он ее сломает, а она стоит миллионы. Машина дороже стоит, чтобы при ней пятак с человека экономить, – человек должен машину знать, к машине знающий человек нужен – и, вместо прежней сотни, всего один. Человека такого надо холить! – Старик говорил, юродствуя, жмурясь в удовольствии, поматывая головой, руку запустив в грыжу. – У нас, бывало, – сравните купца с мужиком, – купец, как поп, вырядится шутом и живет в хоромах, чего моя левая нога желает. А я могу босиком ходить и от этого хуже не стану, кхэ, да – не стану. Человека надо любить, уважать человека. Тогда убивать нельзя.
Полторак плохо слушал Якова Карповича, прислушиваясь к себе. Он пил коньяк, должно быть, для того, чтобы погасить мысли. Он перебил старика:
– Подождите, Яков Карпович, не хитрите. Вы человека можете убить? – убить своими руками?
– Как сказать, – ответил Скудрин и хихикнул уклончиво, хрюкнул, харкнул.
– Нет, вы неправильно поняли, а может, и правильно. – Зубы Полторака блеснули злым золотом. – Я никого не предлагаю убить. Я говорю принципиально, – можно убить или нет?
– Да, вот нынче ночью взрывчик произойдет на строительстве… Как сказать… Я скотину пасу на лугах, коровок-кормилиц… Помните, вы сказывали, все, мол, на крови. От взрывчика, глядишь, в одну сторону головы полетят, как бомбы, а в другую ноги, руки, а вода все смоет к черту. Это, ведь, тоже убийство!
Яков Карпович вдруг заговорил серьезно, глаза его стали покойны и почти молоды. Бездетовы деловито пили и слушали немигающими глазами. Евгений Евгеньевич Полторак заходил, забегал по кабинету.
Приступил, затарабанил за окном дождь, качнуло занавески и свет торшера ветром. Вольтеровский кабинет пребывал в вольтерианстве. Баба-провинция, стекшая со скудринских пяток на диван, почесывалась на диване.
– Нет, я не об этом, – крикнул Полторак, и опять блеснули его зубы. – Убить своими руками, даже не задушить, даже не застрелить и не отравить, – убить, даже без крови.
– Одним можно, а другим – нельзя.
– Кому – можно? кому – нельзя?
– А вот нам четверым.
– Что – четверым?
– Можно убить.
Яков Карпович вынул руку от грыжи, стал прямо. Навсегда тусклые его глаза смотрели прямо и злобно. Говорил он без хрюканья и хихиканья, сиплый бас его окреп, – старик жил.
– Почему? – крикнул Полторак.
– Потому что мы совесть потеряли, очень просто, Евгений Евгеньевич. Мы все знаем и все можем. – Яков Карпович хихикнул и опять стал серьезным. – Я вот даже не стыжусь про совесть говорить. Ничего не стыжусь. Что! – голым на голове хаживал, заставляли, несмотря на мои лета. Совесть и стыд у нас с вами уничтожены, мы все можем, украсть, предать, убить. Я иной раз думаю, и не могу придумать, – что для меня запрещено? Разве вот дочь я хочу сберечь, да и то глупость. Все можно, и хочу я только зла, от зла я радуюсь. Мои сыновья – яблочко от яблони не далеко упало, – они лбы подставили под революцию, как быки на новые ворота, и погибли, – а я на свой ум положился, на хитрость, все хотел перехитрить, может, перехитрю, – Яков Карпович хихикнул и опять стал серьезен, – а может… Я старым дураком прикинулся, выжившим из ума, – я собрался и себя, и Россию перехитрить, да, кхэ. Извините, что я много разговорился. У меня сегодня именины, – я динамитик подпалю, который мы вместе с моими коровками в лугах прятали, – это дело уже без хитрости, начистоту, – порадуюсь… Евгений Евгеньевич! – Москву-реку задом наперед пускают не только большевики, но – и Россия, русские рублики, русские руки, – а я по вашему указанию и по моему согласию скотинку пасу. Надо быть честным, Евгений Евгеньевич, – но мы сейчас, Евгений Евгеньевич, – говорим не от чести, а от бесстыдства! – Яков Карпович хрюкнул. – Надо быть честным, Евгений Евгеньевич, от отчаянья, – отчаянная честность! Убить можно, человеческая жизнь – дешевая вещь, прожиток дорог, – у нас людей нет, а есть организации, – мы не честью живем, а за жизнишку держимся. – Яков Карпович захихикал, захмыкал, захрюкал. – В болоте, наверное, коряги, – тина их засасывает, пиявки на них сидят, раки впиваются, рыбы плавают, коровы туда мочатся, вонища, грязь, – а я живу, юродствую, гажу, – и все понимаю и вижу. Убить мы можем. Прикажите, – кого. Надо о делах поговорить, Евгений Евгеньевич. Сегодня ночью – нельзя как лучше, дождик идет, парни девок в луга не таскают, и все пройдет под забастовочку. Я пойду скотинку пасти, а вы с Бездетовыми – прогуляться.
– А я не хочу убивать, – тихо сказал Полторак. – Убийцею может быть человек, у которого нет фантазии…
– То есть, как это вы не хотите убивать? – строго спросил старший Бездетов.
– Это верно, – сказал, усмехнувшись, Скудрин, – это верно, да не совсем, – убийца должен быть без фантазии, его виденья замучат, аналогии. Только это в том случае, если у него честь сохранилась. А мы с вами именно ради фантазии и полюбуемся, как забабахает.
Полторак выпил коньяк из фрегата, сказал сам себе:
– Я не хотел убивать… Мне надо идти, меня ждут. Прощайте. Рабочих мы не вернем…
– Это как же вас ждут? – строго спросил старший Бездетов.
– О деле надо поговорить, Евгений Евгеньевич, – ласково сказал Скудрин. – Идти вам некуда. Вам надо подождать.
– Я приехал с женщиной. Меня ждут. Мальчишкой я… голова у меня болит, мне надо спешить… мальчишкой я, лет тринадцати, читал Толстого «Войну и мир», – как я тогда плакал, как плакал я в том месте, где Анатоль Курагин поцеловал Наташу Ростову, – за попранную чистоту плакал, грязью Анатоля был возмущен, посмевшей коснуться чистоты… Нет, у меня есть фантазия. За попранную чистоту – не Наташи Ростовой, а русских женщин – сегодня на кладбище сами женщины заступились, и на совещании одна женщина спорила со мною.
Братья Бездетовы поднялись от коньяка, стали сзади Полторака. Яков Карпович захихикал. Полторак сел в нерешительности, опустил голову в алкоголе.
– Я вам расскажу, подождите спешить, – заговорил, хмыкая, Яков Карпович. – Наташа Ростова, – это, – да, само собою, фантазия. В России надо назад оглядываться и страшно назад смотреть… Я о себе расскажу, к каким я пришел выводам. Послушайте, сосчитайте, книжечки у меня об этом имеются в шкафу, могу достать. Сосчитайте, – нищие, провидоши, побироши, волочебники, лазари, странники, странницы, убогие, пустосвяты, калики, пророки, дуры, дураки, ханжи, юродивые, – экие, изволите ли видеть, кренделя святой матушки Руси, нищие на святой, калики перехожие, убогие Христа ради, юродивые ради Христа Руси святой, – ишь, какие расписные крендели!.. И заметьте, существуют на Руси тысячу лет, от Киево-Печерской лавры. Сколько писателей макало о них научные перья, историки, этнографы научные труды писали. Были эти блаженные вместе с писателями, – или сумасшедшими, или жуликами, а считались красою церковною, Христовою братией, мольцами за мир. О коломенском нашем Данилушке, обо мне или о братце моем Иванушке поговорим впоследствии времени. А сейчас позвольте доложить о всероссийском Иване Яковлевиче. Помер он в годах семидесятых, я все это помню, был он недоучкой Духовной академии. Помер он в Москве, в Преображенской больнице. О похоронах его писали репортеры, поэты и историки. В «Московских ведомостях» стихи были напечатаны, извольте прослушать:
«Какое торжество готовит желтый дом?
Зачем туда текут народа волны
В телегах и в ландо, на дрожках и пешком,
И все сердца тревогой мрачной полны?
И слышится меж них порою смутный глас,
Исполненный сердечной, тяжкой боли: –
Иван Иаковлич безвременно угас,
Угас пророк, достойный лучшей доли!» –
Яков Карпович продолжал:
– Бытописатель Скавронский в «Очерках Москвы» рассказывает, что, изволите ли видеть, в продолжение пяти дней, пока труп не был похоронен, около трупа было отслужено больше трехсот панихид, многие ночевали около церкви. Предположено было хоронить Ивана Яковлевича в воскресенье, как и объявлено было в «Полицейских ведомостях». В этот день, чем свет, стали стекаться почитатели. Но погребение не состоялось из-за споров, где именно хоронить. Чуть не дошло до драки, а брань уже была, и превеликая. Одни хотели его везти в Смоленск, на его родину, другие хотели, чтобы он был похоронен в мужском Покровском монастыре, где даже вырыта была для него могила под церковью, третьи умиленно просили отдать его прах в женский Алексеевский монастырь, а четвертые, уцепившись за гроб, тащили его в село Черкизово. Опасались, чтобы не украли тела Ивана Яковлевича. Во все это время шли дожди, и была страшная грязь, но, несмотря на то, во время перенесения тела женщины, девушки, барышни в кринолинах падали ниц, ползали под гробом. Иван Яковлевич при жизни, извините за выражение, мочился и испражнялся под себя, – из-под него текло, и сторожам велено было посыпать пол под ним песочком. Этот песок, подмоченный из-под Ивана Яковлевича, поклонники его собирали и уносили домой, и песочек стал оказывать врачебную силу. Разболелся у ребеночка животик, мать дала ему в кашке пол-ложечки песку, и ребеночек выздоровел!.. Вату, которой были заткнуты у покойника нос и уши, после отпевания делили на маленькие кусочки для раздачи верующим. Многие приходили с пузырьками и собирали в них ту влагу, которая текла из гроба – ввиду того, что покойник умер от водянки. Срачицу, в которой умер Иван Яковлевич, также разорвали в мелочь для верующих. Ко времени выноса из церкви собрались уроды, юроды, ханжи, странники, калеки. В церковь они не входили, за теснотой оставаясь на улице, – и тут-то, среди бела дня, делались народу поучения, совершались видения и явления, изрекались пророчества и хулы, собирались деньги и издавались зловещие рыкания… Вот-с, извольте ли видеть, как славно помер человек.
– Это вы к чему рассказываете? – бессильно спросил Полторак.
– К чему рассказываю? – переспросил Скудрин. Скудрин жил и наслаждался. Баба-провинция внимательно уселась на диване. – Извольте слушать! – строго крикнул Скудрин. – И знаете, чем знаменит был Иван Яковлевич? – прорицаниями. Он не только устные делал прорицания, но и письменные, так что для исторических исследований сохранились материалы. Ему писали, – спрашивали: – женится ли такой-то? – он отвечал: – «Без працы не бенды коло-лацы!» –
– Это вы к чему говорите?! – крикнул Полторак.
– А я жизнью наслаждаюсь, Евгений Евгеньевич, перед смертью. Быть может, это лучшее мое воспоминание! Извольте слушать! – злобно крикнул старик. – Сыр совершенно зря считается иностранным кушаньем, – я считаю его национально русским, как и лук. Лук я очень люблю. Заглавным сыром в России был Китай-город, а червями его были юроды, они там пачками ходили. Одни писали стихи, другие пели петухами, павлинами и кукушками, третьи крыли всех матом во имя господне, четвертые знали только по одной фразе, которая считалась пророческой и давала пророкам славу, например, – «жизнь человека сказка, гроб – коляска, ехать – не тряско!» – Имелись аматеры собачьего лая, лаем прорицавшие Божий веления. Были в этом сословии нищих, побирош, проведош, волочебников, лазарей, пустосвятов – убогих всея святой Руси – и крестьяне, и мещане, и дворяне, и купцы, – дети, старики, здоровенные мужичищи, плодородящие бабищи. Все они были, изволите видеть, пьяны и воняли луком.
– К чему вы это говорите? Мне надо идти, – опять бессильно сказал Полторак.
– Сейчас кончаю, – ответил Скудрин. – Над всеми этими юродами стояло, – как бы сказать, – луковицеобразное голубое величие российского царства, покрывало нас горьких, как сыр и лук, потому что луковицы на церквах, как лук, есть символ луковой русской жизни, – символ-с, Евгений Евгеньевич! Говорю это к вашей мысли, чтобы вы сами решили об убийстве. Деваться нам некуда, а в социализм – я не хочу. Если речку запрудят, как предполагаем, если мы запрудочку не взорвем, – запруды наши затопит, эту вот комнату водой зальет, вместо нас здесь рыбы плавать будут, в этот вот кораблик за коньячком заплывут. А я в этом домике на ноги стал и дети мои здесь родились. Я – за Россию, я не хочу к рыбам, мне с моими клопами лучше, чем с социализмом, изволите ли видеть!.. А про Ивана Яковлевича я потому вспомнил, что и мне помирать придется и смерти его, почестям его я завидую. И брату моему Ивану тоже завидую. Я – завистливый человек, Евгений Евгеньевич!
Полторак сказал злобно:
– Вы, Яков Карпович, изволили опустить одно обстоятельство, очень важное, а именно то, что юроды, будуга жуликами или сумасшедшими, были убивающими и убиваемыми. Убивали – только жулики. Сумасшедших – самих убивали.
– Совершенно верно, Евгений Евгеньевич, – жулики процветали, а сумасшедшие мерли, очень помню. Иван Яковлевич по всем данным был жуликом. Россия жуликов любит! – Позвольте еще одно соображение изложить. Мне редко приходится так разговаривать, Евгений Евгеньевич, – позвольте и мне почувствовать себя гражданином. Что, по-вашему, движет миром, – цивилизацией, наукой, пароходами? – труд? знание? любовь? – нет, ничего подобного, кхэ! – Память! – память движет миром. Представьте себе картину. Завтра утром я проснулся, – чувства, разум остались, – а памяти нет. Я проснулся на кровати, и я упал с нее, потому что я забыл о пространстве. На стуле лежат штаны, мне холодно, – а я не знаю, что с ними делать. Я не знаю, как мне ходить, на руках или на четвереньках. Я не помню вчерашнего дня, значит, я не боюсь смерти, ибо не знаю о ней. Инженеры забыли все свои чертежи, и все трамваи, паровозы и каналы пошли к черту. Попы не найдут дорогу в церковь, а также ничего не помнят о Христе. У меня остались инстинкты, хотя они тоже вроде памяти, но пусть, – и я не знаю, что мне есть, стул или хлеб, оставшийся на стуле от ночи, а, увидев женщину, я свою дочь приму за жену… Память! Фантазия! – фантазия памяти, Евгений Евгеньевич!.. Память позволит вам убить, Евгений Евгеньевич, а беспамятство спутает вашу мать с дочерью. Мы с вами мерзавцы, Евгений Евгеньевич. У вас расстройство чувств. Действительно, вам надо пойти отдохнуть, вы расстроены, – а я пойду схожу в постель к жене. Такому вам идти на луга опасно. Там ведь сторожа ходят, они привыкли, как я пасу скотину, а вас пастухом не видели. Идите к своей девочке на часик, а потом я проведу вас к монолиту. Отдохните перед смертью. У меня память есть, ее у меня не отняли, подобно сыновьям. Я помню Ивана Яковлевича, – а, чтобы рыбы вместо меня плавали по моему кабинету, – этого я не желаю. Пусть, что хотят делают, а дом свой я сберегу.
Баба-провинция слушала очень внимательно, распустив свои жижи. Кабинет вольтерьянствовал.
Братья Бездетовы строго поманили к себе Полторака. Полторак бессильно присел к братьям. Яков Карпович наслаждался, жил, – стал серьезен, склонился над заговорщиками и над фрегатом, оперся о плечо бабы-Коломны, браво схватившись за грыжу.
– У меня дома несчастье, я получил телеграмму, – сказал Полторак, – телеграфирует жена. Хорошо, давайте говорить о делах.
– Давайте о делах, – повторил старший Бездетов.
– О делах я скажу коротко, – молвил Скудрин. – Все готово, все я отнес куда надо. К часу, примерно, ночи я пойду пасти скотину. Вы идите к своей девочке, Евгений Евгеньевич, или ложитесь у меня. Разговор короткий. Я проведу лугами, никто не увидит.
– Встретимся у голутвинского плашкотного моста, – молвил старший Бездетов.
– Вы идите, Евгений Евгеньевич, вам сидеть у меня неудобно. У нас времени еще три часа. О смерти и чести говорить нам не стоит. Хотя я не спорю, – честь остается у каждого, у меня, например, – дочка моя Катя… а я тоже схожу к моей старухе в постель. Я живу для Кати. А помирать нынче ночью я не намерен.
Алкогольный фрегат управлялся Бездетовыми, вместе с фрегатом в осьмнадцатом веке застрял в красном дереве кабинета – товарищ Вольтер. В окна к торшеру летели ночные бабочки, и во мраке за окнами шелестел дождь. Яков Карпович копошился вокруг Полторака, топтался голубком, через прореху поддерживая грыжу. Глаза его слезились восемьюдесятью пятью его годами, старик пухнул, отекший, зеленый и счастливый, как сукровица. Громоздкий старик шепелявил, харкал и хрюкал, юродствуя, страшный и отвратительный. Бездетовы безмолвствовали у коньяка. Полторак подпер сизый свой подбородок ладонями, мыслями своими он не присутствовал в вольтеровском этом кабинете.
– Евгений Евгеньевич, – солидно заговорил старший Бездетов, – вы говорили, что рассчитаетесь с нами в Коломне. Самое время было бы теперь произвести расчет.
– Да, да, денежки получить не плохо! – поддакнул Скудрин.
– Да, кажется, правда, что потеряли мы не очень многое, но существенное, – совесть, – молвил Полторак.
– А я не потерял. Я ее не терял1 – раздался голос из-за окна.
Все обернулись к окну.
За окном стукнуло железо водосточной трубы, посыпалась облицовка фундамента, шире распахнулось окно, и в свете торшера появились руки, голова и грудь охламона Ивана Ожогова, младшего единокровного, от одного отца и разных матерей брата Якова Карповича, переименовавшего себя из Скудрина в Ожогова. Иван Ожогов оперся локтями о подоконник. Непокрытую голову его смочил дождь, волосы слиплись в дожде, и лицо его, став иконописным, пребывало в сумасшествии. Ворот пиджака Ожогов поднял, галстук, истертый до дыр, съехал набок. Ожогов внимательно осмотрел бывших в комнате.
– А я не потерял, – сказал Ожогов, – и профессор Пимен Сергеевич Полетика тоже ее не терял. Надо с реками идти, а не против их. Мы с ним объяснились сегодня… Здравствуйте! – добавил Ожогов, помолчав, и поклонился. – Слыхали, – справедливость поднялась, – что женщины сегодня наделали! Опять наши времена приходят. Люди чести хотят!..
Поклону Ожогова ответил один Полторак. Яков Карпович заерзал и заволновался, засучив на месте босыми своими ногами. Баба-провинция уселась на диване гостьей. Вольтер мигал торшером.
– И зачем вы только пришли, братец? Вы думаете, я профессора Полетику не увижу? – спросил Яков Карпович.
– Посмотреть на виды контрреволюции, братец, – ответил Ожогов.
– Какая ж тут контрреволюция?
– Что касается вас, то вы контрреволюция бытовая, – тихо сказал Ожогов и сумасшедше прищурил глаз, – и очень я жалею, что не приставил я вас в мое время к стенке, не расстрелял, когда был председателем исполкома. Что касается краснодеревщиков, то они контрреволюция историческая, организованная вместе с господином вредителем Полтораком. Я все про вас знаю, сукины дети, только мне не верят.
Бездетовы молчали оловянными глазами, насторожившись. Яков Карпович наливался лиловою злобой и торжеством одновременно, вместо репы походил на пареную свеклу, – пошел к окну, захихикал в вежливости и торжестве, засучил руками, усердно тер их друг о друга, точно в морозе.
Сказал Полторак, усмехнувшись:
– Не ошибаетесь ли вы, Яков Карпович, что у юродов убивают мерзавцы и убивают сумасшедших?
Скудрин не ответил Полтораку.
– Знаете, братец, – заговорил, засипел Яков Карпович, очень вежливо и очень торжественно, – убирайтесь отсюда ко всем чертям. Я вас чистосердечно прошу!
– Извиняюсь, братец Яков, я не к вам пришел, ноги моей не будет в вашем доме, я на нейтральной почве – на подоконнике. Я пришел на историческую контрреволюцию посмотреть и с ней побеседовать, – ответил Иван.
– А я прошу, – убирайтесь к чертовой матери. Нынче на нашей улице масленица! Полетику я сам повидаю.
– А я не пойду к ней!
Павел Федорович медленно глянул оловом глаз на брата Степана и сказал строго:
– Разговаривать с юродами мы не можем, – не уйдешь, велю Степану выгнать тебя в шею.
Степан глянул так же, как брат, и поправился на стуле. Охламон молчал, щурил ехидно глаза и не двигался. Степан Федорович нехотя встал от фрегата, пошел к окну. Охламон трусливо слез с подоконника, оставив на свету одну лишь голову. Яков Карпович торжествующе хихикал. Степан подошел к окну, – Иван Ожогов исчез во мраке, гримасничая. Шумел за домом дождь. Из мрака сказал охламон:
– От меня не уйдете, – и свистнул.
За домом шумел дождь, и было тихо, как тихо бывает в лесу. Леса наступали на Коломну, надвинутые ночью. В Маринкиной башне кричали совы, карауля башенные века. Коломна запахла конским потом. Ольга Павловна Тучкова в тот час добралась уже до своей деревни и, счастливая, благодарная деду Назару Сысоеву, что он продал ей стулья и кресло, засыпала на полчаса в Назаровой избе на соломе, чтобы ехать через полчаса со стульями к поезду в город. Барин Каразин в тот час бился в припадке старческой истерии. У Маринкиной башни кричали совы. Охламон ушел. Яков Карпович, торжествующий, никак не знал в тот час, что это был один из последних его часов в страшной и длинной его жизни. Лил во мраке дождь, уже по-осеннему, на многие часы.
– Я пойду, – бессильно сказал Евгений Евгеньевич.
– До часу ночи, – сказал старший Бездетов.
– До часу ночи, – сказал Скудрин.
– Да, до часу.
Ночь над городом в дожде следовала неподвижна и черна, как история этих мест. Дом Скудрина провалился во мрак и немотствовал перед путиной в луге. Старик Скудрин пребывал в счастии и в бодрости, – и в кислой тишине спальни зашлепали туфли старика – к постели Марии Климовны. Мария Климовна, пергаметная старушка, спала. Свеча в руке Якова Карповича дрожала. Яков Карпович хихикал. Яков Карпович коснулся пергаментного плеча Марии Климовны. Глаза его слезились в наслаждении. Баба-провинция спала в кабинете.
Он зашептал:
– Марьюшка, Марьюшка, да, кхэ, это жизнь, – это жизнь, Марьюшка, да!.. – и старик слышал гром взрыва, видел его взлетающие огни, дым, запахи, летящие в стороны камни, сипенье воды. Старик пляснул около постели.
Осьмнадцатый век провалился в российско-вольтеровский мрак.
В тот час на лестнице в мезонин младший Бездетов, Степан Федорович, встретил Катерину, потрогал ее плечи, крепкие, как у лошади, и покорные, как у коровы, пощупал их пьяною рукою, зашептал. Катерина стояла покорная и беспомощная.
– Ты там скажи своим, – сказал Степан, – опять устроим. Найдите, мол, место, в бане у вас, или где.
Евгений Евгеньевич опять будет. А сама иди сейчас в баню.
Катерина ничего не ответила. Коровообразная, она стояла рядом с Бездетовым в покорности и бессилии, опустив руки. И она обняла Бездетова, прижавшись к нему и смяв его.
За прежние приезды Бездетовых у них возникла традиция, столь обычная в обывательских тылах, – Катерина созывала подружек, братья доставали вина, – в бане, где хранилось у старика Скудрина приданое Катерины, в дальнем углу сада занавешивались окна, банный полок превращался в стол, девушки раскладывали на полке вареную колбасу, шпроты, конфеты, моченые яблоки, Бездетовы раскупоривали алкоголи. В бане зажигался ночник на первый час пьянства, затем тушился, и все банные часы собеседники и собутыльники говорили шепотом. Баня пребывала в осьмнадцатом веке так же, как дом, вольтеровски-колдовское наваждение. Девушки пили и напивались. Братья любознательствовали тем, как у пьяных людей, и у женщин в частности, когда они очень пьяны, надолго на лицах застревают одни и те же выражения, созданные алкоголем. В тот час, когда одна из девушек, дошкольница Клавдия Ивановна, дочь Риммы Карловны, начинала по-мужски опирать голову рукою, когда зубы ее скалились, а губы каменели в презрении, когда курила она одну папиросу за другой и пила коньяк, как воду, и говорила одно и то же: – «я пьяна? – да, пьяна, – и пусть! Завтра я опять пойду в школу учить, – а что я знаю? чему я учу? – вы красное дерево покупаете? старину? – вы и нас хотите купить вином? вы думаете, я не знаю, что такое жизнь? – нет, знаю! и пусть, и пусть! – а завтра в шесть часов я пойду в домпрос на совещание, – вот мой блокнот, тут все написано!., и пусть!..» – в этот час, когда зубы Клавдии Ивановны скалились и была она безобразно-красива, – начинал Степан Федорович убеждать Катерину ласковыми словами, полными иронии: – «а вот ты кофточку не снимешь, Катюша, не посмеешь!» – и Клавдия Ивановна кричала тогда придушенным шепотом, ероша стриженые волосы, по-мужски опирая голову и не поднимая от стола остановившихся своих глаз: – «покажет! Катька, покажи им грудь! Пусть посмотрят! – Я тоже разденусь, хотите? – Вы думаете, я пьяница? – я сегодня пришла, чтобы напиться в дым, в дым, – понимаете? – в дым!., была не была!.. Катька, разденься, пусть глядят, мы не стыдимся предрассудков!» – Клавдия Ивановна начинала тогда рвать вороты своих блузок, Катерина помогала ей расстегиваться, убеждая всегда одним и тем же: – «Клава, не рви одежду, а то дома узнают, – не сердись, лучше я разденусь…» – и Павел Федорович, старший, тушил тогда ночник.
На лестнице в мезонин было темно. Катерина обняла Бездетова, прижалась к нему богатырским своим телом, смяв его, и она заплакала, злобно и покорно.