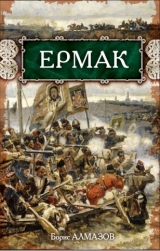
Текст книги "Ермак"
Автор книги: Борис Алмазов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 32 страниц)
– Эти ватиканские свиньи неспроста провожали всю навербованную сволочь. Дело нечисто!
– Русские удивительно простодушны! – сказал, соглашаясь с ним, мастер из Зальцбурга, которого везли, уговорясь об отдельном большом жаловании, если он улучшит качество соли.
– Это дело русских! – закончил разговор его подмастерье. – Нам нечего вмешиваться куда не следует.
– Я всегда вмешивался куда не следует! – сказал литейщик. – Может, поэтому еще жив. И я не люблю, когда свинья заходит в хозяйские покои и там гадит. И я буду совать нос не в свое дело, чтобы однажды меня не зарезали, как каплуна!
Низкорослые мохнатые лошаденки, мотая гривами, споро тащили сани по накатанной дороге. Холодное солнце, вставшее из-за бесконечных лесов, светило на занесенные снегом поля и редкие деревушки, утонувшие в сугробах.
– Мой Бог, когда мы вернемся назад! – вздохнул мастер из Зальцбурга.
– Когда-нибудь, я думаю, вернемся! Если не будем дураками! – сказал литейщик.
А папский легат на следующий день отправился прямо в противоположенную сторону. В сторону Великих Лук, где фактически руководил подписанием мира с Польшей на самых невыгодных условиях для России сроком на двадцать лет. Россия потеряла все Прибалтийские земли, уступила многие города и обязалась выплатить чудовищную контрибуцию...
Мир был нарушен через восемь месяцев шведами, вышедшими к Неве.
Невеселое Рождество
В преддверии сочельника Москва топила бани. Они дымились по всему берегу Москвы-реки и Неглинки. Даже там, где хозяин еще не успел вывести своз-ной сруб под крышу (а таких срубов были целые улицы, еще не восстановленные после крымского разорения), бани уже стояли. Большинство из них топилось по-черному – из раскрытых дверей и отдушин клубами вырывался березовый дым, а в протопленных – яростно хрястали веники, стонали и выли парильщики. Малиново-фиолетовые вылетали они оттуда в чем мать родила и с уханьем сигали в проруби или валялись по сугробам. «Хвощалась» вениками вся Москва. Ближе к вечеру пошли мыться бабы и ребятишки.
Ермак с Алимом отлежались на лавках после бани, отпились квасом. Сестры привели укутанного в одеяла, румяного, как яблоко, Якимку.
– Ну что, Якимушка! – сказал Ермак. – Квас-ку-то выпьешь?
– Угу.
– Мылся-то хорошо? Со тщанием?
– Угу!
– А носик мыл? А уши мыл?
– Все мыл, – выдувая кружку кваса, солидно сказал Якимка.
– Где же все! – сказал атаман – А глазены? Небось не мыл! Вон они у тебя какие черные!
Якимка ошарашенно уставился на крестного. Ермак засмеялся, схватил крестника в охапку, усадил на колени. Якимка понял атаманову шутку и успокоился.
– Ну что, Якимок, – идти на новую службу, или станем с тобой в Старое поле вертаться?
– Давай на службу сбираться, – сказал Якимка.
– Во как ты расположил! – ахнул его дед Алим. – Через чего ж ты думаешь, что на службу лучше?
– В Старое поле еще успеем, – сказал Якимка. – А службы не станет.
– Ого! – сказал атаман Алиму. – Что ж ты брехал, что Якимке только четыре года... Вот он как гутарит – думный дьяк да и только.
Якимка загордился.
– А тут большого ума не надоть! – сказал Алим. – Ну-ко, Якимушка, возьми моченого яблочка да ходи отсель, ходи к бабке, неча тебе с казаками вертеться...
– Я тоже казак! – засопел Якимка.
– Иди-иди! Казак беспортошный! Мал еще!
Понурившись и волоча валенки, Якимка ушел.
Крестный перечить деду не стал.
– Ты сам рассуди! – говорил сотник. – Ну, скажем, вызвал тебя царевич, царство ему небесное... А Сейчас-то чего назад не отпускают? Шутка ли, второй месяц на Москве держат – какой ради надобности? Нон, Якимкиного отца и на денек не отпускают на побывку, а тебя держат... Боевого атамана. Там, подо Псковом, лишних много, что ли? Стало быть, имеют на тебя виды.
– То-то и оно! – согласился Ермак. – Да знаю я, какой будет сказ. Мне найденыш мой – Урусов – псе порассказал. Про пермскую службу...
– Ну и чего?
– Да вот и не знаю, идти мне или нет.
– А кто тебя спрашивать будет! – засмеялся
Длим. – Ты, чай, не в Старом поле, а в Москве.
В Москве «нет» не говорят! А то мигом на голову короче станешь...
– То-то и оно! – Не стал Ермак говорить, что вот, мол, Алим давно казачью волю потерял, а он не хочет из хомута в хомут лазить...
– А что худого!? – горячился Алим. – Будешь хоть за стенами жить, а не как волк, прости Господи, по степу мотаться... Не молодой, чай...
– Ну-ко, спорщики, идите отсель... – В горницу вошла Алимова жена со снохами. – Мы убирать станем. Полы мыть да наволочки менять, ширинки и всяки уборы... Давайте скореича – мне еще в баню надоть...
Строгая, повязанная по брови черным платком Сама была диктатором в доме: старые казаки покорно поднялись. Из-за бабкиной юбки выглянул беспортошный Якимка и злорадно показал дедовой спине кукиш.
– Вота, вота! «Мал еще!» Сами отсель идите!
– Ай-яй-яй-яй-яй! – Ермак сгреб Якимку под мышку, утащил к себе в каморку, усадил на постель.
– Якимушка! Да ты чо? Кто ж тебя научил шиши казать, да еще дедушке? А? А ну-ко он посля твоих шишей заболеет да умрет?
– А чего же он! – готов был уже заплакать, но не сдавался Якимка.
– Да ты! Разве можно! Может, он и выгнал тебя зазря, да нешто позволено за это шиша насылать! Он табе соломиной, а ты его дубиной...
– А чего будет-то? – испугался Якимка.
– Да ничего хорошего. Ты же порчу на него наслал. Пальцем показать – порча смертельная, а шиша показать – порча тайная – сатанинское проклятие!
– Я так не хотел! – затряс губами мальчонка.
– Знамо, что не хотел... Ну не плачь! Бог простит, не отступится. Полно, мой голубчик. – Он погладил Якимку по голове. – Не все, сынушка, по хотению делается.
– Это как?
– За каждым человеком незримо тайные силы стоят: справа – ангел-хранитель, слева – шут сатанинский. А человек посередке. Как он чего решит, так то в одну сторону, то в другую преклонится. Вот ты зла пожелал – шут ангела в бок толкнул да за спиной твоей больше места занял. Вот ты озлился да на кого-то пальцем либо шишом показал – сатана-то враз из-за твоей спины на этого человека устремляется и разит, и уж тут ты в полной его власти...
– А чего ж теперь делать? – размазывая слезы, спросил Якимка.
– Покаяться! Прости, мол, Господи! Согрешил. Ну, с тебя спрос невелик – ты махонький, а спрос па Страшном судище будет с меня – я твой крестный!
Якимка обхватил Ермака ручонками, прижался к нему изо всех сил.
– Крестный, а ты как же?
– А я завтра в церкву схожу, поисповедуюсь перед Господом. Отпущение грехов получу, вот и ладно будет. А ты больше дурь-то всякую пальчиками не кажи...
Ермак вытер Якимке нос. Достал припрятанную для праздника сосульку – коня расписного.
– На-ко!
Якимка впился в лакомство.
– Давай-ка я тебя нашим казачьим тайным древним знакам обучу. Только уговор – чтобы никогда никто от тебя этих знаков не перенял, только своим детям или крестникам скажешь... Договорились? Перекрестись.
Якимка обратился во внимание.
– Вот самый старый знак: можно руки вот так-то сложить, а можно одни пальцы – это два ножа – наша родовая тамга. Два скрещенные клинка хошь сабельные, хошь ножи... Означают: «Я – казак!» Мот увидишь казака, покажи ему такой знак, чтобы только он один видел, если он ответит – значит, казак старый, а если нет, значит, только казакует – пришлый, не родовой. И нечего им наши знаки ведать. Вот ты мне показал ножи, а я тебе показываю птицу: вот эдак пальчики и эдак... Это значит: я – Сары Чигирь. Это мой род.
– А мой? – спросил Якимка.
– А ты у нас – Ашинов. Ты из рода Ашина – волк. Вот эдак волка показывают. А вот эдак – род гай – род ворона, а это ковуй – лебедь...
– А он покажет знак, а я не знаю...
– А тогда ты начинай показывать знаки по старшинству: ножи, коня, рыбу, волка, птицу... А он станет за тобой повторять. И где его род, там он свой знак и покажет. Ты сразу и догадаешься, кто это, – нас всего-то пятнадцать родов осталось...
– А раньше было много?
– Много, сынок. Много десятков. От Золотых гор до Дуная были наши юрты и становья.
– Чегой-то вы тута в темноте? – в каморку, ссутулившись, влезал Алим. – Айда вечерять.
– Идите, я говею, – сказал Ермак. – Завтра к исповеди пойду.
Якимка тут же показал деду «ножи».
Алим отшатнулся. Ахнул и машинально показал знак волка...
– А теперь чего делать? – спросил, довольный растерянностью деда, Якимка.
– А теперь – ликоваться! Щека к щеке, три раза! Вы же одного рода! И завсегда, даже в бою, если с казаком сходишься – спроси его, не нашего ли он рода? Чтобы свою кровь не пролить. Нас и так всего ничего осталось...
– Ну, кум! – сказал Алим. – Ажник меня в жар кинуло. А не рано ему?
– Может, и рано, – вздохнул Ермак. – А нас не станет, кто ему расскажет да научит? Я вон своего не учил, думал, рано, а вышло поздно...
– Ну ладно, ладно... – прогудел Алим. – Пойдем вечерять, Якимушка.
Деда... – жалостно потянул за дверью мальчонка. – Прости, Христа ради. Я табе шиша в спину казал...
Ну, казал и казал. Сядь вона к печке да и скажи: куды дым, туды и шиш. Оно все в трубу и вылетит.
Ермак не стал зажигать жирник, а, снявши кафтан, отодвинул с божницы поволоку и, став на колени, начал читать покаянный канон.
Молился он долго и горячо, поминая всех святых, заступников и страстотерпцев. Так молиться учила его еще мать, которая была большая молитвенница. С годами в памяти атамана стали смешиваться три образа: матери, жены и Богородицы. Когда он вспоминал мать или жену, то все время перед мысленным взором вставала иконописная Пресвятая Дева. Лица когда-то живших двух самых родных женщин стерлись из памяти. А ежели являлись ночью, то одной женщиной – доброй и необыкновенно красивой. Помнились так, отдельные детали: клетчатая мамина запаска, белая занавеска с оборкой, платок. Помнилась фигурка жены в чепане и шароварах в дверном проеме куреня... И все...
Все заслонял милосердный образ Богоматери, всевидящей, всезнающей, всеблагой.
– Владычица Богородице, – шептал атаман. – Заступись, спаси, помилуй, сохрани раба твоего Василия. Вразуми меня, укрепи и направь, не ради мя, но ради Сына Твоего Единородного, да будет мне по слову Его, по воле Его...
Молитва успокоила и уверила в ощущении того, что не надо ни спорить, ни соглашаться. Все произойдет так, как должно, и в срок предначертанный.
Еще затемно он пошел к ранней обедне и был в храме целый день и весь вечер. Вернулся домой, когда загорелись первые звезды, и, как положено в сочельник, только при первой звезде выпил воды, съел корку хлеба.
Казаки привезли два снопа и поставили во дворе. Вся семья Алима – женщины и дети – вышли во двор. Один из казаков поискал среди звездного крошева крупную звезду и, указав на нее пальцем, сказал:
– Юлдус.. Взошла.
– Зажигай, – сказал Алим.
Принесли огонь из лампады, и два снопа вспыхнули двумя кострами в небо. В гробовом молчании, наглухо заперев ворота, казаки стояли вокруг огней.
Толпа славильщиков со звездой, ходившая славить новорожденного Христа, остановилась, увидя зарево.
– Вон казаки костры зажгли. Души мертвых греют, – сказал паренек постарше.
– А наш батюшка говорил, что это бесовский обычай! А казаки эти – татары, только говорят, что они крещеные! Они Михаила, Тверского князя, заставили у себя в Орде кострам поклоняться. А он не поддался, и они убили его, – сказал другой парень.
– Это были не казаки, а татары.
– А они и есть татары, одно слово – ордынцы.
Но костры вспыхивали не только в казачьих домах. Древнейший обычай поминания близких в рождественскую ночь давно потерял свой языческий степной смысл, и, может быть, только немногие занесенные на север потомки детей Старого поля помнили, что их предки свято верили в очистительную силу огня, что, по их древнейшим поверьям, души умерших прилетают к этому костру греться. Потому и собирались они в полном молчании вокруг горящего снопа, поминая про себя всех утраченных близких, согреваясь в тепле пламени воспоминаний и молитв.
Жаркое пламя прогорело быстро, и снова тьма обступила двор. С улицы слышались голоса славильщиков: «Христос народился – весь мир просветлился!..»
Скоро они начали стучать и в ворота городовых казаков, звонко петь под окнами, на крыльце: им выносили сало, корчаги с медом... со всем, что стояло на широких столах и манило после Рождественского поста. Но хотя столы были накрыты, к ним никто не присаживался – ждали утреннего колокольного благовеста.
Якимка принимал во всем живейшее участие. Он был потрясен и пылающим снопом, и тем, что в доме, обычно замиравшем с закатом солнца, никто не спал. Хлопали двери, топали пришедшие в ожидании богатого разговления слуги. Но пока праздник еще не набрал мощи, пока еще говорили вполголоса, как было принято в семейном домостройном быту.
Якимка никак не мог уснуть. Все вскакивал, выбегал босой в горницу и спрашивал: «Скоро звонить начнут?», потому что с этим связывал не только получение подарков, но и праздник вообще.
Женщины и девочки-сестры отмахивались от него – белились-румянились. Деда не было – ушел держать караулы на улицах.
Ермак, бывший не у дел, унес Якимку к себе и качал на руках, укутав в одеяло. Но Якимка вертелся и высовывался, не желая спать, как гусеница из кокона. Его уже тянуло на слезы от перевозбуждения, а Ермак, как назло, думал о чем-то своем.
– Крестный! – сказал Якимка. – Что ты все молчишь! Хоть сказку скажи, а то я реветь буду.
– Ну, сказку так сказку... – тряхнув кудрями, сказал атаман. – Вот, слушай. Раз шел волк – половодье из логова выгнало. Голодный, страшный. Три дня ничего не ел, живот к спине прирос. Степь вся затоплена – овраги водой полны. У волка от сырости ноги болят, ноет нога перебитая, спина, стрелой траченная. ..
– Бедный волк! – сказал Якимка. – Тебе его жалко?
– Жалко. Дальше слушай. Вот бежит собака – хвост бубликом – веселая! «Здорово, волчок!» – «Здорово». – «Гдей-то ты ходишь, где гуляешь?» – «Пропитания ищу. Может, кость какую найду; может, мышами пообедаю». – «Фу, мерзость какая! – говорит собака. – Это все потому, что ты, волчок, не служивый! Был бы ты служивый, шло бы тебе жалование – горя бы не знал». – «Как это?» – «Я вот у хозяина живу – двор стерегу!» – «И я бы мог!» – «Я вот овец пасти помогаю», – говорит собака. «И я бы мог. Разлюбезное дело». – «На охоту хожу». – «Да лучше нас, волков, и охотников нет!» – «А за то меня хозяин кормит. Конуру построил, а хозяйка то косточку бросит, то потрошков каких...» – «Собака, собака! Определи и меня на службу, – говорит волк, – старый я стал по степям да лесам таскаться... Я отслужу!» – «Да с дорогой душой! – собака отвечает. – Будем вместе жить. Конура у меня просторная, на первых порах поместимся, а потом, ежели твоя служба хозяину понравится, он тебе новую сделает. Только служи!» – «Веди!» – говорит волк. Вильнула собачонка хвостом, побежала, и волк за ней поплелся. «Собака, собака, – говорит, – а что это у тебя хвост повыдранный?» – «А это, – говорит собака, – один мальчик, Якимка, меня за хвост таскал!»
– Неправда! Брешет! – закричал Якимка. – Я никогда собак за хвосты не таскаю! Еще кусит!
– Значит, это другой Якимка был. «А что это, – волк спрашивает, – у тебя бок подпаленный?» – «Да это, – говорит, – меня хозяйка варом обдала, когда я на мальчонку тявкнула. На того, что мне хвост драл!» – «А что это у тебя на шее?» – волк спрашивает. «Это – ошейник. Я же не уличная какая-нибудь! Это мой чин!» – «Стой! – кричит волк. – Знаем мы эти чины да звания! На цепи сидишь, тебя и щиплют, и шпарят, а ты еще радуешься! Воистину жизнь собачья! По мне лучше в степи на воле помереть, да чтобы только никто над тобой не куражился!» И пошли они с собакой врозь...
– Плохая сказка! – сказал Якимка. – Больше ты мне такую не рассказывай!
– Это не сказка! – вздохнул Ермак. – Это быль!
– Все равно боле не рассказывай! Давай лучше про гусика!
– Завтра про гусика! Спи скорее! Завтра что-то тебе будет!
– Хорошее?
– Тебе понравится! – Атаман перекрестил мальчонку, укрыл, а когда тот уснул – снес на женскую половину – матери.
Он долго лежал, вглядываясь в темноту, слышал, как приходили славильщики, как под утро кричали в курятнике петухи. Неотвязные мысли о том, что он потерял свою волю – единственное достояние, которое получил он от предков. Волю – то есть право свободного выбора. И теперь им помыкают, как холопом... Хотят – в Пермь, хотят – в острог, – словно он смерд, а не казак.
– Есть одна воля – Божья! – шептал он. – На этой воле мир стоит, а воля царская мне не указ! Выбрал по воле службу – служу! Но только то, о чем уговаривались. Мною помыкать нельзя. Меня костью в конуру не заманишь. Ну и что, что я всю жизнь служу, – я казак и Царю союзник, а не подданный... Все опутали, заковали. Сижу тут в Москве и выехать не могу – везде засеки да заставы, без подорожной не проехать... Как на Москве легко людей в хомут берут – раз, два – и нет воли...
Он забылся сном под утро и проснулся, когда по всей Москве звонили колокола, гудел Иван Великий, рассыпались мелкими пташечками окрестные замоскворецкие, еще закопченные, иные без куполов, но уже с колоколами церквушки...
Всем семейством чинно тронулись в храм. Впереди – девчонки, потом – Алимова жена и снохи, затем Алим и Ермак, а за ними – казаки. Улица полыхала оранжевыми тулупами, пестротою шалей, искрилась инеем на шапках и меховых опушках...
В храмах – и богатых кремлевских, и в малых, стоящих чуть не на каждой улице, еще закопченных, с голыми стенами и бедными иконостасами, – соловьями заливались певчие, рычали басы, и запах ладана рождал ощущение праздника и безусловной победы над всеми супротивными...
Возвращались из церкви в самый полдень, когда солнце, отраженное сугробами, слепило и даже пригревало, садились за широкие столы чинно и степенно, а столы ломились от жареных поросят и от плоток утиных, гусиных, от куропаток и тетеревов...
– Ну, брат Алим, живешь по-царски! – похвалил Ермак хозяина.
Трапезовали обильно. Запивали квасами многоразличными и медами ставлеными. Чуть прихмелились от обильной еды и питья, отвалились от стола после благодарственной молитвы. Вот тут-то и настал торжественный момент. Казак принес переметную суму атамана, и Ермак стал доставать оттуда шали, полушалки, головные заморские платки, набрасывал на плечи всем многочисленным женщинам и девушкам семейства Алима, всех троекратно целовал, щекоча кудрявой бородой. Наконец, когда все зардевшиеся женщины и хихикающие девчонки вновь расселись по лавкам, а посреди горницы остался один Якимка, в новой рубашке до колен и в новых расписных сафьяновых сапожках, с огорченным от несбывшихся ожиданий лицом, Ермак спросил казака:
– Все, что ль, подарки?
– Все! – ответил казак, показывая пустую суму.
Якимка, подавив тяжелый вздох, грустно понурил
голову, пошел к бабушке и притулился к ее боку.
– Вот, – сказал Ермак, провожая его глазами. – Вот он, казак истинный, как обиду терпит! Ни тебе словечушком, ни вздохом. Вот, сестры, глядите на братишку и учитесь – дому голова и надежа растет. Вот он, хозяин и защитник! Ходи сюды, Якимушка! Ходи, мой родной! Да нешто я свово крестника забуду!? А это вот кому?
Он достал из-за пазухи сверток.
– Да что же у нас тута такое? Якимушка, как думаешь?
– Не знаю! – задохнувшись от счастья, ответил мальчонка.
– Вот вы все спали, а я по-стариковски не спал – караул держал. Вот слышу ночью, топ-топ-топ – лисичка бежит. Унюхала, что баушка всякой всячины наготовила – своровать решила. А я изловчился, ее за хвост – хвать! Она ну вырываться, ну проситься: «Пусти меня, казак, к малым детушкам!» – «Какой за себя выкуп дашь?» – «Поймала я лебедя, поймала я белого, в темнице держу. Если ты меня отпустишь, и я лебедя отпущу...»
– Лебедь – казак, наша птица, надоть выкупить, – солидно сказал Якимка.
– И я так думаю! Отпустил я лисичку, а утром: тук-тук-тук... В окно лебедь стучится...
– Жареный? – не выдержал есаул и заржал. – Ну, атаман, мастак сказки складывать.
– Сам не слушай, а врать не мешай! – сказал
Ермак. – «Спасибо, – говорит лебедь, – что меня выкупили. Чем я вас отблагодарю?..» – «Лети, говорю, лебедушка, в Старое поле, на реку Хопер, там травы цветут шелковые, там реки текут
медовые. Сыщи подарок крестнику моему Якимушке – чего его душа просит». Вот он и принес. Как ты думаешь, что?
– Штаны! – ахнул Якимка.
– Истинные казачьи шаровары! Облекайся и вертайся! – сказал атаман, разворачивая платок и вынимая специально сшитые для Якимки широкие шаровары. – Чтоб никто не говорил, что тут мальчик маленький беспортошный. У нас – казак. Заступа!
Якимка тут же скинул сапоги и под хохот казаков натянул шаровары.
– Во! Во! – ахал он, не в силах выразить полноты радости.
– Ну что, Алим, – вот тебе и казак.
– Так, – согласился Алим. – С весны станем учить правильной езде да сабле, а там и до огненного боя недолго...
Мать Якимкина кинулась к нему, не сдерживая слез, поскольку вырос ее мальчик, и не сегодня завтра поведут его на мужскую половину дома в тяжкую, воинскую, мужскую жизнь.
Расчувствовавшиеся казаки затянули песню про Добрынюшку и добавили матери слез: потому песня была прощальная, выездная...
Со двора, двора широкого,
Со подвория отеческого
Вылетал не ясен сокол,
Не быстрой орел – млад Добрынюшка... —
подхватили, разобрались на голоса и грянули дружно все сидевшие за столом. И женщины пригорюнились, припомнили, что почти у всех сидящих здесь казачек мужья либо на войне под Псковом, либо в степи казакуют, либо в том дальнем походе, где ведут их старые атаманы и сумрачный казак Мамай, где бьются они с антихристом и защищают живущих вечно...
– Мир дому сему!..
На пороге стоял именитый дьяк Урусов.
– Гостюшка дорогой! – кинулся к нему Алим. Усаживать, еды подкладывать.
Встретились глазами именитый дьяк Урусов и атаман Ермак.
«Что?»
«Худо», – одними глазами ответил найденыш.
А когда совсем загудел, разбился на кружки праздничный стол, а в двери уже стали ломиться славильщики, Ермак подошел к Урусову.
– Что? – повторил он вслух.
– Баторий от Пскова отошел... Осаду снимают... – И, потупясь, добавил: – Черкашенина убили.
Ахнул атаман, сел на лавку, держась за сердце. Сломалось и замолкло веселье.
– Верно ли? – прошептал он.
– Верно, – сказал Урусов, – вчера нарочный прискакал.
– Так.
Ермак поднялся, заходил по горнице.
– Сусор! Якбулат! Подымайте казаков! Скачем во Псков...
– Так я и думал, – сказал Урусов. – Потому сразу тебе ничего и не сказал. Вот тебе все бумаги подорожные. Ночью выправили. Мы и ночью пишем...
Женщины покорно потянули со стола угощение, собираясь укладывать его в подорожные сумы.
– Вот тебе и пермская служба! – сказал Ермак.
– Жизнь не вся, – возразил ему дьяк.
Из угла, всеми забытый, в новых шароварах и по-мужски подпоясанный, распахнутыми, полными ужаса и слез глазами смотрел Якимка, точно понимал, что видит крестного в последний раз.








