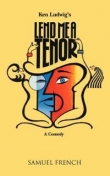Текст книги "Воспоминания"
Автор книги: Беньямино Джильи
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)
ГЛАВА XXI
Я уехал из Милана, так и не побывав в «Ла Скала». И все же мое пребывание в этом городе было не совсем безуспешным. Во-первых, я получил почетный титул кавалера итальянской короны. Это не бог весть что, но такие вещи любит Костанца. Во-вторых, я начал больше зарабатывать. Все три года, с того времени, как я пел в Палермо, моя рыночная стоимость была неизменной – триста лир за спектакль. Теперь же, в Милане, она сразу поднялась до семисот. Кроме того, я подписал два контракта на будущий год – один с Раулем Гюнцбургом[22]22
Рауль Гюнцбург – крупный антрепренер в герцогстве Монако. Очень много сделал для пропаганды во Франции и Монако русской музыки и ее лучших исполнителей.
[Закрыть] на сезон в театре «Казино» в Монте-Карло, другой с «Бонетти-Компани» на сезон в театре «Колон» в Буэнос-Айресе. И последнее – меня стали записывать на грампластинки.
В. Ф. Тайсберг, представитель фирм «Воче дель падроне» и «Виктор Граммофон Компани», приехал в Милан год назад, чтобы установить контакт с артистами и организовать производство пластинок. При трудностях военного времени раздобыть необходимое для этого оборудование было довольно сложно. И все же Вайсберг сумел как-то наладить дело. Ему приходилось даже, как он сам рассказывал, рыться для этого на складе отходов в Порта Маджента.
Во главе итальянского отделения фирмы «Воче дель падроне» стоял маэстро Карло Сабаино. Масканьи представил меня ему однажды вечером после спектакля в театре «Лирико», и тот попросил меня зайти к нему в контору на следующий день. Там-то я и услышал впервые в жизни грамзапись. Это была ария «Как мила...» из «Дона Паскуале». Пел Энрико Карузо, которого я не слышал еще ни разу в жизни. Я слушал – помню это отлично – со смирением и почтением.
– Теперь я хотел бы пригласить вас в студию, – сказал маэстро Сабаино. – Я хотел бы попробовать записать ваш голос. Чтобы вы хотели спеть? Не беспокойтесь, это только пробная запись.
Разволновавшись, я выбрал арию Фламмена «Ах, вновь найти ее...» из «Жаворонка». На другой день маэстро дал мне послушать запись. Это было совершенно необычайно – сидеть молча в кресле и слушать свой собственный голос. Но еще больше поразило меня другое – я сразу же заметил удивительное сходство моего голоса с тем, который слышал накануне, когда проигрывали пластинку с записью Карузо. Я растерялся. Что хотел сказать маэстро Сабаино, делая такое сопоставление?
Я поговорил с Байсбергом, и мы условились записать сразу десять номеров – самые известные арии из моего репертуара: «Небо и море» из «Джоконды», оперы, в которой я дебютировал, с тем самым си-бемоль, что доставило мне столько забот; арии «С полей, лугов» и «Вот я у предела. . .» из «Мефистофеля»; «Тайное согласие» и «Сияли звезды» из «Тоски»; «Прощание с матерью» из «Сельской чести» и уже названная ария из «Жаворонка». Не надо обладать особой прозорливостью, чтобы понять, какие огромные возможности открывает это замечательное дело. И все же я был тогда очень далек от мысли, что в один прекрасный день в лондонском отделении фирмы «Воче дель падроне» только моими пластинками будет заниматься целый штат служащих.
Как и в предыдущие годы, почти все лето 1918 года я посвятил благотворительным концертам в пользу Красного Креста и много пел для солдат на фронте. Исход войны складывался теперь благоприятно для Италии. Победа была не за горами. Но для меня лично время это было омрачено смертью Арриго Бойто. Это произошло 10 июня. Я никогда лично не был знаком с Бойто, но настолько вошел в его «Мефистофеля», настолько проникся им, что теперь мне казалось, будто я потерял отца. А когда я узнал, что Тосканини[23]23
Артуро Тосканини (1867—1957) – крупнейший оперный дирижер Европы и Америки.
[Закрыть] думает почтить память ушедшего друга специальной постановкой «Мефистофеля» в «Ла Скала», мне стало страшно при одной только мысли, что на роль Фауста он может выбрать кого-нибудь другого, а не меня. Причины тут были, конечно, разные. Я хотел петь с Тосканини, и еще я хотел – отчаянно хотел петь в «Ла Скала». Но больше всего хотелось, чтобы мне позволили принять участие в спектакле, посвященном памяти Бойто. Несколько недель провел я в мучительном ожидании. Я потерял всякий интерес ко всем другим работам, отказался от нескольких контрактов и уехал в Реканати, где не находил себе места, не зная, что делать. И наконец пришла телеграмма, подписанная Тосканини. Я едва успел уложить чемоданы, попрощался с семьей и вскочил в дневной поезд.
Тосканини, разумеется, был в то время уже легендарной фигурой, и меня очень волновала предстоящая встреча с ним: ведь я буду работать с этим гением, славившимся своей неприступностью, строгостью и страстностью. Я говорю это не ради парадокса: именно потому, что он был таким прихотливым и требовательным, мне было легко работать с ним. Мне всегда доставляло гораздо больше удовлетворения работать с этим неприступным человеком, чем с кем-либо из других дирижеров, которых я знал до сих пор. Каждому спектаклю он отдавался целиком и хотел, чтобы все остальные поступали так же. На репетициях он бывал неутомим. Его ум умел охватить все, даже едва постижимые тонкости музыкального произведения. Не было такой проблемы, которой он не мог бы решить, и не было такой самой мелкой детали, которой он мог бы пренебречь. Он обладал способностью наполнить волшебным вдохновением самую невыразительную партитуру и сделать ясным и светлым самый сложный музыкальный текст. Он упрямо и беспощадно боролся с ленью и неумением. Но всегда сразу же выражал свою симпатию и сочувствие, когда видел, что человек хотя бы просто старается от души. Он поощрял таланты, где бы ни находил их. Он был скрупулезно корректен. На спектаклях предельно внимательно следил за тем, чтобы певцы получили свою долю аплодисментов и признательности публики.
Впоследствии наши пути разошлись. Его политические симпатии были мне чужды. Я никогда не мог понять, как он допускал, чтобы его жизнью распоряжались другие. Но я никогда не переставал уважать Тосканини и восхищаться его достоинствами музыканта. Мне всегда приятно вспоминать, что он сохранил один памятный подарок, который я имел случай преподнести ему. Мы жили тогда оба в гостинице «Савой» в Лондоне. Однажды утром Тосканини постучался ко мне в номер и попросил на время щетку для волос – его щетка где-то затерялась. Я охотно выручил его, а потом решил сделать ему подарок. Я вышел из гостиницы и отправился на «Бон-стрит». Там я купил для него самую красивую щетку, какую только мог найти.
Полвека прошло с того первого, неудачного представления «Мефистофеля» в «Ла Скала». Теперь на этой же сцене под руководством Тосканини мы пытались принести повинную автору посмертно. Воспоминание о спектакле, которым открылся Сезон в «Ла Скала» 26 декабря 1918 года, останется совершенно незабываемым. Заглавную партию пел Надзарено де Анджелис, партию Маргариты – Линда Канетти, 3ибеля – контральто Елена Раковская (жена Туллио Серафина). Мы вкладывали в спектакль всю душу. Тосканини, стоявший за дирижерским пультом, освещенный прожектором, был как бы озарен божественным сиянием.
Это был бесконечно волнующий спектакль. Все, кто принимал в нем участие – певцы, музыканты, публика, – чтили память Бойто – патриота, соратника Гарибальди, поэта и композитора. Прошло полтора месяца со дня перемирия, со дня нашей победы, о которой так мечтал Бойто и которую ему не пришлось праздновать. Театр блистал бриллиантами, блестели и слезы на глазах слушателей.
Для меня лично этот праздник имел важные и неожиданные последствия. Тосканини привлек к спектаклю внимание всего мира, а это в свою очередь – внимание Джулио Гатти-Казацца, руководителя «Метрополитен-опера» в Нью-Норке, ко мне. Но узнал я об этом только полтора года спустя.
ГЛАВА XXII
Мой отец по-прежнему был звонарем собора в Реканати. Все эти годы родители следили за моей карьерой с волнением, изумлением и гордостью. Мои успехи убедили, наконец, отца, что пение может дать больше доходов, чем «какое-нибудь хорошее и честное ремесло», вроде ремесла сапожника например, и помогли матушке преодолеть сомнения относительно
того, насколько безнравственно петь за деньги. Это, разумеется, очень верно, что привыкнуть к успеху нетрудно. Но родителям, по мере того как они свыкались с мыслью, что пение тоже может обеспечить спокойную и богатую жизнь, мои успехи помогли расширить их представление о жизни, рассеять разные страхи и познакомиться с большим миром, лежавшим по ту сторону Апеннин.
Вот теперь-то как раз и нужно, решил я, чтобы они увидели своими глазами, как я живу в этом большом мире. В феврале 1919 года я пригласил их в Неаполь на мой дебют в «Федоре» в театре «Сан-Карло». Я испытывал гордость за них, когда, встретив их на вокзале, увидел, как они, несмотря на свой деревенский вид, держатся скромно, но с достоинством. Отец был в своем темно-синем костюме и в подбитых гвоздями сапогах, изготовленных еще лет тридцать назад. Его рубашка из толстой фланели, сшитая матушкой, была застегнута до самого ворота. Конечно, он был без галстука. Матушка и молоденькая сестренка моя были одеты в платья с традиционными плотно прилегающими корсажами и длинными широкими юбками, которые топорщились от бесчисленных нижних юбок. На голове у них были белые платочки, завязанные узелком.
В тот вечер, когда они приехали в Неаполь, я должен был петь в концерте в театре «Политеама». Это был один из концертов, которые организовывала писательница Матильда Серао. Она усадила моих роди– гелей в лучшую ложу бенуара. Когда я пришел к ним в антракте, то увидел, что среди шелка и парчи элегантной неаполитанской публики их необычный вид привлекает внимание. Публика недоумевала, кто это и почему они здесь. А потом произошло то, что глубоко
взволновало меня и что никогда не смогу забыть. Поскольку я сидел рядом с ними, публика поняла, кто это. И тогда вдруг весь зрительный зал поднялся и, обратившись в нашу сторону, устроил моим родителям долгую, восторженную овацию.
Опера «Федора» Умберто Джордано[24]24
Умберто Джордано (1867—1948) – итал. композитор, автор нескольких опер; из последних – «Андре Шенье» неоднократно ставилась и в России.
[Закрыть] впервые была поставлена в театре «Лирико» в Милане в 1898 году, спустя несколько месяцев после премьеры оперы «Андре Шенье» этого же композитора в театре «Ла Скала». Партию Лориса Иванова пел тогда смуглый молодой неаполитанец. На следующее утро его имя было уже у всех на устах: Энрико Карузо.
«Федора» – это драма, рассказывающая о любовных и политических интригах в царской России. Мелодичная и глубоко эмоциональная, как и вся музыка Джордано, опера, казалось, была написана для меня, интересная и сложная партия Лориса давала возможность не только петь, но и играть. И я сумел совершенно перевоплотиться в моего героя. Один из критиков заметил, что после дуэта II акта и большой драматической сцены III акта я плакал так, будто все несчастья Лориса происходят на самом деле со мной лично.
Самый выгодный момент для тенора в этой опере – ария «Любовь тебе не велит...». В первый же вечер я невольно нарушил одно из правил театра «Сан– Карло». Здесь было строго запрещено бисировать. Но публика не давала продолжать спектакль до тех пор, пока я не согласился спеть эту арию во второй раз. Аплодисменты были такими бурными, что я обеспокоился за своих родителей, понимая, что их это должно потрясти и даже испугать.
Когда я пою на бис, я люблю иногда варьировать трактовку арии. Так и тогда – первый раз я спел арию «Любовь тебе не велит» очень изящно и нежно, a mezzza voce. Второй раз мне захотелось спеть ее пламенно и страстно, во всю силу голоса. Мне доставляло особое удовольствие делать это в театре «Сан– Карло»: он отличается прекрасной акустикой. Мое пение на бис так понравилось публике, что после спектакля меня вызывали двадцать раз.
– Помнишь, когда ты слушал меня в последний раз, —ты не узнал меня? – напомнил я отцу. – На мне было шелковое платье, шляпка и зонтик в руках. Помнишь еще студентов из Мачераты? А Анджелику?
– Конечно, – ответил отец, – отлично помню. Я боялся, что не выйдет из тебя толку с этой твоей страстью к театру. – И затем, подмигнув, добавил: – Ну, я думаю, тебе приятно будет услышать, что я признаю свою ошибку.
Из Неаполя я вернулся в Рим, чтобы подготовить две оперы, в которых должен был петь в конце мая в Монте-Карло: «Богему» и «Травиату». Обе оперы стали впоследствии самыми любимыми из всего моего репертуара, поэтому не стану сейчас задерживаться на неприятном воспоминании о сезоне в Монте-Карло. Синьор Рауль Рюнцбург настоял, чтобы в знак уважения к принцу Монако, который сообщил о своем намерении присутствовать на премьере «Травиаты», я включил в знаменитую сцену с тостом еще арию «Небо и море» из «Джоконды», эта нелепая профанация
Верди сама по себе была достаточно неприятна. Но больше я никогда не позволял себе повторить что-либо подобное, испортило сезон и другое обстоятельство: публика начинала расходиться из театра в середине III акта, так что всякий раз мы заканчивали спектакль почти в пустом зале: все уходили играть в рулетку.
Вместе со мной в «Богеме» пела замечательная певица Лукреция Бори, которая вернулась на сцену после пятилетнего перерыва. Партию Жоржа Жермона в «Травиате» пел баритон Маттиа Баттистини. В том унизительном положении, в каком оказались мы, настроение у нас было подавленное, и мы с трудом заставляли себя петь. Есть одно важное обстоятельство, которое сближает оперу с драматическим спектаклем: необходимо, чтобы публика помогала актерам играть, верила в то, что происходит на сцене, участвовала в этих событиях, переживала вместе с исполнителями, то есть вместе с актерами создавала спектакль. И если публика или большая часть ее остается равнодушной, то спектакля не будет, исполнители перестают в таком случае быть героями, героинями и действующими лицами и превращаются просто в группу людей, которые пытаются изобразить на сцене какие-то события. Без участия и помощи зрителей актеры не могут хорошо играть свою роль, как бы они ни старались. Получать деньги за свою игру, как я уже говорил, это еще далеко не все.
В мае 1919 года я отправился в первую заокеанскую поездку. Я должен был петь (пять месяцев) в театре «Колон» в Буэнос-Айресе. В крупных городах Северной и Южной Америки все больше и больше возрастал интерес к оперной музыке. Но в те времена американские певцы не могли, разумеется, своими силами удовлетворить все запросы публики. И это открывало большие возможности европейским импресарио, которые спешили переправиться за океан со своими труппами. Порой в эти труппы включался целый хор, и число участников доходило до пятисот. А так как итальянские труппы никогда не получали субсидий или какой-нибудь другой официальной поддержки, финансовый риск был при этом весьма значительным. Впрочем, в случае успеха солидными бывали и доходы импресарио. Соревнование бывало ожесточенным, все готовы были буквально съесть друг друга, и приемы соперничавших импресарио, старавшихся любыми средствами во всем дискредитировать друг друга и опередить, отвечали только одному закону – закону джунглей.
Я узнал все это на собственном опыте, лично расплачиваясь за все. Маэстро Серафин был официальным художественным консультантом «Бонетти компани», и именно по его совету я подписал контракт с театром «Колон». Однако маэстро и не подумал посвятить меня во все тонкости дела, а я и не подозревал, что нуждаюсь в этом. Побывав в Испании, я решил, что я уже «старичок» в заграничных поездках.
Долгий переезд через океан был очень приятным времяпрепровождением. Вместе с нами на пароходе ехала другая итальянская труппа, которая тоже направлялась в Буэнос-Айрес, только в другой театр – театр «Колизео».
За время пути мы подружились с актерами этой труппы и весело проводили время. Но едва мы приехали в Буэнос-Айрес, как я стал понимать, что мое турне по Испании было просто приятной семейной прогулкой по сравнению с этой поездкой. Допустим даже, что это действительно была страна Эльдорадо – мы зарабатывали очень много, намного больше того, что нам платили в Европе. Но разве это могло объяснить мне, почему артисты из другой труппы, встречая меня на улице, отворачиваются и проходят мимо?
ГЛАВА ХХIII
В Буэнос-Айресе я узнал, как живут в мире капитала. Я быстро освоился там. иначе просто невозможно было. И все же, пока осваивался, получил немало тяжелых ударов.
Первое, с чего началось, это спор с импресарио Бонетти, в котором маэстро Серафин стал на его сторону, ополчившись вместе с ним против меня. Дело в том, что они решили открыть сезон в театре «Колон» тремя одноактными операми Пуччини: триптихом «Плащ», «Сестра Анджелика» и «Джанни Скикки». Это означало, что мой дебют в Буэнос-Айресе пройдет не так, как мне хотелось бы, потому что я вынужден был бы петь малоподходящие для моего голоса партии. Я слишком хорошо понимал, как важно для артиста первое впечатление от его выступления. Кроме того, было и другое обстоятельство: последние годы в театре «Колон» пели самые знаменитые тенора – Бончи, Скипа, Крими, ди Джованни, Пертиле, не говоря уже о Карузо. Публика, думал я, неизбежно станет делать сравнения, и я не хотел, чтобы они были не в мою пользу. Поэтому я отказался петь в «Джанни Скикки», а, точнее говоря, напомнил Бонетти и Серафину об одном пункте в моем контракте, где говорилось, что дебютировать в Буэнос-Айресе я должен в «Тоске» или «Джоконде». Это показалось им недостаточно убедительным. Но условие это было написано черным по белому, и я считал себя вправе требовать от них его соблюдения.
163
Они отомстили мне, как говорится, сполна: не давали петь целых две недели, известие об этом бойкоте, разумеется, вскоре распространилось и доставило немало радости Вальтеру Мокки, импресарио другой труппы, которая давала спектакли в театре «Колизео». Это был отличный повод для Мокки, чтобы высмеять своих соперников. Вдобавок ко всему стали распространяться разные неприятные слухи о моей внешности. Заметки, появившиеся в местной печати не без ведома Мокки, намекали на истинную причину бойкота: Бонетти якобы довольно поздно спохватился, что я слишком толстый и некрасивый, чтобы выступать на сцене театра «Колон». Другие заметки, тоже инспирированные Мокки, намекали на то, что голос у меня посредственный, репутация – сплошной блеф и что я просто боюсь встречи со зрителями и критикой.
Наконец Бонетти снял свое вето и позволил мне выступать. Должен признаться, что на этот раз я долго просидел перед зеркалом, изучая свою внешность со всех точек зрения. Была ли правда, спрашивал я себя, в намеках Мокки? Действительно ли у меня такая смешная фигура и такой смешной вид на сцене? Его подтрунивания задели меня. Клаудиа Муцио, молодая сопрано, которая пела со мной, была необычайно красива. Я чувствовал беспокойство и тревогу, но защищаться мне было нечем. Я мог только вспомнить то, что сказал однажды Пуччини: «Публика забудет о вашей комплекции, как только услышит голос». Мне
оставалось одно – появиться на сцене и начать петь: это было моим единственным оружием.
На следующее утро критики единодушно заявили, что мой дебют был открытием и невероятным успехом, достойным Карузо. И никто из них ни слова не сказал о моей внешности. Вопрос решен, подумал было я. Теперь могу хотя бы какое-то время ни о чем не беспокоиться.
Я решил навестить моего брата Эджидио, который эмигрировал из Италии несколько лет назад и жил теперь в Буэнос-Айресе. Он единственный в нашей семье остался верен отцовскому ремеслу: он был сапожником.
– Нужно отпраздновать, – сказал я ему, – я выиграл сражение!
– С кем? – удивился он.
Я рассмеялся:
– Не знаю точно. Но все равно – я победил!
– Отлично! Я соберу нескольких наших ребят из Реканати – ты же знаешь, тут есть несколько человек, в Буэнос-Айресе, и мы выпьем по стаканчику-другому в «Кантина Фиренце». Это лавка итальянских вин. Подумай только, там есть даже вердиккьо!
Впоследствии, за долгие годы странствий по разным городам и странам, было еще много прекрасных вечеров, которые я проводил со своими соотечественниками-эмигрантами. В подобных случаях я очень часто стыдился за себя и за свои печали. Что значили мои горести по сравнению с трудностями, которые выпадали на их долю, когда они приезжали в чужую страну, где не было ни друзей, ни знакомых? Они тосковали по родине, у них не было специальности, и достаточно
хорошо они узнавали здесь только одно – нужду. Тяжелый, упорный труд, порой унижения – всего этого здесь было в избытке. И все же они всегда умели сохранить хорошее настроение. Их дети могли получить образование и какие-то права, но для них самих жизнь оставалась непрерывным самопожертвованием. Я был горд и счастлив видеться с ними. Я понимал, что они олицетворяют лучшие черты итальянского народа: выдержанность, терпение, трудолюбие, мягкость души и доброту сердца.
Однажды в июне я был в своей уборной в театре «Колон», как вдруг за несколько минут до выхода на сцену (я пел Энцо в «Джоконде») мне доставили срочное известие из Италии: Костанца родила сына! Партию Энцо я пел на дебюте в Ровиго, имя Энцо было связано у меня с самыми светлыми воспоминаниями, и я телеграфировал Костанце, чтобы она назвала сына именем моего героя. Рина и Энцо – моя маленькая семья была теперь в полном составе.
С труппой Вальтера Мокки мы все время были на ножах. Но публика и критика Буэнос-Айреса несмотря на это по-прежнему встречала меня благосклонно. После «Тоски» и «Джоконды», «Богемы» и «Мефистофеля» я спел в конце сезона, в сентябре 1919 года, новую партию – партию Дженнаро в «Лукреции Борджиа» Доницетти.
«Лукреция Борджиа» – одна из самых незначительных опер Доницетти. Написана она в 1833 году и представляет собой типичное посредственное произведение, характерное для периода расцвета бельканто. Либретто оперы написано кое-как, оркестровка банальная, и ясно, что Доницетти больше всего рассчитывал на певцов, которые вдохнут жизнь в его произведение. В опере есть, однако, великолепная ария для тенора – «О безвестном рыбаке...».
Один непредвиденный случай во время премьеры «Лукреции Борджиа» внес комическую ноту и разрядил несколько мрачную атмосферу длинной цепи отравлений и других преступлений, которые составляют сюжет оперы. В IV акте Дженнаро умирает от яда, преподнесенного герцогиней, но напряжение усиливается еще больше, когда она вдруг признает в нем своего сына. Она обнимает его голову и начинает безутешно рыдать: «Сын! Сын мой!». Эстер Маццолени, сопрано, которая пела партию Лукреции, схватила мою голову так страстно, что сорвала с меня парик. Она растерялась и с париком в руках начала медленно отступать к кулисам, продолжая в то же время упорно петь «Сын! Сын мой!». Публика умирала от смеха.
Сезон в театре «Колон» кончился в этом году торжественным представлением «Тоски». На спектакле присутствовали президент Аргентинской республики, члены правительства, дипломатический корпус и сливки светского общества Буэнос-Айреса. Когда я спел арию «Сияли звезды...», публика ответила невероятной овацией и стала настаивать, чтобы я спел ее вторично. В театре «Колон» были свои суровые законы относительно бисов, и я старался не нарушать их. Но волнение в зале нисколько не утихало, и тогда, чтобы не задерживать спектакль, я решил уступить просьбам публики. Я полагал, естественно, что импресарио потом поздравит меня или, по крайней мере, скажет, что доволен успехом. Однако вышло наоборот: к моему величайшему изумлению, он был вне себя от гнева. Так же, как много лет назад Розина Сторкьо, Бонетти обвинил меня в том, что я подкупил клаку. Слушать это было до того обидно, что я в свою очередь вышел из себя, и моему брату Эджидио стоило немалого труда удержать меня, чтобы я не разбил стул о голову моего импресарио.
После этого случая невозможно стало продолжать какие-либо дела с Бонетти. Но у меня был подписан с ним контракт и на следующий год на сезон в театре «Колон», и я оказался в неприятном положении. На другой день я сидел в дурном настроении в своей спальне в номере гостиницы, как вдруг ко мне постучали. Это был не кто иной, как импресарио Вальтер Мокки – конкурент Бонетти. Он примчался ко мне на всех парах, едва прослышав о нашей ссоре с Бонетти. Мокки предложил мне немедленно расторгнуть контракт с Бонетти, чтобы петь в будущем году в его труппе. При всем том, что было раньше – разговоры Мокки по поводу моей внешности, которые немало злили меня, – предложение это казалось довольно странным. Но, как говорится, кто старое помянет, тому глаз вон, и я решил, что дело есть дело. Я предоставил Бонетти и Мокки самим разобраться во всем и подписал контракт с Мокки на сезон 1920 года в театре «Колизео».
Мой брат Эджидио проводил меня на пароход.
– Ну, а теперь, когда ты уже возвращаешься в Италию, что ты скажешь о Новом свете?
– Мне нравится, – ответил я. – Не могу сказать нет, но тут надо иметь крепкую шкуру.