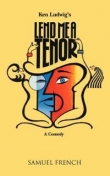Текст книги "Воспоминания"
Автор книги: Беньямино Джильи
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 21 страниц)
ГЛАВА LIV
Рождество я спокойно провел в кругу семьи. Затем выступал некоторое время в «Сан-Карло» и снова сел в поезд. Времени у меня уже оставалось так мало, а сделать хотелось еще так много! Я с удовольствием, если бы это было возможно, побывал в Новой Зеландии, Мексике и Японии. Я хотел бы петь и для даяков, и берберов, и эскимосов. Я обладал дивным даром природы – голосом – и чувствовал, что скоро уже нельзя будет наслаждаться им.
27 января 1952 года я снова пел в Европе. В конце мая уехал в Канаду и в июне-июле выступал там с концертами в разных городах. Вернувшись, я полтора месяца отдыхал в Риме и Реканати и дал за это время лишь несколько благотворительных концертов.
После поездки по Германии, я побывал в Лондоне, чтобы принять участие в ежегодном спектакле для королевской фамилии 3 ноября 1952 года. После спектакля меня представили королеве. Она с очаровательной улыбкой пожала мне руку. В конце февраля 1953 года я снова вернулся в Англию и пробыл там до 13 апреля.
В мой репертуар до сих пор входило пятьдесят девять опер, кантат и ораторий. Теперь я смог наконец округлить эту цифру, когда исполнил «Эзекию», кантату итальянского композитора XVIII века Кариссими. Концерт состоялся в «Ораторию дель Сантиссимо Крочефиссо» в Риме 25 апреля 1953 года.
Затем я выступал некоторое время в Висбадене и Стоккарде и в конце мая участвовал в нескольких представлениях на открытом воздухе в Милане. Давались «Сельская честь» и «Паяцы» в Кастелло Сфорцеско в Милане. С годами мне все больше и больше нравилось изумлять публику этой своей бравадой – исполнять обе оперы в один вечер. И я делал это так часто, честно признаюсь, просто из желания порисоваться и показать себя.
Это лето я провел дома, но выступил с несколькими благотворительными концертами в моей провинции Марке. В середине октября снова уехал на два месяца в Германию и Австрию, побывал в Зальцбурге и впервые после войны увидел Вену.
Январь и часть февраля 1954 года я провел в Специи, Карраре, Местре и некоторое время в Венеции – пел в «Сельской чести» и «Паяцах». Но должен был признаться самому себе, что впервые делал это с некоторым усилием. Я надеялся, что публика этого не заметила. Когда гастроли закончились, я почувствовал, что очень устал.
16 февраля я выступил с концертом в Париже в театре «Шайо», а 20-го уже пел в «Альберт-холле» в Лондоне. Я снова долго ездил по Англии, и этот раз побывал в Йорке. Два месяца провел на Британских островах, месяц в Бельгии, Западной германии
и Швейцарии, и только в конце сентября вернулся в Рим.
Симптомы не оставляли уже никакого сомнения. Я все больше и больше чувствовал усталость. Теперь, если я хотел достойно закончить свою карьеру, следовало сдержать обещание, данное самому себе, – оставить сцену.
Принять это решение было мучительно трудно. Но когда я наконец решил это летом 1954 года, то сразу же почувствовал себя лучше и спокойно стал строить планы прощальных концертов.
Оперу я оставил в то же лето. Многие из последних представлений я дал в родной провинции Марке. Я пел в «Силе судьбы» в Пезаро, Анконе, Фермо и 15 августа – последний раз в «Сельской чести» и «Паяцах» – мне еще удавалось это – на «Арене Беньямино Джильи» в Реканати. Это еще не настоящее прощание, говорил я себе, ведь тут, в этих родных местах, между Апеннинами и Адриатикой, я проведу остаток своих дней. И, ухватившись за эту мысль, я сумел удержаться от слез, когда отвечал на последние аплодисменты.
Однако это было только началом. Предстояли еще прощальные концерты в разных городах и странах. В Лондоне, Лисабоне, Берлине, Копенгагене, я ведь не смогу утешаться так же, как тут: «Я еще вернусь сюда!» Но свою долю лавров и аплодисментов я уже получил, и эти прощальные концерты, от которых у меня разрывалось сердце, относились уже к тому, чем приходится расплачиваться за успех.
Короткие визиты в Германию и Лондон (два исполнения Реквиема Верди и концерт в «Альберт-холле») уже были запланированы на начало осени. Но это, решил я, не может быть прощальным концертом. Слишком дороги мне были верные слушатели в Германии и Англии. Я вернусь к ним позднее, чтобы попрощаться как следует.
Мой первый прощальный концерт состоялся в Амстердаме в октябре 1954 года. В ноябре я ездил с прощальными гастролями по Скандинавии, затем пел в Стокгольме, Гетеборге, Осло, Копенгагене и Аарлборге. Несмотря на грустное настроение, я не мог отказаться от желания познакомиться с новой публикой и поехал в Финляндию, пел в Хельсинки первый и, увы! —последний раз. В конце ноября я пел в Париже, Брюсселе, Антверпене. И всюду звучало: прощайте, прощайте, прощайте!
Рождество я провел дома, но 1 января 1955 года снова был в поезде. Мое прощальное турне по Германии и Австрии началось 3 января во Фрейбурге, 5 февраля я приехал в Берлин и, наконец, 19 февраля в Вену.
Как бы я ни старался, я не смог бы описать эти прощальные концерты во всех подробностях. Воспоминания эти слишком свежи и печальны. Читатель, который, следил за мной до сих пор, легко может представить себе, что я испытывал при этом.
Мои последние выступления в Великобритании начались 25 февраля 1955 года концертом в «Альберт-холле», затем я пел в Глазго, Ньюкастле, Блэкбурне, Ливерпуле, Лейчестере, Стоктоне и, наконец, 20 марта в Манчестере. Мое прощание с Лондоном состоялось 6 марта еще одним и последним концертом в «Альберт-холле». Из Англии я отправился в Португалию, в Лисабон, где в последние годы бывал так часто. Там в конце марта я дал два прощальных концерта.
У осужденного на смерть есть право на последнее в жизни желание. В Соединенных Штатах я не был больше шестнадцати лет. Многие, наверное, уже забыли меня в этой стране. Ведь вчерашний день – достояние мусорного ящика, так что я не уверен был, что мне так уж необходимо попрощаться с Америкой. Но я не забыл американцев, и все больше хотелось спеть для них еще раз. Мне хотелось в последний раз услышать «Мистер Джигли!», хотелось последний раз взглянуть на мой «Метрополитен».
И я снова отправился в Америку. 17 апреля 1955 года я выступал в «Карнеги-холле», а он ведь находился всего в нескольких шагах от квартиры на 57-й стрит, где я прожил когда-то двенадцать лет. Как изменился с тех пор Нью-Йорк! Друзья мои веселились – я же только и делал, что изумлялся на каждом шагу.
В «Карнеги-холл» я выступил еще с двумя концертами – 20 и 24 апреля. В программу последнего концерта – моего прощания с Нью-Йорком – я включил арию «О, чудный край» из «Африканки» (кто-нибудь из публики, наверное, слышал ее раньше, когда я пел ее в «Метрополитен»), арию Оттавио из «Дон-Жуана» и «Плач Федерико» из «Арлезианки» Чилеа. Весь концерт – исполнение, аплодисменты, крики, кашель и все прочее – был записан на долгоиграющую пластинку, и теперь я часто слушаю ее.
Хорошо было бы еще раз увидеть Сан-Франциско, еще раз проехаться, как обычно, по всем городам от Атлантического до Тихого океана. Но я боялся, что после такого длительного путешествия уже не в силах буду дать публике все лучшее, что могу. Поэтому я выбрал гораздо более скромный маршрут.
Из Нью-Йорка я поехал в Хартворд в Коннектикуте, затем в Филадельфию, Торонто, Чикаго, Монреаль, Оттаву, Квебек, Кливленд и Вашингтон. Мой концерт в Вашингтоне 25 мая 1955 года был моим самым последним прощанием – я действительно в последний раз выступал перед публикой.
Ровиго – Вашингтон – круг моей карьеры замкнулся. Я пел в театрах и концертных залах сорок один год!
ГЛАВА LV
Я попытался рассказать здесь как можно точнее все о своей долгой жизни певца. Я рассказал не обо всем и не все о самом себе. Это было бы нескромно, нетактично и, самое главное, скучно, потому что, как я уже говорил, если не считать моего голоса, во всем остальном я самый обыкновенный человек.
Я несколько подробнее говорил о первых годах своей жизни. Это потому, что формирование мое как певца было неразрывно связано с ними. И если в последней части книги личных воспоминаний стало меньше, то потому лишь, что события личной жизни при том немногом, что могло быть в ней, никак не влияли больше на мою карьеру.
Я писал эти страницы несколько безалаберно, довольно торопливо и прихотливо и приводил разные даты и подробности о некоторых спектаклях с тем расчетом, что это может быть полезно исследователям оперы. Но я писал также и о некоторых посторонних, но любопытных вещах для того просто, чтобы развлечь немного рядового читателя. И поскольку я не писатель, я даже не приношу своих извинений.
А теперь я хотел бы воспользоваться этой последней возможностью, чтобы поблагодарить мою публику, всех тех, для кого я где-либо и когда-либо пел. Любой, кто прочтет эту книгу, я надеюсь, поймет, что значила для меня поддержка публики: в известном смысле это было для меня все. Я мог бы, разумеется, петь и в пустыне или так, как поют в ванной, – ради развлечения. Но только благодаря публике эти упражнения для легких, диафрагмы и голосовых связок стали для меня моей духовной жизнью. Словно белка, собирающая на зиму свои ореховые сокровища, складываю я в кладовую своей памяти все аплодисменты моих слушателей.
Я допускаю, что какой-нибудь молодой певец может приободриться, познакомившись с историей моей жизни. Но никому не пожелаю я такого тяжелого пути, каким шел я. Однако думаю, что жизнь моя означает и другое: для того, чтобы иметь успех, не нужны ни деньги, ни знакомства, при условии, что есть настойчивость и, конечно, голос. Я ничего не сказал о методике преподавания пения, потому что в каждом отдельном случае к голосу нужен особый подход. Каждый голос, на мой взгляд, предъявляет свои требования. И, кроме того, есть еще нечто другое, чему никак нельзя научить, – например, природное чувство музыкальной фразировки. Если чувство это не дано человеку от природы, ничто ему не поможет, и любая попытка стать певцом будет лишь напрасной тратой времени.
Верно, конечно, что, когда у меня не было денег, мне очень помогала в первые годы людская доброта. Но не думаю, что это надо приписывать только моей счастливой судьбе. Многие любили меня, потому что им нравился не только мой голос, но также мое упорство, настойчивое стремление своими силами проложить себе дорогу. В мире много добрых людей, и я убежден, что каждый молодой певец должен верить и надеяться на помощь, при условии, конечно, что прежде всего он сам будет готов помочь себе.
В одном только мне особенно повезло – это Реканати. «Что было бы со мной, – думаю я порой, – если бы я, как Карузо, родился в грязном переулке какого-нибудь большого города? Ведь я не был выдающейся личностью и у меня нет такого же большого личного обаяния, которое позволяло Карузо всюду, где бы он ни был, создавать вокруг себя тепло и жизнь».
Я пишу эти строки в моей башенке – это комната на самом верху дома. Отсюда я могу охватить одним взглядом сразу все: собор на площади Реканати, холм Инфинито, виноградники, Адриатическое море, источник моей жизни всегда был здесь, в этой ясной долине. Когда я жил в том большом мире, что лежит за Апеннинами, он придавал мне силы. Теперь же, когда я вернулся сюда, он дарит мне умиротворение и покой.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
О КНИГЕ ДЖИЛЬИ
Имя Беньямино Джильи – одного из самых выдающихся певцов первой половины XX века – хорошо известно советским любителям музыки и кинозрителям. В конце 40-х годов на киноэкранах Советского Союза с большим успехом демонстрировались музыкальные фильмы с его участием: «Не забывай меня», «Ты мое счастье» и «Где моя дочь?».
У нас вряд ли были кинозрители, о которых упоминает Джильи, смотревшие «Не забывай меня» 60 раз, но по 3—5 раз любители хорошего пения на некоторые фильмы ходили: вслушивались, запоминали чудесный голос, богатейшие тембровые краски и проникающую в душу теплоту, эмоциональность, а порой и очень темпераментное исполнение.
Все запомнилось так живо, что появление долгоиграющих пластинок с записью оперы «Паяцы» Леонкавалло с Джильи в роли Канио и относительно большим концертом вызвало у любителей пения огромный интерес.
И в самом деле: как критически ни относиться к механическому воспроизведению человеческого голоса, основные черты использования его красот, умения им владеть, тембрового разнообразия и общего исполнительского характера – главного тонуса искусства того или иного певца – все же достаточно различимы. Не составляет исключения и Джильи. Прежде всего в его исполнении нет вульгарно открытых нот, чем в поисках усиленной выразительности страдают нередко даже очень хорошие певцы. Все звуки его голоса благородны, их эмиссия проста и ясна, атака крайних верхов делается без нажима. Даже отдельные выкрики в драматических местах, как, например, требование у Недды назвать имя любовника («Паяцы»), не выходит за пределы «нотного стана», и для них голос не соскальзывает с основных, хорошо «закрытых» позиций. В то же время почти в каждом звуке слышно волнующее своей искренностью вибрато.
Конечно, питомец неоитальянской школы, к тому же исполнитель преимущественно веристских произведений, Джильи иногда излишне скандирует слова или даже слоги, кое-где «пускает слезу», всхлипывает, что нашему уху и вкусу не всегда приятно, но все это – только в минимальных дозах. Раб своего слушателя, Джильи не всегда был в состоянии бороться за абсолютно благородное исполнение, о чем он красочно рассказывает в связи с попытками обойтись в «Джоконде» без вставного си-бемоль. Местами он злоупотреблял традиционным итальянским «ушеугодием» (Стасов) и непомерно долго задерживался на высоких нотах, демонстрируя великолепное дыхание; кое-где применял не очень оправданные портаменто, иногда по два-три в одной фразе, но в конце концов эти мелочи, отмечаемые только очень придирчивым специалистом-скептиком, нисколько не снижают в целом великолепного исполнения певца. При всех своих новых увлечениях он бережно сохранял в исполнительском багаже все сокровища итальянского бельканто: отличную филировку, мягкое, но полнозвучное, на прекрасном дыхании, пиано, тембрально богатый медиум и даже фальцет. В общем, Джильи – явление выдающееся в певческом мире, и его всесветная слава безусловно заслуженна.
К. С. Станиславский в книге «Моя жизнь в искусстве» вспоминает о пении итальянцев, впечатления от которого «не только задержались» в его слуховой памяти, но и как бы «ощущались физически». Слушая их, он «захлебывался», у него «замирал дух», и «нельзя было удержать улыбку удовольствия». То, что мы слышали с киноэкрана и с пластинок, и то, что констатировала мировая печать даже в тех немногих выдержках, которые Джильи цитирует в своей книге, достаточно веско свидетельствует, что голос певца и его искусство удовлетворили бы Станиславского в такой же мере, как те знаменитости, которых он имел в виду. История бельканто изобилует именами выдающихся исполнителей, плоть от плоти которых и составлял, по-видимому, Беньямино Джильи.
Джильи был прежде всего итальянцем, а о влюбленности итальянского народа в пение достаточно ярко говорят и те факты, которые Джильи приводит, рассказывая о своих встречах с простыми людьми. В капиталистической Италии вдохновителем Джильи на трудный путь певца явился не кто иной, как повар, спасителем от отправки на фронт оказался сержант, акушерки и медицинские сестры поддерживали его в трудную минуту.
К автобиографии Джильи решительно нечего прибавить: он сам очень последовательно ведет читателя по своему долгому жизненному пути. Можно только особо отметить некоторые черты его характера.
Прежде всего Джильи – благородный простой человек, несомненно добрый, скромный, с душой, отзывчивой к чужому горю и в то же время до предела насыщенной любовью к труду, искусству и родине. На многих страницах мемуаров Джильи напоминает читателю, что он от природы получил в дар замечательный голос, но, кроме голоса, во всем остальном он самый обыкновенный, рядовой человек. И в этом смысле его характер не изменился даже в годы его всемирной славы. Разбогатев, живя в невероятной роскоши, он в Америке посещает итальянские кварталы и с восхищением проводит время с итальянцами, не нашедшими на родине применения своему груду и невольно ставшими эмигрантами. Его не смущают неказистые и даже грязноватые таверны, если в них можно посидеть с соотечественниками за кружкой пива или любимого кьянти. Он не чуждается и того повара, который в годы юности и нужды поддерживал в нем веру в будущую карьеру. Именно благодаря своему характеру простого человека Джильи критически относится к развращающей рекламе и клаке. Конечно, с волками жить – по-волчьи выть: приходилось и Джильи прибегать к клаке, чтобы защититься от клак других артистов. И подобная мера вызывала в нем чувство протеста.
От выдающегося певца, который к тому же прошел полный курс учения в академии Санта Чечилия, мы вправе ожидать подробного рассказа о самом процессе звукоизвлечения, о методах, применявшихся его учителями, о сути творческого процесса, к которому его приучали композиторы, аккомпаниаторы и дирижеры с великим Тосканини во главе. Больше того, он пишет: «Стало ясно, какие упражнения подходят моему голосу», «в моей манере петь были некоторые недостатки» и т. д. и т. п., но нигде не расшифровывает этих замечаний. А ведь он учился у выдающихся педагогов с «великим Антонио Котоньи» во главе. Он упоминает, что ему «ставили голос», рассказывает о шестилетием учении, по нигде не затрагивает ни методических, ни специальных технических вопросов. Он утверждает, что не делает этого сознательно, считая, что к каждому отдельному голосу нужен индивидуальный подход, который должен найти работающий над формированием голоса педагог. Это, конечно, эмпиризм, но иного пути себе Джильи не представляет, и это соображение само по себе правильно. Нельзя, однако, не пожалеть, что Джильи по рассказывает о том, как именно его учили, ибо педагоги и исполнители могли бы вывести кое-какие аналогии; выводы из таких аналогий помогли бы ознакомлению с его певческим искусством и, вероятно, хоть частично нашли бы применение в практической работе.
Еще больше можно пожалеть о том, что Джильи очень скупо, скорописью, перечисляет своих партнеров с мировыми именами – певцов и дирижеров– и почти не дает характеристики их исполнения, больше чем нужно уделяя места поведению некоторых из них, иногда не достойному человека вообще, служителя искусства в особенности. И в самом деле, отвратительное впечатление производят рассказы Джильи об интригах артистов, использовании ими клаки, о ссорах из-за поклонов публике, которыми вынужден «управлять» сам директор театра, даже чуть ли не драках не только за кулисами, но и на сцене во время спектакля. Между тем Джильи порой отвлекается от этих неприглядных сторон театрального быта на Западе и в обеих Америках, и тогда в его повествовании появляются фрагменты интересных характеристик, как, например, страницы, посвященные исполнению Ф. И. Шаляпиным партии Мефистофеля в одноименной опере Арриго Бойто. Эти страницы позволяют думать, что Джильи был не только талантливым певцом-актером, но обладал и очень емким художественным видением и умением верно, по достоинству, оценивать высокохудожественные явления.
Часто Джильи говорит о Карузо. Он не виноват в том, что его прочили на место Карузо, сравнивали и ставили то ниже, то рядом. «Я хочу быть Джильи, и только Джильи, я не хочу быть Карузо!» – восклицает он неоднократно и с явной душевной болью. Действительно, знаменитый Карузо, непревзойденный тенор первых десятилетий нашего века, был недосягаемым для теноров эталоном. Джильи по-видимому, понимал, что Карузо был ярким феноменом, о равнении на который можно мечтать, но сравняться с которым совершенно невозможно и никому из теноров так до сих пор и не дано.
Мощь и красота самого звука Карузо, не говоря об остальных достоинствах одареннейшего певца-актера, долгие годы озадачивали. Люди не верили ушам и глазам, ко– гда Карузо, дыша на струны рояля, заставлял их звучать, а стекла в окнах дребезжать.
Карузо интересовал многих ученых физиологов, акустиков и ларингологов, и они получили от певца разрешение исследовать после его кончины его организм. Вскрытие и исследование его гортани и груди дали ошеломляющие результаты. Как свидетельствует французский ученый Рауль Гюссон, гортань Карузо и его «певческая машина» действительно представляли феномен. Длина голосовых связок у певцов не превышает 18—20 миллиметров – у Карузо они имели почти двойную длину, толщина надгортанника превышала басовый. Связь с язычком миндалины, тонкая и гибкая, давала ускоренную вибрацию (эмоционально воспринимаемое тремоло) и обеспечивала огромный диапазон. Хрящевой остов гортани давал необыкновенно «полнокровный» резонанс. Хотя Карузо был среднего роста, он обладал широченными плечами и шарообразной грудью. На расстоянии метра он развивал небывалую у певцов силу звука в 140 децибелов. Эндокринологически он характеризовался повышенной функцией коры надпочечников; это причиняло мигрени, но избавляло от утомляемости. Форте Карузо заставляло партнеров держаться от него подальше. Эти же особенности питали его колоссальную экспрессию, которую ныне принято считать дурным тоном.
О Джильи, который в конце концов унаследовал славу Карузо, мы таких подробностей не знаем. Приходится думать, что таким биологическим феноменом он не был. Косвенно об этом говорит и то обстоятельство, что он долго избегал исполнять те меццо-характерные партии, которые числятся в репертуаре любого тенора средней силы голоса (Канио в «Паяцах», Хозе в «Кармен»), категорически отказывался от «Отелло» и не пел Рауля в «Гугенотах». Скажем попутно, что такая осторожность, – пример, достойный подражания и поощрения, потому что преждевременное включение в репертуар партий, более сильных, чем те, которые легко, без напряжения, преодолевает индивидуально данный голос, нередко приводит к преждевременному его увяданию: «стирается» блеск («металл») тембра, теряется эластичность (гибкость голоса) и к 40—45 годам жизни улетучивается легкость звуковой эмиссии. Вслед за этим приходят все певческие невзгоды: излишнее усилие, детонирование, вольное и невольное форсирование, что ведет к образованию певческих узелков и фибром на связках, частой и порой стойкой их гиперемии. Гортань, и в особенности связки превращаются в locus minoris resistentiae (место наименьшего сопротивления), и малейшее недомогание или заболевание в большей или меньшей степени отражается прежде всего на гортани, проще говоря, на звучании голоса.
Все это азбучная истина, певцы и вокальные педагоги ее отлично знают, но... но очень редко кто не игнорирует ее. Не считая «меньших богов», в памяти автора этих строк до сих пор живут подтверждавшие это правило замечательные тенора Джузеппе Ансельми, А. М. Давыдов, Н. И. Фигнер и другие. Ко времени расцвета физических и духовных сил, когда, по выражению Маттиа Баттистини, «только и приходит певческая мудрость», – они в гораздо большей степени отличались мудростью мастерства, чем голосами. Олли пленяли своих старых слушателей памятью о былом и общей талантливостью – актерской в первую очередь, вызывая в то же время у новых слушателей недоуменный вопрос: а почему, собственно, такой-то стал знаменитостью? Джильи без ложного самолюбия неоднократно объясняет причины своей осторожности и предостерегает молодежь от преждевременных увлечений драматическим репертуаром.
Второй особенностью Джильи была его экстатическая влюбленность в певческий процесс. Она свойственна многим итальянцам. Джильи с упоением рассказывает, как он в детстве пел.
Мы привыкли к рассказам о музыкальных вундеркиндах, талантливость которых становится очевидной с трех-четырех лет. Мы знаем о таких пианистах, скрипачах и даже композиторах. Так например, Камилю Сен-Сансу было только два с половиной года, когда, услышав от уличного флейтиста протяжный звук ля, он «буквально потащил мать на кухню», чтобы доказать ей, что у них «тоже есть флейта». Ею оказался кофейник, который, закипая, паровым свистком издавал ту же ноту. О таких способностях певцов мы читали реже. Правда, знаменитая итальянка Аделина Патти в семь лет исполняла в концертах оперные арии. И. В. Ершова в пять лет нельзя было оторвать от двери в комнату барыни, у которой его мать служила кухаркой, когда барыня играла на рояле. Очевидно, так же рано одержим был музыкой и Джильи. И недаром он в минуты благодушия и подъема, как и в минуты тревоги или раздражения, «отводил душу» («сфого») пением каких-нибудь оперных отрывков. Мало того, когда он отказывался на часть лета от контрактов, чтобы отдохнуть, он часто выступал в благотворительных концертах и пел по ночам на больших площадях, где послушать его собиралось по 40—50 тысяч человек: без пения он не мог жить, без труда для него не было отдыха!
Третья, характерная для многих артистов, особенно итальянцев, черта – отсутствие интереса к серьезному образованию вообще, к изучению истории искусств в частности. Но прирожденное умение мимоходом, на лету усваивать красоту памятников искусства нередко заменяет им специальное изучение живописи и архитектуры. Так и Джильи: ни в юности, ни в зрелом возрасте он не изучал искусств, но достаточно убедительно характеризует как те памятники, возле которых он вырос, так и все то примечательное, что он видел в Новом свете, за океаном. И положительно трогают те строки, в которых он говорит, что, куда бы его ни забрасывала судьба,– в Нью-Йорк или Рио-де-Жанейро, – он всегда носил в душе свою родную Италию. «Без Италии, – заключает певец, – я был бы ничем».
Тут стоит отметить и то, что Джильи в простоте душевной признается в аполитичности, пытаясь этим замаскировать свою политическую безграмотность. Для него Италия остается Италией даже при Муссолини. Он не в состоянии оценить ни то мужество, которое, презирая угрозу физического насилия, проявил Тосканини, отказавшись сыграть фашистский гимн, ни страдания, которые причинила гениальному дирижеру-патриоту вынужденная эмиграция. Но утверждать, что в конце 1935 года он, Джильи, еще не имел представления о зверском режиме Гитлера или, оставаясь после второй мировой войны девять месяцев в своей квартире безвыходно, заявлять офицеру Союзных армий, что он пел «для фашистов так же, как пел бы для большевиков», – значит расписаться в абсолютном непонимании сущности трагических событий, происходивших в Европе. Прикидываясь простачком, кривя душой, Джильи говорит явную неправду, за что и заслуживает сурового порицания.
Но вернемся к пению Джильи. Необходимо отметить, что он учился в «Скола канторум» («Школе певцов»), В музыковедении под этим наименованием известна парижская певческая школа, но в данном случае речь идет не о ней, а о школе в Реканати. В нашем сегодняшнем понимании это хоровая капелла. Чудесных певцов дала миру Сикстинская капелла до начала нашего века; провинциальный детский хор Квирино Лаццарини в Реканати также воспитал ряд хороших певцов во главе с Джильи. Это напоминает о ничем не заменимой важности обучения детей хоровому нению.
Книга Джильи изобилует упоминаниями о его большом и неустанном труде. На вопросы о том, как он себе представляет будущее бельканто, он дает только один ответ: «Все зависит от желания хорошо поработать» (курсив мой.– С. Л.). Его биография – лучшее доказательство справедливости этого утверждения. Необходимо поэтому отметить не только усидчивость и трудолюбие певца, но и темп его работы. Он с удовлетворением упоминает случай, когда ему дали две недели на подготовку новой партии, косвенно доказывая, что это большая редкость. Если учесть общее количество спетых им спектаклей и концертов, уйму времени, которое он терял на бесконечные разъезды, приемы интервьюеров и поклонников, на официальные визиты, домашние дела и встречи с друзьями, плюс недели отдыха и пр., – если все это учесть, то сам по себе факт исполнения Джильи шестидесяти больших и ответственных партий в разных операх свидетельствует о том, что он не только имел хорошую память, но всю жизнь превратил в подвижничество. «Целых четыре месяца, – восклицает он в конце XIX главы, – и ни одной новой партии – это же престо пустая трата времени!» Так Джильи ценил труд, так он мечтал о достижении все новых и новых высот. И это трудолюбие приносило великолепные плоды, в частности, вырабатывало исключительную выносливость. Неустанная тренировка привела певца к тому, что он не задумывался над тем, чтобы утром исполнить в Нью-Йорке трудную партию Васко да Гама в «Африканке» и, еле поспев на поезд, вечером выступить в городе Атланта в главной партии в «Ромео и Джульетте». Вряд ли похвальна такая беспощадная эксплуатация своего певческого аппарата, но достоин зависти и подражания труд по приобретению и развитию таких физиологических и нервно-психических средств.
И все это достигалось артистом при том, что публика зрительных залов в общем была равнодушна в отношении высоких художественных достоинств. Ей важны были в первую очередь высокие ноты. Как свидетельствует рассказ о вставном си-бемоль в арии Энцо в «Джоконде», достаточно его игнорировать и петь так, как написано у автора, чтобы заслуженный успех ограничился вежливыми аплодисментами. Но вот певец уступает и берет си-бемоль, и аплодисменты переходят в грандиозную овацию. Такова театральная действительность на Западе и сейчас...
Отдельными штрихами Джильи характеризует и отношение богатых зрителей к музыке. В Монако они не досиживают до конца спектакля – уходят в середине III акта, как только в залах казино начинается игра в карты. А принц Монакский не находит радости в спектакле без дивертисмента и требует, чтобы в III акте «Травиаты» обязательно исполнялась и теноровая ария из... «Джоконды».
Порицая такие явления, нередко осуждая рекламу и страсть американских и западных артистов к саморекламе, обвиняя прессу в измышлении вульгарных сенсаций, подчеркивая неуважение к критике, Джильи, однако, нигде не говорит о продажности прессы. По его мнению, без рекламы и клаки не может обойтись почти ни один артист; своевременными аплодисментами клака чуть ли не помогает артистам и публике лучше понимать, друг друга. Но он забывает сказать о том, что Ф. И. Шаляпин отлично обходился без клаки и даже объявил ей войну. Цитируя некоторые рецензии, Джильи все же невольно подчеркивает почти бульварный стиль даже серьезных критиков. Очевидпо, стиль, порой вопреки содержанию, отражает характер «американского образа жизни».
Напоминая, что он мало учился, Джильи тем не менее с полным знанием дела неоднократно анализирует разные либретто. В то же время его попытки обобщить кое-какие явления вызывают возражение.