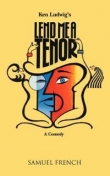Текст книги "Воспоминания"
Автор книги: Беньямино Джильи
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 21 страниц)
ГЛАВА L
Римским критикам, порицавшим мою манеру исполнять Реквием Моцарта, я гораздо больше понравился в «Кармен». Несомненно, они были правы. Никогда еще за всю мою творческую жизнь на сцене ни одна партия не захватывала меня так полно, как партия дона Хозе. Так было, во всяком случае, на генеральной репетиции. Никакая публика никогда не слышала от меня такого исполнения, как в тот раз. Но критики присутствовали на репетиции и некоторые из них – о чудо! – даже плакали.
В тот вечер я чувствовал себя преобразившимся, вдохновенным. Перевоплощаясь в своего героя, я всей душой отдался захватившим меня чувствам. Все в опере было настолько правдиво и так близко страстям каждого, что мне не нужно было играть эту роль. Я действительно был влюблен в Кармен, страдал от любви к ней, меня в самом деле снедала ревность. Между тем настала страшная сцена IV акта, когда дон Хозе просит, умоляет Кармен бежать с ним: «Кармен, но еще есть время...», а она отказывается. Тут я начисто забыл о теноре Беньямино Джильи. Я стал самим доном Хозе. Любовь и отчаяние разрывали мне сердце, убивали меня. Слезы душили, и комок застрял в горле. Я весь дрожал. И наконец упал. Я слишком переволновался и не мог больше петь.
Друзья увели меня со сцены. Несколько глотков коньяка привели меня в чувство. Мне сказали, что все, кто меня слушал, плакали. Кое-как я дотянул репетицию до конца. Но я понял, что существует какая-то грань, за которую певец не может переходить, как бы ни увлекала его партия. Драматическим актерам это, может быть, и не страшно, но певец просто не может петь, когда его душат рыдания.
С тех пор я уже никогда не позволял себе так отдаваться чувствам, как на этой генеральной репетиции. Партию Кармен пела Джанна Педерцини, дирижировал Серафин. Премьера состоялась 23 декабря 1941 года. Опера имела огромный успех.
Контроль над своими чувствами, которому я научился в «Кармен», помог мне несколько месяцев спустя – 7 апреля 1942 года – когда я пел в римском оперном театре в «Паяцах». Ведь партия Канио захва– тывает и волнует так же сильно, как партия Хозе. Наверное, что-то вроде природного инстинкта самосохранения всегда удерживало меня от этой партии. Я отказывался петь эту глубоко драматическую партию (одну из любимых Карузо) еще в «Метрополитен», когда мне предложил ее Гатти-Казацца. Тогда я понимал, что это будет слишком большая нагрузка на голосовые связки. И то, что я теперь решился петь ее, означало, что голос мой стал крепче прежнего.
Из разумной предосторожности и инстинкта самосохранения певцу следует иногда критически относиться к предложениям импресарио. Ведь их всегда интересует только настоящий момент, а певец должен думать и о своем будущем. Не подходящие для голоса партии могут надолго повредить или даже навсегда испортить голос и карьеру. Пример тому – Тоти даль Монте.
В 1918 году, когда я пел с ней в «Жаворонке», у нее был прекрасный голос – великолепное лирическое сопрано, очень подходящее для романтических героинь в операх «Травиата» и «Богема», импресарио Тоти даль Монте убедил ее, между тем, что ее фигура – довольно внушительная —не совсем подходит для ролей хрупких героинь этих опер, и предложил петь в других операх – в «Севильском цирюльнике», «Лакме» и «Сомнамбуле», где героине не обязательно выглядеть истощенной и получахоточной.
Выступать в этих операх для Тоти даль Монте означало, что она должна сильно перегружать свой голос и петь колоратурным сопрано. Действительно, она приобрела всемирную известность именно как колоратурное сопрано. Самая лучшая партия ее – Лючия ди Ламмермур. Но прошли годы, и голосовые связки ее ослабли – Тоти даль Монте не могла больше петь колоратурным сопрано. Ее природный голос – лирическое сопрано – был еще нетронут и не испорчен. Но если импресарио и раньше, лет двадцать назад, не очень охотно предлагали ей партии лирических героинь, то теперь они и вовсе не хотели этого делать. И поскольку импресарио требовали во что бы то ни стало, чтобы она пела Лючию, то все кончилось неожиданно тем, что она раньше времени оставила сцену.
Твердо придерживался я всегда и другого правила – никогда не петь в операх Джоаккино Россини. То обстоятельство, что мы с Россини родом из одной провинции – он родился в Пезаро, это совсем недалеко от Адриатического моря,– нисколько не мешало мне понимать, что его оперы не подходили моему темпераменту. Из всех опер единственное исключение составляет «Вильгельм Телль». Тенор для Россини – это, сказал бы я, просто какая-то разновидность бесхребетного колоратурного сопрано.
Когда организаторы фестиваля «Флорентийский май» попросили меня исполнить Торжественную мессу Россини, я решил, что нет, пожалуй, резона так же упорно отказываться от исполнения его духовной музыки. И все-таки я очень неохотно решился петь эту мессу. Но, согласившись, я, естественно, постарался исполнить ее как можно лучше. И все же я был немало удивлен, когда узнал, что мое исполнение мессы 7 мая 1942 года в театре «Комуиале» во Флоренции побудило критиков буквально осыпать меня самыми лестными комплиментами. Я думал, что Реквием Моцарта я исполнял также хорошо. Однако они его отвергли. А вот в Мессе Россини – я сам чувствовал, что по темпераменту она не очень подходит мне – по их мнению, голос мой звучал божественно.
1943 год принес Италии большие перемены: высадку союзников, свержение Муссолини, перемирие, немецкую оккупацию, партизанскую войну, движение Сопротивления. Я никогда ничего не мог понять в политике и теперь был так ошеломлен всеми этими событиями, что больше всего на свете хотел только одного – спокойно отсидеться в своем Рекапати до конца войны.
Ясно было, однако, что не время считаться с собственными желаниями. Страна раздроблена па части, разграблена: Юг отрезан барьером огня и стали, Милан и Турин подверглись чудовищным бомбардировкам. И всюду, по всем дорогам сел и городов Италии бродила смерть.
Большинству людей в то время было, конечно, совсем не до оперных спектаклей. Во многих городах даже не помнили о существовании театров. «Ла Скала» была разрушена, после пожара от театра остались одни стены. Но именно поэтому должен был жить римский оперный театр. И жизнь поддержали в нем артисты театра – человек сто – и те, что были в тот момент в Риме, и те, что приехали сюда со всех концов страны. Это были люди, чье существование целиком зависело от театра: оркестранты, хористы, рабочие сцены, электрики, рассыльные. Всем им нужен был театр, потому что всем им нужно было кормить свои семьи. Большинство солистов не испытывало финансовых затруднений, но ведь без солистов театр ничего не может сделать. И руководители римского оперного театра обратились к тем солистам, кто находился в это время в Италии, с предложением организовать оперный сезон. Это были Мария Канилья, Тито Гобби, я и некоторые другие. Я не видел причин для отказа.
Таким образом и состоялся в ту трагическую зиму 1943/44 года оперный сезон в «открытом городе». Это был, к тому же, необычайно долгий сезон – как никогда раньше. Он длился более семи месяцев – с ноября 1943 по июнь 1944 года. Залпы артиллерии союзников приближались с каждым днем, а мы продолжали петь.
Трудно было бы, мне кажется, подобрать более неподходящую оперу, чем та, которую мы исполняли 2 июня 1944 года, – «Бал-Маскарад». Спектакль окончился в час ночи 3 июня, а в восемь утра немецкие оккупационные войска бежали из города и через сутки 5-я армия союзников уже входила в Рим.
ГЛАВА LI
Теперь я с изумлением узнал, что я предатель: я «пел для немцев». И обвинили меня в этом не союзники, а сами итальянцы. Разъяренные толпы осаждали мой дом в Риме. Несколько месяцев я не решался выйти на улицу.
Однажды ко мне пришел какой-то английский офицер, чтобы разобраться, в чем дело.
– Конечно,– сказал я ему,– я пел для немцев. Я пел для всех. Для англичан и для американцев. Пел при фашистском режиме. Так же, как я пел бы при большевиках или при другом правительстве в Италии. Не понимаю, причем здесь предательство? Как вы думаете?
Офицер посмеялся и ушел.
Такая неприятная ситуация длилась примерно месяцев девять. К весне 1945 года все как будто успокоилось. Я снова стал выступать перед публикой. 12 марта я пел в театре «Адриано» на концерте в помощь беженцам. Многие потом спрашивали меня: «Когда вы вернетесь в оперу?» Про себя же я думал: «Подожду, пока меня попросят об этом». Ждать пришлось недолго.
5 мая 1945 года, спустя одиннадцать месяцев, я снова пел в римском оперном театре. Давали «Силу судьбы». 10 мая я исполнил в академии Санта Чечилия духовное произведение Россини – «Стабат Матер». В конце июня я пел в «Богеме» в театре «Сан-Карло». Тогда я впервые увидел засыпанный бомбами, измученный войной Неаполь. В июле в Риме я пел в «Паяцах» и выступил с концертом в помощь партизанам. В августе я первый раз побывал в Сардинии и пел в «Богеме» в Кальяри.
Театр «Беллини» в Катании – это, на мой взгляд, самый красивый оперный театр в мире – красивее даже театра «Ла Фениче» – и в нем самая совершенная акустика – лучше даже, чем в «Сан-Карло». Окраска этого театра и его пропорции столь совершенны, что я никогда не мог вдоволь насмотреться на них. И всякий раз для меня было огромным удовольствием выходить на сцену этого театра.
Я выступал несколько раз в театре «Беллини» в апреле 1945 года, затем вернулся туда осенью и пел 8 ноября партию Паолина в прекрасной опере Беллини «Норма». Партия эта не очень подходила моему голосу, но тут я не стал отказываться от нее и охотно предоставил все лавры Марии Канилья. Петь в опере Беллини в его родном городе, и к тому же в самом замечательном, самом любимом оперном театре, – одно это уже было для меня счастьем. Прошлое было уже далеко. Я чувствовал, что примирился с самим собой и со всем миром.
Война окончилась, и мир, похоже было, вспомнил обо мне. Стали приоткрываться границы, и приглашения посыпались со всех сторон. Мне очень хотелось снова встретиться со своими старыми слушателями в других странах. Но судьбе угодно было, чтобы мои первые гастроли после войны прошли в стране, в которой я никогда не был раньше, – в Португалии. Май я провел в Лисабоне. Я пел в театрах «Сан-Карлос» и «Риволи» в операх «Сила судьбы», «Друг Фриц», «Норма» и «Манон Леско». Затем после нескольких спектаклей в Мадриде я уехал на месяц в Швейцарию – выступал там в концертах и оперных спектаклях.
Летом удалось выбрать немного времени и для того, чтобы отдохнуть в Реканати. Война пощадила мой дом, но за мое отсутствие в нем побывало слишком много гостей, в том числе войска союзников, которые, по-видимому, принимали его за какую-то местную достопримечательность, интересную для туристов.
Я рассчитывал, что смогу спокойно отдохнуть летом, а если буду выступать с каким-нибудь концертом, то только в Реканати. Однако вскоре я получил приглашение, которое никак не мог отклонить. Оно пришло из Мачераты, из того самого театра «Лауро Росси», который сорок один год назад дал мне случай попробовать свои силы на сцене, дал мне первую публику и первые аплодисменты. Это был театр, в котором я пел свою первую партию – партию Анджелики.
В конце августа я снова был в Испании. Если не считать моего краткого пребывания в Мадриде в этом же году, то я не встречался с испанской публикой еще со времени моего первого заграничного турне в мае 1917 года. В этот раз публика была настроена не так сурово, как тогда. Честно говоря, аплодисменты были такие бурные и такие восторженные, что я почувствовал себя просто тореадором на арене. Я постарался отблагодарить слушателей за этот восторженный прием. Тогда-то именно и решился я на то, на что никогда не отваживался раньше и чем особенно горжусь: в Бильбао, Барселоне и затем снова в Мадриде я пел в один вечер сразу в двух операх – в «Сельской чести» и «Паяцах». Эти оперы довольно часто даются в один вечер и в Италии их даже называют поэтому «пиво и газированная вода» – эти напитки очень хорошо пить вместе. Но думаю, что никто и никогда не слышал еще о теноре, который пел бы в этих операх в один и тот же вечер.[46]46
Это замечание неверно. В России многие тенора исполняли обе партии в один вечер.
[Закрыть] Руководители театров и импресарио были немало обрадованы этой моей выдумкой. Ведь я экономил их деньги – пел за ту же плату сразу в двух операх.
В Испании я пробыл полтора месяца, а затем в начале ноября 1946 года поехал в Англию. Вместе с дочерью Риной я пел там в «Богеме» в «Ковент-Гардене». Затем я отправился в длительное и удачное турне: Мидландс, Манчестер, Дублин. Меня встретили и приветствовали с удивительным благородством, без малейшего упоминания о проигранной нами войне. Если и есть на старости лет какие-нибудь радости у людей, то, думается мне, самая большая – это когда можешь насчитать много старых друзей.
ГЛАВА LII
1946 год завершился успешными выступлениями в «Альберт-холле» и «Ковент-Гардене». 1947 год начался хорошим предзнаменованием – я вернулся в «Ла Скала», восставшую из пепла, словно Феникс, и пел там в «Андре Шенье» и в «Лючии ди Ламмермур».
Мне было уже пятьдесят семь лет, но я чувствовал себя еще полным сил и был уверен, что могу петь еще несколько лет. При первом же признаке напряжения или усталости я попрощался бы с театром. Я твердо решил уйти со сцены раньше, чем голос мой ослабеет. Хотелось, чтобы публика помнила меня таким, каким я старался быть всегда, – полным сил. Такое «долголетие» тенора – это своего рода феномен.[47]47
Итальянец Мазини, француз Ибос, украинец Г. Супруненко пели не менее долго.
[Закрыть] Но я знал также, что удача и осторожность, которыми это объяснялось, не могут долго спорить с неумолимыми законами природы. Я еще не собирался уходить со сцены, но должен был помнить, что это уже не за горами, что начался последний этап моей карьеры.
Чувствовать себя единым целым с публикой – вот что было для меня самым дорогим всегда, всю мою долгую жизнь певца. И я решил, что в те годы, которые еще проведу на сцене, это по-прежнему будет моей самой высокой целью. Я решил, что не буду готовить больше новых партий (ну, может быть, разве еще одну – тогда бы на моем счету была бы круглая цифра: шестьдесят опер, месс и ораторий), а сосредоточу все внимание на совершенствовании своих прежних партий – ничто ведь не бывает абсолютно совершенно, – чтобы петь как можно чаще новым и старым слушателям. Мне хотелось, чтобы как можно больше людей слушало и помнило меня.
Следующие восемь с половиной лет я столько путешествовал, что любой рассказ об этом больше всего походил бы, пожалуй, на железнодорожное расписание. Но поскольку всегда находятся читатели, которым нравится и такая «литература», я все же попробую рассказать вкратце и об этом времени.
В середине февраля 1947 года я отправился на две недели в Лисабон и пел там в театре «Колизео», затем выступил с концертом в Опорто и на месяц уехал в Меланию. В середине апреля я был уже в Швейцарии – две недели концертных поездок по всей стране – и затем уехал на пять месяцев в Южную Америку, где не был с довоенных времен.
В поисках новых слушателей я побывал и в новых местах – это Ла Плата в Аргентине, Порто Аллегре в Бразилии и Монтевидео, много пел по радио и выступал с множеством концертов.
Долгое обратное путешествие в Италию заменило мне отдых. В середине ноября 1947 года я снова был в пути: меня ожидали концертные гастроли в течение полутора месяцев по Англии, Шотландии, в Париже, Брюсселе и Антверпене, двухнедельная поездка по Швейцарии... И даже для любителей железнодорожных расписаний я не в силах перечислить все города, в которых приходилось выступать. Не составит также никакого интереса перечисление всех бисов и оваций, выпавших на мою долю за это время. Читатель, следивший за мной до сих пор, легко может представить их себе. Я только хочу сказать, что их всегда было достаточно. Иногда я тревожился: не начинаю ли надоедать публике, нет ли каких-нибудь следов diminuendo в общем оркестре аплодисментов? Ничего подобного я не замечал.
готовясь к следующей гастрольной поездке, я дал несколько благотворительных концертов в Риме и выступил в нескольких представлениях «Тоски» в «Сан-Карло». 19 февраля 1948 года я открыл сезон в Лисабоне оперой «Манон», 6 мая закрыл его «Любовным напитком».
Затем я опять переправился через Атлантический океан и 19 мая снова пел в театре «Колон». Пел в основном, как всегда, в Буэнос-Айресе, Рио-де-Жанейро и Сан-Паоло. Но в этот раз побывал и в новых городах; был рад снова встретиться с публикой Ла Платы и Монтевидео, познакомиться с публикой Сантьяго дель Силе.
Когда спустя девять месяцев, в ноябре 1948 года, я вернулся в Рим, меня ожидали печальные известия. Скончались два моих дорогих и замечательных друга. Я мог только почтить их память. Концерт памяти Умберто Джордано состоялся 14 декабря в Академии Санта Чечилия. Я пел «импровизацию» из его оперы «Андре Шенье», которую так люблю. 28 декабря мы почтили память Пьетро Масканьи в «Альберто Плаца», где он жил последние годы. Военный оркестр исполнил увертюры из всех его опер, а я пел прекраснейшую арию «Прикрывши голову белым крылом», арию Фламмена «Ах, вновь найти ее...» из «Жаворонка» и «Прощание с матерью» из «Сельской чести».
1949 год начался для меня выступлением в «Манон» в «Сан-Карло». Затем я две недели гастролировал в Швейцарии, две недели в Бельгии и Голландии, почти два месяца в Англии и Шотландии, дал два концерта в Париже в театре «Шайо», съездил в Марсель и Монте-Карло и, наконец, отдохнул немного в спальном вагоне, который привез меня в Стокгольм. Потом я пел еще в Гетеборге, Осло, Аргусе, Одензее и Копенгагене. Таким образом мое желание расширить свою аудиторию было в какой-то мере удовлетворено, и я уехал отдохнуть в Реканати.
ГЛАВА
ГЛАВА LIII
10 августа 1949 года я пел в «Сельской чести» и «Паяцах» в Термах Каракаллы; прошло почти день в день ровно десять лет с тех пор, как я пел там в последний раз – в августе 1939 года. Казалось, что ничто не изменилось здесь, все было так же, как тогда: олеандры, безбрежное море лиц, нежный аромат летней ночи. Война побывала здесь и ушла, но очарование Терм Каракаллы не исчезло.
Сентябрь и октябрь 1949 года я посвятил длительному турне по Британским островам. Я выступил также с концертом по радио и телевидению «Брод– кастинг Бритиш Корпорейшен». Это было мое первое выступление по телевидению. Рождество мне удалось наконец спокойно провести дома.
В следующем году я побывал на новом для меня континенте – в Африке. Путешественник поневоле, я не расположен был заниматься туризмом. И все же с удовольствием посмотрел пирамиды. Февраль и половину марта 1950 года провел в Каире и Александрии – выступал с концертами и пел в «Лючии ди Ламмермур», «Любовном напитке», но не в «Аиде»!
Вернувшись из Египта, я снова отправился с концертами по Европе. Начались они в Цюрихе. Свои шестьдесят лет мне пришлось отметить в поезде где-то в Германии. Затем я побывал в Дании, Швеции, Норвегии, Голландии и 15 апреля закончил турне в Берлине.
Я не был в Берлине уже восемь лет и теперь с некоторым беспокойством возвращался туда. В Берлине всегда была такая великолепная публика. Я боялся, что получу психическую травму, когда увидел развалины этого огромного хорошо знакомого города.
Одна за другой тянулись пустынные, безлюдные улицы с остовами разрушенных домов – это было необычайно страшно, страшно, как апокалипсис. И все же я уехал из Берлина полный бодрости, а не отчаяния. Разрушенные дома поразили меня гораздо меньше, чем бодрость и мужество берлинцев. Как ни был разрушен город, как ни пострадал он от пожаров и бомбардировок Берлин все же не стал просто грудой развалин. Это по-прежнему был город, потому что у него всегда были и есть его граждане.
Врач мой стал беспокоиться по поводу моей непрерывной деятельности. В шестьдесят лет, говорил он мне, пора бы уже образумиться и вести более спокойный образ жизни. Поэтому я отказался от поездок за границу, но вовсе не собирался сидеть все лето в Италии без дела. Я пел в Риме Реквием Верди и в «Травиате», во Флоренции – в «Любовном напитке» во время фестиваля «Флорентийский май». В Реканати я снова организовал свое «Музыкальное лето» и пел в четырех представлениях «Любовного напитка» на открытом воздухе. В августе 1950 года впервые после войны я пел в летнем сезоне на открытом воздухе на Арене в Вероне – там ставили «Силу судьбы».
Осенью я намеревался выступить с концертами на Британских островах, но мне удалось дать только один концерт в Блэкпуле 1 октября. Остальные концерты отменили, потому что я сильно простудил горло, и пришлось немедленно вернуться в Италию. Два месяца я не мог петь. Ничего подобного никогда не бывало со мной раньше. Я был совершенно подавлен этим.
В феврале 1950 года я выступал в «Сан-Карло» в Неаполе. Оттуда я собирался отправиться в Читта дель Капо. Мое южноафриканское турне должно было начаться в конце марта, и я думал отправиться туда морем. Я никогда еще не летал самолетом и не хотел в этом смысле изменять своим правилам.
9 февраля, когда я пел в «Друге Фрице» в «Сан-Карло», у меня снова заболело горло. Я пытался как мог довести спектакль до конца, но внезапные приступы боли почти парализовали меня, и в конце концов я потерял сознание. Меня немедленно отправили в больницу и тотчас же сделали операцию, которая оказалась успешной. На полтора месяца мне запретили двигаться. Да это время в больнице все хорошо узнали трагикомическую фигуру импресарио, который организовывал южноафриканские гастроли. Он в полном отчаянии бродил по коридорам. Наконец врачи заявили, что меня можно выписать из больницы.
– Слава богу! – воскликнул импресарио. – На самолете мы еще успеем.
– На самолете?! – воскликнул я в ужасе. – Разве для этого хирурги спасли мне жизнь?
Тогда импресарио, стараясь убедить меня, стал рисовать мне, какие ужасные вещи произойдут в Южной Африке, если я задержу свой приезд, и пустил в ход такую изощренную фантазию, о существовании кото рой у него я даже не подозревал никогда.
Но не столько его красноречие, сколько мое собственное желание не создавать никаких трудностей и не откладывать гастроли заставило меня в конце концов победить свой страх перед самолетом. В сопровождении импресарио и врача полетел я в Иоганнес-бург– и как раз вовремя, чтоб успеть на первый концерт, как было условлено. Он должен был состояться 29 марта.
Затем я пел в «Тоске» и «Травиате» в «Театре его величества», две недели выступал с концертами в Читта дель Капо, Претории и Дурбане. В Дурбане я пробыл еще две недели – пел в «Травиате» и «Богеме». Эта поездка по Южной Африке очень понравилась мне, и я мог только радоваться за себя, что у меня нашлось мужество сесть в самолет.
– Нет, – сказал мне врач, когда я вернулся в Италию, – думаю, у вас не может быть никаких причин менять свои планы. Вы окончательно поправились.
– Четыре месяца в Южной Америке не повредят мне?
– Ну, – ответил он, улыбаясь,– а что бы изменилось, если бы я сказал да?
Я приехал в Буэнос-Айрес 1 мая 1950 года. После нескольких концертов в этом городе и нескольких спектаклей «Андре Шенье» в Монтевидео я отправился в Бразилию, где должен был провести, как было условлено, большую часть времени. Месяц выступал я в муниципальном театре Рио-де-Жанейро. В это же время выступал и с концертами, и пел не только в Рио-де-Жанейро и Сан-Паоло, но также в новых для меня городах – Сантосе, Куртибе и Бела-Оризонте. Когда же 29 октября пароход увозил меня из замечательного порта Рио-де-Жанейро, помнится, я долго стоял на борту, глядя на берег. Мне было почему-то очень грустно. Должно быть, чувствовал в глубине души, что выступаю перед южно-американской публикой в последний раз.
С парохода, который привез меня из Южной Америки, я сошел как раз вовремя, чтобы успеть на мюнхенский поезд и на концерт 15 ноября 1951 года. После войны это была моя первая концертная поездка по новой германии. Если не считать недолгого пребывания в Берлине и того, что я мог увидеть из машины или из окна поезда, то должен сказать, что я еще ничего не знал о новой Германии. Теперь же гастроли привели меня в Стоккард, Гейдельберг, Карлсруэ, Гамбург, снова в Берлин и затем в Киль, Франкфурт, Мюнстер и, наконец, в Иннсбрук. С огромным изумлением смотрел я на те большие перемены, которые произошли в стране, и единственное, что утешало меня и обнадеживало, – это любовь и восторженность, с которой публика встретила мое возвращение.