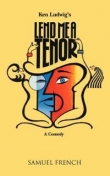Текст книги "Воспоминания"
Автор книги: Беньямино Джильи
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц)
ГЛАВА VI
Вечером я вернулся домой все еще сильно расстроенный и нашел Катерво в прекрасном расположении духа. Подобное веселье в такой ситуации говорило о полном отсутствии всякого понимания и сочувствия. По его загадочным намекам и улыбкам я понял наконец, что у него есть какая-то новость, и ему хочется помучить меня. Но мне было совсем не до шуток.
– Ну и держи свою новость при себе! – заявил я.
– Хорошо, – ответил Катерво, – но тогда тебе придется сказать профессору ди Стефани, что ты не придешь на прослушивание.
– На какое прослушивание?!– завопил я.
– В воскресенье днем, у него дома, – спокойно ответил Катерво, явно довольный собой. – Он будет ждать нас. Я говорил ему о тебе в академии. Да ты знаешь его хорошо. Это Пьетро ди Стефани. Скульптурой он занимается только для развлечения. А вообще это один из лучших преподавателей пения. Я простить себе не могу, что не вспомнил о нем раньше! Должно быть, потому что он намного старше меня. И вообще у нас как-то не заходила речь о пении. Сегодня я понял, что должен что-нибудь сделать для тебя, иначе ты совсем упадешь духом. Он сказал, что ему не терпится послушать тебя. Ну как, ты доволен?..
В следующее воскресенье мы чинно звонили в квартиру профессора ди Стефани на виа Чичероне. (Между прочим, в Италии всякий человек, который что-нибудь преподает, называется профессором.) Ди Стефани принял нас как-то преувеличенно дружелюбно. К моему огорчению, сначала целый час пришлось смотреть его скульптуры, которые абсолютно не интересовали меня. Это время он ни словом не обмолвился о том, ради чего мы пришли. Я чувствовал себя просто несчастным. Казалось, что он и думать забыл о моем голосе. И вдруг ди Стефани положил свою пыльную тряпку на мраморную группу, представлявшую четырех из девяти муз (остальные пять, объяснил он, появятся, как только у него будет новая, более просторная квартира) и произнес невероятное:
– А теперь, мальчики, оставим одну музу и перейдем в объятия другой. – И затем добавил более определенно: – Пойдемте к роялю.
Сначала он велел мне спеть несколько гамм, затем попросил пропеть отдельные ноты на выбор и, наконец, предложил спеть все, что я захочу из моего репертуара. Я спросил у пего шутки ради, какие именно мессы он предпочел бы услышать... Так или иначе, он слушал меня часа два и не сделал за это время ни одного замечания, если не считать нескольких невнятных «браво!». А затем, не обращая на меня никакого внимания, он повернулся к Катерво и с волнением – похоже, очень искренним – сказал ему:
– Знаете, милый Катерво, такого я никак не ожидал услышать! У вашего брата лирический тенор поразительной красоты. Было бы преступлением не ,заняться этим голосом.
– Мы знаем это, – как пи в чем не бывало заявил Катерво. – Именно поэтому мы пришли к вам. Но горе в том, что мы очень бедны.
Профессору почему-то понадобилось слегка откашляться, прежде чем ответить. Затем он вдруг очень живо и деловито сказал (такая быстрая перемена его настроения несколько смущала меня):
– Да, конечно, я все понимаю. Ну, поскольку это ваш брат, я могу заняться с ним на особых условиях: двадцать лир в месяц вместо тридцати. Обычно я беру тридцать лир. Но я идеалист, вы понимаете... Мне нравится растить будущее. – Он сделал небольшую паузу, для того чтобы мы осознали все как следует, и добавил: – Кроме того, было бы немалой честью ставить такой голос.
Не зная, на что решиться, я предоставил Катерво вести переговоры. Я конечно, не мог придумать, откуда возьму двадцать лир в месяц, чтобы платить за уроки. Разве что из тех шестидесяти, которые были у меня на еду! Но я ведь и так чуть не умирал с голоду! А Катерво, между тем, уже договорился с профессором. Потом он объяснил мне:
– Я знаю, что мы не можем позволить себе это. Но тебе просто необходимо начать занятия. Ничего, что-нибудь придумаем!
Странное поведение профессора насторожило меня, и я довольно скептически отнесся к нему. Но Катерво заверил меня, что это один из самых авторитетных преподавателей пения и что он никогда бы не стал хвалить голос, если он ему действительно не нравится. Думаю, что ди Стефани и в самом деле был хорошим преподавателем, но у меня сохранилось лишь смутное воспоминание о том, чему я научился у него за те два месяца, пока он занимался со мной. Три раза в неделю я приходил к нему в девять вечера – ведь днем я был занят. Чтобы платить за уроки, я вынужден был лишить себя вечерней порции «пеццетти». Катерво тоже нелегко приходилось, и я отказался делить с ним его скромную долю. Четыре вечера в неделю, когда занятий не было, я прибегал к помощи моего друга повара, но зато в те дни, когда мы по вечерам занимались, я голодал.
Я подумал сейчас, что читателя может шокировать столь частое упоминание на этих первых страницах
о еде. Это может показаться не слишком романтичным для начинающего певца. Но рассказ о моей молодости не будет правдивым, если я не упомяну в нем о голоде. Мне страстно хотелось петь; но мне надо было и что– то есть: без этого ведь не обойтись.
После работы в аптеке я спешил прямо на квартиру к профессору. Желудок мой был пуст, а на пороге меня встречал одурманивающий аромат тушеного мяса или томатного соуса: у профессора в это время обычно кончали ужинать, иногда мне предлагали чашечку кофе. Профессор приветствовал меня увесистым шлепком по спине, отчего голова моя начинала кружиться еще до начала урока.
Я не считаю, что был героем, когда переживал это голодное время. И все же я понимал, что не добьюсь никаких успехов в занятиях, пока буду ходить голодный и истощенный. И вся эта затея с уроками казалась мне поэтому лишенной смысла и была, на мой взгляд, пустой тратой денег. В то же время я чувствовал, что не могу сдаться просто так, то есть не могу совсем бросить занятия пением. Поэтому я стал думать, как бы найти какой-нибудь выход из положения. Я начал усваивать поговорку: «На бога надейся, а сам не плошай».
Тогда-то и произошли в моей жизни два важных события, одно вскоре после другого. Понимая, что я дошел до предела, то есть обрек себя на медленную, хотя и благородную, голодную смерть, я навсегда распрощался с аптекой и нанялся лакеем в дом графини Спаноккья, которая оказалась родом из моей провинции Марке. А Катерво вскоре нашел мне другого преподавателя пения, который согласился заниматься со мною в долг.
Должно быть, именно в подобной ситуации биографы обычно восклицают: «С тех пор ему всегда удавалось кое-как сводить концы с концами». По правде говоря, мне никогда больше не приходилось испытывать такое сильное чувство подавленности, как в то время, когда я работал в аптеке и занимался у ди Стефани. Мне было уже восемнадцать лет. Теперь я сам зарабатывал себе на жизнь и непрерывно – до самого моего дебюта, который состоялся шесть лет спустя, – занимался пением.
Некоторым молодым певцам шесть лет занятий могут показаться слишком долгими, но я и сейчас считаю, что они совершенно необходимы. Я всегда был глубоко благодарен всем моим преподавателям, которые не только поставили мне голос, но и научили меня терпению. Сначала я думал, что двух-трех лет занятий будет достаточно, но как только я начал заниматься серьезно, по всем правилам, я понял – целой жизни не хватит, чтобы изучить все, что нужно. Теперь, когда я ушел со сцены, меня часто спрашивают, что я думаю о будущем бельканто. У меня есть только один ответ на этот вопрос: все зависит от желания хорошо поработать. Каждое поколение певцов дает свои голоса, отличные от других. Но если молодые певцы не готовы посвятить занятиям шесть-семь лет, бельканто придет в упадок.
Графиня Спаноккья жила на площади делле Тартаруге (площади Черепах). Она называлась так потому, что в центре ее был фонтан, который держали на своих спинах четыре маленькие черепахи. Черепахой графиня называла и меня, потому что я был очень неповоротлив в работе. Спал я в каком-то чулане под лестницей, но есть мне, зато разрешалось все, что угодно. В доме было еще пятеро слуг, кроме меня, и по возрасту я был самым младшим. Я чистил обувь, выполнял разные поручения, помогал мажордому накрывать на стол. Нельзя сказать, что это была изнурительная работа. О графине у меня сохранились благодарные воспоминания. Она никогда не сердилась и была из тех женщин, которые из всего умеют сделать забаву. Сколько раз она ловила меня на том, что кончики моих белых перчаток, в которых я обслуживал гостей, выпачканы в соусе или подливке: пока я нес какое-нибудь блюдо из кухни в столовую, у меня невольно текли слюнки, и я не мог удержаться, чтобы не попробовать его по дороге. Конечно, было очень стыдно, когда она уличала меня, но графиня только смеялась при этом.
Такая работа вполне устраивала меня, несмотря на мизерное жалование. Графиня очень интересовалась моим голосом и каждый день освобождала па два часа для занятий пением. Забот я теперь не знал никаких. У меня было жилье, меня кормили, даже одевали. Все, что мне надо было еще, это немного денег на мелкие расходы, а на это как раз хватало моего жалованья.
Катерво нашел мне преподавателя пения, который проникся такой верой в мой голос, что согласился ждать неопределенное время, пока я расплачусь с ним. Теперь я мог, по крайней мере, написать родителям, что устроился и делаю кое-какие успехи. Хотя Катерво, приличия ради, и сожалел о том, что кончилась наша богемная жизнь, я заметил, что теперь, когда отпали заботы обо мне, он стал больше заниматься.
Преподаватель мой оказался женщиной, и звали ее Аньезе Бонуччи. Муж ее был судебным чиновником, так что ей не приходилось рассчитывать в жизни только на свои доходы от уроков. И все же это было необычайно благородно с ее стороны – просто так тратить уйму времени на какого-то совершенно чужого и незнакомого человека. Целых два года почти ежедневно она занималась со мной. Она любила музыку, но несколько рассудочно. Её вера в меня помогла мне раз и навсегда поверить в себя, а это чрезвычайно важно для любого певца. Она сумела вселить в меня такую уверенность, что с тех пор я никогда больше не поддавался панике и не терял присутствия духа. И – что еще важнее – ее метод преподавания отлично подходил мне: у нее вообще не было никакого метода. Точнее это можно объяснить так: поняв однажды, что все голоса разные и что к каждому нужен особый подход, она никогда не пыталась навязывать мне какие-нибудь строгие правила или приучать к какой-нибудь дисциплине. Она преподала мне основные правила владения голосом и после этого решила, что больше меня ничему учить не надо. Направляя меня, она как бы вторила мне, порой казалось, что она сама следует за мной, а не я за ней. У меня было ощущение, что я больше повинуюсь каким-то своим инстинктам и своему голосу, чем какому бы то ни было учителю. Разумеется, я только позднее понял, что это и был самый превосходный метод преподавания.
ГЛАВА VII
Перебирая в памяти былое, я с трудом припоминаю сейчас какие-нибудь неприятные истории, когда приходилось бы сталкиваться с завистью или злобой. Ведь на долю певцов это выпадает особенно часто, и в общем это тоже своего рода расплата за успех. Но такие вещи лучше и не вспоминать, гораздо больше храню я благодарных воспоминаний, и особенно о тех, кто помогал мне в ту пору, когда я был беден и никому не известен. Должно быть, люди в основном добры, когда для этого есть подходящие условия. А может быть, просто мне очень везло. Разумеется, мне очень повезло, например, что я узнал полковника Дельфино.
Сейчас объясню. Целый год я спокойно работал у графини Спаноккья и благодаря занятиям с синьорой Бонуччи сделал большие успехи в пении. И вдруг меня призвали на военную службу. Я пришел в ужас – ведь это на целых два года! Вообще-то, если разобраться, это выпадает на долю каждого итальянца нормального телосложения, но я как-то не думал никогда, что меня это тоже ждет. И теперь это меня убивало, потому что я больше всего боялся прервать занятия пением. Я надеялся даже, что произойдет, может быть, какая-нибудь ошибка, и военное министерство не станет заниматься моей скромной особой. Однако вот он – жалкий клочок серой бумаги, в котором мне предлагают явиться в такой-то день в такую-то казарму. Оттуда меня непременно пошлют в Сицилию, или на границу с Францией, или еще куда-нибудь, где и думать не придется ни о каких занятиях пением. А ведь я и так уже потерял столько времени. В отчаянии я попросил графиню Спаноккья помочь мне как-нибудь. Графиня послала меня с запиской к полковнику Дельфино в штаб гарнизона на виа Паолина.
– Хорошо, – сказал полковник, прочитав записку. – Спой-ка мне что-нибудь.
Я удивился, но приободрился. Петь – это гораздо проще, чем говорить. И я спел ему «Сердце красавицы», арию, которая хоть и стала совсем избитой, все же остается одной из лучших у Верди и дает тенору все возможности показать свой голос.
– Хорошо, – сказал полковник деловито, когда я окончил. – Я предлагаю вот что. Можешь отслужить свой срок в Риме, но при одном условии – обещаешь мне ложу бенуара на свой первый спектакль в театре «Костанци».
Театр «Костанци» был и до сих пор остается крупнейшим оперным театром Рима. В последствии он стал называться Королевским оперным. Некоторое время я стоял в полном замешательстве, не говоря ни слова. Затем полковник рассмеялся. Вместе с ним рассмеялся и я.
– Слушаюсь, господин полковник, – радостно ответил я и впервые в жизни попытался отдать честь.
Шесть лет спустя, когда мне было уже двадцать пять лет, я в первый раз пел в театре «Костанци» партию Фауста в «Мефистофеле» Бойто. Накануне спектакля я отправился в штаб гарнизона и вручил полковнику Дельфино ключ от ложи бенуара.
– Я всегда стараюсь платить свои долги, – сказал я ему.
Должен отметить, что полковник сдержал свое слово. Он не только предоставил мне завидную привилегию остаться в 82-м пехотном полку, расквартированном в Риме, но даже избавил меня от ежедневных военных упражнений, назначив телефонистом при штабе гарнизона. Все это очень устраивало меня по трем соображениям: это означало, что полковник в какой-то мере взял меня под свое покровительство, а также к моему величайшему облегчению, поскольку я никогда не был атлетом, что я могу уклониться от изнурительной муштры и маршировок, которые обычно выпадают на долю пехотинцев; и наконец, самое главное, это давало мне свободное время для занятий пением.
Вспоминая былое, я могу искренне сказать, что эти два года, пока я носил грубую серо-зеленую форму простого солдата-пехотинца, были самой счастливой порой моей юности. Если же говорить о материальной стороне дела, то солдатская жизнь была, конечно, довольно суровой, и все же мне не надо было думать о еде и жилье. И – что ещё важнее – в первый раз в жизни и, должно быть, в последний, я узнал, что такое настоящее товарищество. Не было у меня больше ощущения подавленности или бессмысленной траты времени.
Вся моя жизнь сконцентрировалась теперь на занятиях пением. Обязанности телефониста были необычайно легкими, и у меня оставалось достаточно много свободного времени, чтобы не забывать, что мне двадцать лет, и развлекаться.
Телефон оказался удивительной новинкой – игрушкой, которой я не мог наиграться. Каким-то образом девушки из центральной телефонной станции узнали, что я пою, и когда у них не было работы, они обычно просили меня спеть им что-нибудь по телефону. Я охотно отвечал на их просьбы: так или иначе это ведь тоже была возможность поупражняться лишний раз. Помнится, они особенно любили «Серенаду» Тозелли и «Вернись в Сорренто».
У одной из девушек – ее звали Ида – был очень красивый голос. Я почувствовал к пей особую симпатию, хотя ни разу не видел ее в лицо. Ида гораздо чаще других просила меня спеть, хотя и казалась скромнее своих подруг. Она, например, никогда не звонила мне без какого-либо предлога.
– Я была бы вам очень благодарна, – говорила она иногда, – если бы вы узнали кое-что о моем брате, он служит в армии...
– А почему бы вам самой не прийти сюда? – спросил я однажды. – Я не могу узнать все, что вам нужно. Но я могу проводить вас к офицеру, который все объяснит вам.
Она пришла в тот же день. Я был потрясен. В обычных условиях я никогда в жизни не осмелился бы и близко подойти к такой красавице. Ну, а тут – мы ведь были уже знакомы по телефону – я собрал все свое мужество и предложил ей погулять вместе, когда меня отпустят со службы, в 6 часов.
Она очень просто согласилась.
За эту осень и зиму мы очень подружились с Идой. Когда же снова настало лето, я заказал себе костюм с единственной целью – нанести торжественный визит родителям Иды и просить ее руки. Но в то самое воскресенье, когда я должен был явиться к родителям иды, я вместе с сотнями других новобранцев отправился па вокзал, чтобы попрощаться там со своей первой любовью и уехать на войну. Шел 1911 год. Италия готовилась захватить Ливию.
ГЛАВА VIII
Переполненный поезд покинул станцию, и платочек, которым Ида махала мне, скрылся вдали. Я сбросил ранец, уселся в углу коридора и вздохнул. Это был вздох грусти и в то же время облегчения. Я был расстроен, что прервались мои занятия пением, опечален расставанием с Идой и был просто в ужасе от того, что мне предстоит сражаться с арабами, с которыми у меня лично никогда не было никаких недоразумений. имелись и другие причины, по которым я не очень огорчался, что выбираюсь из Рима именно в этот момент. Ну, взять хотя бы проблему наших взаимоотношений с Идой. Я серьезно думал о женитьбе. Мне казалось, что это было бы великолепно, хотя все же меня не оставляли недобрые предчувствия.
Родители Иды неохотно соглашались на то, чтобы наша идиллия продолжалась и дальше. Они были небогаты, но полагали, что дочь их – такая красавица – могла бы составить партию получше. При таком положении мне трудно было, конечно, спорить с ними. А они, разумеется, не согласились бы, чтобы, обручившись, мы надолго отложили свадьбу – ведь у меня ничего не было за душой, кроме каких-то смутных надежд и мечтаний. Они, конечно, настояли бы, чтобы по окончании военной службы я оставил занятия пением либо для того, чтобы найти какую-нибудь постоянную работу, либо для того, чтобы сразу же начать выступать в качестве профессионального певца (а это было бы все равно, что кинуться головой в омут). Я не расположен был делать ни то, ни другое. Но я любил Иду и вовсе не намеревался терять ее. Если бы я остался в Риме, я бы, наверное, уступил уговорам ее родителей. Ну, а теперь я ехал через Понтийские болота и был на надежном расстоянии если не от пушек, то, во всяком случае, от брака. Я смотрел в окно на унылый пейзаж и находил, что он не так уж печален. Скоро я приеду в Неаполь, затем окажусь в Триполи, оттуда, конечно, можно и не вернуться... Зато, если вернусь (и тут я пускался в тщеславные мечты о престиже возвратившегося с войны, увешанного орденами солдата), родители Иды не смогут, конечно, отказать мне. Во всяком случае, сейчас мне ничего не надо решать, сказал я себе спокойно. Судьба взяла мою жизнь в свои руки.
Но затем мысли мои обратились к другому, и тут уже все было совсем не так приятно и обнадеживающе. В случае с Идой можно было еще на что-то надеяться. Но я натворил немало других глупостей, которыми, конечно, никак не мог гордиться. Тем временем поезд как раз вышел из туннеля, свернул куда-то, и предо мной предстал голубой залив Формиа. Впервые в жизни увидел я спелые апельсины на деревьях.
Должно быть, война умудряет людей, думал я. Я очень рассчитывал на это, поскольку чувствовал, что мудрости мне все-таки еще не хватает. Выло бы несправедливо свалить всю вину за то, что произошло, на моего старого друга, повара Джованни Дзерри. Вина целиком моя.
Все началось несколько месяцев назад, когда Дзерри вновь проявил интерес к моему голосу. Я зашел к нему как-то вечером, помня добрые старые времена, и спел ему что-то прямо на кухне. Дзерри был поражен моими успехами. Однако он тут же выразил глубокое беспокойство по поводу того, что голос мой находится в руках «всего-навсего женщины». Только лучшие и самые знаменитые преподаватели пения – мужчины, разумеется, – смогут должным образом обработать мой голос. Я должен был объяснить ему, что моими успехами я в немалой степени обязан блестящему преподаванию и чрезвычайному благородству синьоры Бонуччи, той самой, которая была «всего-навсего женщиной». Но, увы! Я позволил ему убедить меня своими доводами.
Вскоре после этого разговора Дзерри привел меня к своему хозяину, знаменитому тенору Алессандро Бончи, который как раз в это время был в Риме и должен был петь в «Любовном напитке» в театре «Костанци». Бончи жил в роскошном номере на последнем этаже гостиницы «Эксцельсиор». Когда мы пришли к нему, он встретил нас в великолепном шелковом халате. Я вспомнил своего отца – что бы он подумал сейчас? В ушах у меня еще звучали его слова: «Пение не приносит доходов, мальчик мой. Выбери себе какое-нибудь ремесло и не оставляй его».
Я спел знаменитому тенору несколько арий. Он похвалил меня, добавив, что если я хочу, он может представить меня профессору Мартино, должно быть, как он сказал, самому лучшему на свете преподавателю пения. Затем, обратившись к Дзерри и как бы продолжая ранее начатый разговор, он посоветовал:
– Вложите свои деньги в этот голос. Он принесет вам доход.
Что тут имелось в виду, мне стало ясно лишь несколько дней спустя, когда Дзерри пришел ко мне в штаб гарнизона.
– Все в порядке, – весело сообщил он. – Бончи поговорил о тебе с профессором Мартино. С будущего понедельника ты начинаешь заниматься у него.
– Зачем такая спешка? – удивился я. – И как быть с синьорой Бонуччи? Я еще ничего не сказал ей. Надо посоветоваться с нею. Ведь я занимался у нее два года и не заплатил еще ни чентеримо. Я не могу оставить ее так, ни с того, ни с сего. И к тому же, чем я буду платить профессору Мартино?!
– Не беспокойся, – как ни в чем не бывало ответил Дзерри. – Об этом позабочусь я. Платить надо много, не спорю. Но пока я займусь этим, а ты мне отдашь потом. Я тут приготовил небольшой контракт, надо подписать его. Вот, взгляни-ка. А что касается той женщины, то не будь глупцом. Ты должен думать о своей карьере. Мартино и так оказывает тебе великую милость, соглашаясь заниматься с тобой. Он разозлится, если ты теперь откажешься. Не упускай такого случая! Ведь это просто удача! Вся твоя судьба зависит теперь только от этого!
Я понимал, что поступаю плохо, но в тот момент мне казалось, что другого выхода нет. Я взглянул на контракт. Он выглядел страшно официально и очень важно. Дзерри обязывался платить профессору Мартино за мои уроки. Взамен я должен был отчислять ему 30 процентов моего гонорара в первые два года после дебюта и 40 – в следующие три года. Я почувствовал укор совести, вспомнив, что синьора Бонуччи вообще никогда и словом не обмолвилась ни о каких обязательствах. Но я послушно пошел с Дзерри к нотариусу и подписал контракт. Мой дебют! Это казалось мне делом очень далекого будущего.
Потом я пошел к синьоре Бонуччи и сказал ей, что мне посоветовали заниматься у профессора Мартино.
Много лет спустя я услышал английскую поговорку. «Даже в аду нет фурии страшнее осмеянной женщины». Я понимаю, что обычно эту поговорку припоминают совсем в других ситуациях, чем та, о которой говорю я, но и в этом случае поговорка подходила как нельзя лучше. Мгновенно исчезли мягкость и женственность синьоры Бонуччи. Она закричала от злости, осыпала меня градом оскорблений, обвинила в черной неблагодарности, хлопнула дверьми и велела немедленно покинуть ее дом и не попадаться ей больше на глаза.
Я был напуган, уничтожен и сгорал от стыда. Это было самое тяжелое испытание, какое только выпадало на мою долю в жизни. Но, разумеется, все это получилось чисто по-итальянски. Синьора Бонуччи отводила душу. Это было «сфого» женщины темпераментной, горячей. Занимаясь со мною бесплатно, она поступала совершенно необычайным образом. И само собой разумелось, что в один прекрасный день я заплачу ей за все. Но если бы я занимался только у нее, возможно, она никогда бы и не заговорила об этом. Она верила в мой голос и гордилась им. И это была, несомненно, гордость собственника. Я был «звездой» среди учеников, и поэтому было совершенно естественно, что она думала о будущем – не только о моей будущей славе, в которую слепо верила, но и о том, что придется на ее долю, или думала по крайней мере о своем собственном творческом удовлетворении, которое дадут ей занятия со мной. Она заложила основу моего вокального мастерства, а я бросал ее теперь, как бы говоря ей всем своим поведением, что она не устраивает меня больше как преподаватель и не может руководить мною на последнем, самом приятном и радостном этапе обучения. Я задел ее гордость. Она имела все основания сердиться на меня.
В гневе она затеяла судебное дело. Мне надлежало предстать перед судом. Судья спросил меня, правда ли, что синьора Бонуччи давала мне индивидуальные уроки почти каждый день в течение двух лет. Я ответил: «Да, абсолютно верно». Мне было жаль, что дело дошло до этого. Но мне оставалось только упрекать самого себя. Суд обязал меня оплатить уроки. Всего 2500 лир. Сумма вполне приемлемая, если ее выплачивать в течение двух лет, но это чудовищная цифра, если она сваливается ни с того, ни с сего, да еще на солдата, получающего 10 чентезимо в день.
– Господин судья, – покорно сказал я, – я буду откладывать все мое жалованье и возмещу все с процентами. Но боюсь, что придется ждать очень долго.
Синьора Бонуччи не настаивала на том, чтобы я платил. Было ясно, что она хотела только сделать негодующий жест. Больше она не давала о себе знать ни сама, ни через кого-либо.
Двенадцать лет спустя, когда я уже пел в «Метрополитен-опера», я решил написать своей старой учительнице. Мне было довольно трудно разыскать ее адрес. Она уехала вместе с мужем из Рима и жила теперь на острове Роди (в Додеканезском архипелаге), который тогда еще принадлежал Италии. Я просил у синьоры Бонуччи прощения, просил вспомнить старую дружбу. Она ответила мне очень теплым, сердечным письмом, и я был очень рад, что мы вновь стали друзьями. Но прошло еще несколько лет, прежде чем нам довелось встретиться снова. Летом 1939 года, когда я отдыхал у себя на даче в Реканати, я получил телеграмму из Рима: «Я здесь в отпуске. Сообщите, хотите ли видеть меня». Конечно, я немедленно телеграфировал ей, приглашая приехать в Реканати. Она приехала, но настояла на том, чтобы остановиться в гостинице, гордость ее все еще была задета – так мне казалось – и это мешало ей принять мое гостеприимство. Во всяком случае, мы вместе сходили с ней в церковь в Лорето и поблагодарили судьбу за нашу счастливую встречу. Позднее, когда мы расстались, я сумел все же принести повинную, заплатив наконец мой долг этой доброй женщине и добавив к первоначальной сумме другую, соразмерную той благодарности, которую я питал к ней.
По все это было делом далекого будущего. Новобранцу Беньямино Джильи, рядовому 82-го пехотного полка, который сидел на ранце в коридоре переполненного
поезда и краснел от стыда за свои прошлые прегрешения, все это было еще неведомо.
Профессор Мартино был, несомненно, превосходным преподавателем, но я занимался у него всего несколько месяцев, потому что вскоре пришло извещение, что я должен отправиться на военную службу в Ливию. Накануне моего отъезда Дзерри пришел ко мне и принес контракт, который мы оба подписали.
– Послушай, – сказал он, – Я знаю, ты поймешь меня... Не будет мне покоя, пока я не порву эту бумагу. Да и тебе ведь теперь не нужны уроки. Так что, аминь, – И тут же он порвал контракт.
Это была наша последняя встреча с Дзерри в Италии. Вскоре после этого он уехал с семьей за границу, и мне удалось только узнать, что он обосновался где-то в Калифорнии.
В ноябре 1920 года я дебютировал в Северной Америке в театре «Метрополитен». Я пел партию Фауста в «Мефистофеле» Бойто. На следующий день газеты уделили моему дебюту много внимания. Посыпались поздравительные телеграммы. Я просматривал их не без некоторого удовольствия, как вдруг остановился в изумлении. Одна телеграмма была из Сан– Франциско: «Если ты еще помнишь меня, отлично. Если нет, можешь катиться к дьяволу». И подпись: Джованни Дзерри. Я не совсем был уверен, что под дьяволом тут не подразумевался Мефистофель и что вообще речь не идет о случайной игре слов. Тем не менее я тотчас же ответил ему телеграммой, заверяя, что очень надеюсь вновь увидеть своего старого друга.
Осенью 1923 года я приехал наконец в Сан-Франциско. городские власти были столь невероятно взволнованы предстоящим сезоном итальянском оперы, что оказали мне чуть ли не королевские почести. Эскорт моторизованной полиции и вой сирен сопровождали меня от вокзала до гостиницы. И там в холле меня встретил Джованни Дзерри. Вот так и совершилось наконец то, о чем он мечтал когда-то в обвитой виноградом беседке маленькой таверны в Реканати, где мы играли с ним в деревянные шары. «Ты пришлешь мне два билета, договорились? интересно, что это будет, „Богема" или „Риголетто"?». Это оказались и «Богема» и «Риголетто». В самом деле, все время, пока длились гастроли, Дзерри все вечера проводил в театре, не пропустив ни одного спектакля. Я был по-настоящему счастлив, что все сложилось именно так, как он мечтал. В нашей дружбе было и плохое, и хорошее, но я никогда не забывал, что не будь его поддержки и напутствия я, наверное, так всю жизнь и простоял бы за прилавком аптеки в Реканати, заворачивая лекарства.
Как только мне удавалось освободиться от официальных церемоний и светских приемов, я удирал после спектакля к Дзерри и синьоре Чечилии (она, похоже было, переменила свое мнение обо мне и больше не считала меня бездельником). На столе появлялись отличные спагетти, и мы славно проводили время в маленьком ресторанчике, который «принес Дзерри успех» в Новом свете.
– Я мог бы помочь тебе как-нибудь? – спросил я однажды вечером Дзерри. – Ведь теперь очередь за мной.
– Нет, спасибо, – резко ответил он. Он по-прежнему держался со мной несколько высокомерно и, видимо, хотел продолжать в том же духе.
– Ты уверен в этом? – настаивал я.
– Ну, – наконец сказал он, колеблясь. – Вообще-то есть одна вещь, которую ты мог бы сделать для меня. Ты бы не возражал, если бы я назвал свой ресторан твоим именем – «Ресторан Беньямино Джильи»? Понимаешь, это очень помогло бы мне в делах...