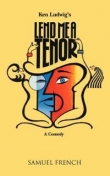Текст книги "Воспоминания"
Автор книги: Беньямино Джильи
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
ГЛАВА XXXIV
Рассказанный случай может, по-видимому, дать некоторое представление о той стороне жизни певцов, которая обычно скрыта от публики и представляется ей совсем иной. Прежде всего – это постоянное нервное напряжение, а затем и все, что из этого следует, – Зависть, ревность, ссоры из-за уборных, из-за знаков отличия, за право стоять па середине сцены. И все это подспудно скрывается за кристаллически чистыми нотами и любовными дуэтами. Многие из нас держат себя в руках, однако, когда человек все же теряет самообладание, реакция бывает особенно бурной именно потому, что до этого, он слишком долго сдерживал свой гнев или возмущение. И за каждым знаменитым певцом в «Метрополитен» известны красочные истории подобного рода. Рассказывают, например, что Карузо однажды во время представления «Кармен» при всем честном народе дал хорошего тумака Джеральдине Фаррар, и она тотчас же ответила ему такой же хорошей пощечиной, правда, потом она села и расплакалась. И когда такое случается, мы можем объяснить это только тем, что жизнь наша – постоянное нервное напряжение, и мы надеемся, что публика будет снисходительна к нам.
В предыдущей главе я говорил о клаке синьоры Йеритцы. В данном случае клака вышла за рамки своих обязанностей и только повредила певице. Но должен признаться, что сам я тоже счел необходимым завести в «Метрополитен» свою клаку – по той простой причине, что она была у всех других певцов. Для певцов с утвердившейся репутацией, которым нечего опасаться, клака нужна только как предосторожность, для того, чтобы полагающуюся им естественную и законную долю аплодисментов не заглушили бы клаки других артистов. Здраво рассуждая, нельзя не признать, что клаки обычно действуют поочередно, в зависимости от того, кто поет в данный момент на сцене. Клакеры обычно вербуются из знатоков и любителей музыки, и их аплодисменты нельзя считать унизительными. А вообще хорошая клака может даже помочь молодому певцу укрепить свою репутацию или вынудить соперника, голос которого начинает слабеть, уйти со сцены.
15 января 1925 года я пел в Вашингтоне в Белом доме на приеме, устроенном президентом и синьорой Кулидж по случаю его переизбрания. На меня произвела огромное впечатление величественная простота самого здания.
23 февраля я впервые пел Реквием Верди. Я, можно сказать, вырос на церковной музыке и всегда любил ее. Когда же я пел «Ингемиско» на сцене «Метрополитен», мне казалось, будто снова стою у органа в старом соборе в Реканати. Верди написал Реквием в расцвете творческих сил – тогда же, когда писал «Аиду». Он сочинил Реквием в память великого писателя Алессандро Манцони, которого считал своим «святым». Духовенство критиковало Реквием за то, что он не отвечал предписаниям ортодоксальной литургической музыки. Конечно, трудно было ожидать от Верди (ведь он не был по натуре сочинителем духовной музыки), чтобы он втиснул свой гений в прокрустово ложе церковных ритуалов. Могу все же сказать, что, несмотря на это, всегда ощущал в Реквиеме глубоко религиозный дух, почтительный, вдохновенный, а некоторые его страницы считаю просто совершенством.
В апреле я уехал в Европу. Мне предстояли два месяца гастролей в Германии и Скандинавии: в Берлине, Гамбурге и Ганновере я должен был петь в операх, а в Бреславле, Копенгагене и Стокгольме – в концертах. И снова я был поражен восторженностью тех, кого знал раньше как «холодных северян». Я привык уже к успеху, и восторг слушателей не изумлял меня. Но впервые я вынужден был уступить и петь после того, как меня непрестанно вызывали в течение получаса – это было в Гамбурге. Впервые меня несли на руках до гостиницы – в Берлине. Все это было ново для меня.
13 июля я уехал в Буэнос-Айрес. Там группа солистов «Метрополитен» – Клаудиа Муцио, Франчес Альда, де Лука, Дидур и дирижер Серафин – принимала участие в осеннем итальянском сезоне в театре «Колон». 20 августа я пел с Клаудией Муцио на торжественном представлении «Лорелеи», которое давалось в честь принца Гальского. Принц выразил желание лично поблагодарить некоторых исполнителей. Меня представили ему в первом антракте вместе с Клаудией Муцио и Серафином. Он очень любезно беседовал с нами несколько минут. Когда я стал прощаться с ним, он подарил мне золотой портсигар, сказав при этом, что я непременно должен приехать на гастроли в Лондон.
Во время гастролей в театре «Колон» я спел новую партию – партию Джанетто в опере «Вечер шуток». Это хорошая динамичная трагедия, написанная Умберто Джордано по одноименной пьесе Сэма Бенелли. До этого опера ставилась всего дважды: один раз в Риме и другой раз в Розарио – в Аргентине. Премьера оперы в театре «Колон» состоялась 31 августа. Для меня всегда было большим удовольствием петь в операх моего друга Джордано, но в «Вечере шуток» не было ничего такого, что могло бы победить мое пристрастие к другой его опере – «Андре Шенье». Партия Джанетто была слишком драматической для моего голоса.
У меня были свои причины для того, чтобы петь всегда, по возможности, только лирические партии. И не только потому, что эти партии я пел лучше других, хотя это само по себе уже достаточно веское основание. Дело в том еще, что лирические партии давали меньше нагрузки на мои голосовые связки – или, точнее выражаясь, они давали такую нагрузку, с которой голосу в силу самой его природы было легче всего справиться.
Только потому, что я всегда очень внимательно и осторожно выбирал свой репертуар (например, я никогда не соглашался петь в «Отелло»), я смог петь на сцене сорок один год – это беспрецедентный случай в истории вокала. Мне было уже около пятидесяти лет, когда один тенор, намного моложе меня, попросил объяснить ему, как это получилось, что мой голос сохранился таким свежим, а его уже теряет гибкость.
– Думаю,– ответил я,– потому только, что я всегда очень осторожно обращался со своими вокальными ресурсами. Может быть, оттого, что родом я из крестьянской семьи... А вы, напротив, всегда транжирили свой вокальный капитал.
После продолжительных гастролей в Бразилии – в Рио-де-Жанейро и Сан-Паоло – я вернулся в начале октября в Нью-Йорк и сразу же отправился в другое турне – по Мид-Весту. В некоторых городах в этот раз я пел впервые – в Толедо, например, и в Мильвоке. С особенным удовольствием пел я в городе Риме (штат Нью-Йорк).
2 ноября я открыл в «Метрополитен» сезон 1925/26 года. Давали «Джоконду». Вместе со мной пела Роза Понселле. Первый раз мне предоставляли почетное право открыть оперный сезон в этом театре. Правда, четыре года назад я пел на открытии сезона в «Травиате», но ведь это опера для сопрано, а «Джоконда» – для тенора. Это самое лучшее, что можно было выбрать для открытия сезона, если не считать еще «Аиду».
На этот раз мне удалось сделать все, чтобы критики в своих похвалах моему исполнению арии «Небо и море» не вспоминали Карузо. В целом спектакль был блестящим примером той слаженности в работе, благодаря которой «Метрополитен» стал одним из лучших театров мира. Понселле была идеальной Джокондой, а Серафин, дирижируя оркестром, великолепно выявил всю красоту и блеск партитуры. Не обошлось и без происшествий. За два часа до начала спектакля выяснилось вдруг, что заболела Джоан Гордон. Но ее без труда заменили певицей Маргарет Магзенауэр.
Но даже если бы Маргарет тоже не смогла петь, найти замену было бы нетрудно. Потому что не менее пятидесяти артистов труппы всегда были готовы – как обусловлено в их контрактах – дублировать без предварительного предупреждения в любой из двенадцати партий «Джоконды». Точно такая же система существовала, разумеется, и в отношении других опер, имевшихся в репертуаре «Метрополитен».
Гатти-Кадацца питал особое пристрастие к годовщинам и юбилеям. 29 ноября я вместе с другими известными исполнителями «Метрополитен» принял участие в торжественном концерте в связи со столетием итальянской оперы в Нью-Йорке. Прошло ровно сто лет с тех пор, как труппа Мануэля Гарсиа поставила в Нью-Йорке в старом «Парк-театре» «Севильского цирюльника».
Я всегда упорно отказывался от всех приглашений петь по радио. Это меня всегда пугало. Петь, не видя своих слушателей, казалось мне несчастьем. Не видеть их, да еще не быть даже уверенным, что голос мой дойдет до них неискаженным – это слишком рискованно, на мой взгляд. Что касается грамзаписи, то тут совсем другое дело. Я мог прослушать пластинку, прежде чем дать согласие выпустить ее в свет. Если мне что-нибудь не нравится, я всегда могу сделать перезапись. Но на радио я должен петь сразу в эфир, и голос мой мог бы стать игрушкой каких-то невидимых сил, прежде чем достигнет моих слушателей.
В конце концов меня убедили все же, что все мои страхи и сомнения необоснованны. 27 ноября 1925 года я впервые пел у микрофона радио. Это был концерт во время рождественских праздников из серии «Atwater Kent». В него входили отрывки из опер «Лючия ди Ламмермур» и «Риголетто». Поразительно, конечно, было думать, что меня слушают сразу тысячи и тысячи людей. Как бы то ни было, мне понадобилось немало времени, чтобы подготовиться психологически и окончательно свыкнуться с мыслью о том, чтобы петь по радио. Видимо, надо было подготовиться к этому еще и технически, как свидетельствует следующий эпизод.
Это случилось несколько месяцев спустя.
Я пел в студии «Национал Бродкастинг Корпорейшен». После концерта я спускался в лифте, как вдруг мальчик-лифтер спросил меня:
– Это вы сейчас пели?
Секретарь мой перевел мне вопрос, и я ответил: «Да».
– Не обидитесь, если я дам вам один совет?
Я кивнул в знак согласия.
– Я слушал вас, – сказал мальчик, – и заметил, что голос звучит слишком сильно. В следующий раз не становитесь так близко к микрофону, ясно?
Я поблагодарил его лучшей из моих улыбок.
– Так будет лучше, – добавил мальчик. – Я тут уже многим начинающим вправил мозги!
ГЛАВА
ГЛАВА XXXV
Сцена, рампа, публика – эта триада составляла теперь всю мою жизнь. Я жил этим, жил для этого и рядом с этим. На все прочее оставалось очень мало времени. И действительно, почти ничем другим я не занимался. Мне так и не удалось никогда узнать как следует Америку и американцев. Просто не было времени особенно задумываться над этим.
Если я хотел добиться успеха, я должен был сосредоточить все внимание только на одном. В моей квартире на 57-й стрит я жил в совершенно итальянской обстановке, с итальянскими слугами, итальянской кухней. Когда я не был занят в спектакле или на. репетициях, не готовил новую партию, не отдыхал и не страдал па занятиях у синьора Рейли, я находил отдых в самом обычном времяпрепровождении: ходил в кино, играл в покер, водил детей в «Кони исланд» стрелять в глиняных уток или занимался своей коллекцией марок. С радостями коллекционирования меня познакомил один старый итальянец, хорист театра «Метрополитен». Я получал огромное удовольствие, рассматривая свои альбомы, хотя они, к сожалению, не вызывали симпатии моей жены, которая считала, что все это выброшенные деньги.
Итальянцев с годами становилось в «Метрополи-тен» все больше и больше. Недавнее пополнение составляли Тоти Даль Монте и Титта Руффо, а в следующем сезоне должны были появиться Эцио Пинца и Джакомо Лаури Вольпи. Я пел с Титта Руффо на премьере «Вечера шуток» 2 января 1926 года. Опера эта гораздо больше подходила ему, чем мне. Он обладал великолепным драматическим баритоном, и сам был, к тому же, прекрасным актером. Его Нери (это поразительное исследование по психиатрии) казался по-настоящему сумасшедшим. Я убежден, что именно благодаря ему эта опера имела в Нью-Йорке большой успех.
11 января я пел в соборе «Сан-Патрицио» во время папской мессы Реквием по недавно скончавшейся королеве Италии Маргарите. 27 января была двадцать пятая годовщина со дня смерти Верди. Мы отметили эту дату специальной церемонией в «Метрополитен», во время которой исполнили и его Реквием.
1 февраля я покинул Нью-Йорк и отправился с гастролями вдоль побережья Тихого океана в города Сиеттл, Портланд, Сан-Франциско, Лос-Анжелос, Пассадена. На обратном пути я должен был дать концерт в Детройте, но когда приехал туда 23 февраля, на вокзале меня встретил большой отряд полиции и проводил до гостиницы. Оказывается, полиция получила такую записку: «Если Джильи не хочет узнать, как пахнет в морге, пусть и не думает петь в Детройте. Мы перережем горло этой „канарейке"». Вместо подписи стояло: «Некоторые искренние друзья Италии».
Очень трудно было угадать, что скрывалось за этой фразой. Никто не обратил внимание на подпись. Детройтская полиция, как и нью-йоркская когда-то, думала, что это скорее всего дело «Черной руки». Но почему? Кое-кто думал, что это связано с общеизвестной завистью кого-либо из соперников по сцене. По другой версии – по правде говоря, не очень убедительной – это могло быть делом некоторых приверженцев синьоры Йеритцы, которых в Детройте, как это знали все, было особенно много. Мне не хотелось отступать перед этой угрозой. Но это все же сильно сказалось на моих нервах, и я решил, что в таком состоянии вряд ли буду хорошо выглядеть на сцене. Очень неохотно – потому что я всегда с большим удовольствием выступал перед детройтской публикой – я решил отменить свой концерт. И так же, как утром – под усиленной охраной полиции, – я в тот же вечер уехал в Буффало.
Может быть, какой-нибудь автор детективных романов и сможет извлечь из этой таинственной истории какую-нибудь пользу, но я так никогда и не понял, в чем же было дело.
В конце мая 1926 года я впервые пел в Гаване. До сих пор это была неприступная крепость Карузо, и я знал, что мне предстоит встретиться там с осбенно придирчивой публикой. Но все прошло хорошо, и мой успех был даже в какой-то мере утвержден официально, когда президент Кубы Мачадо пригласил меня петь 1 июля на торжествах по случаю бракосочетания его дочери Анджелы.
В тот вечер я чуть не лишился своего престижа, потому что был вынужден петь при сильной простуде. Мне пришлось собрать все силы, чтобы допеть до конца в '«Риголетто». Под конец я был рад, что все обошлось благополучно, что я не опозорился. Но публика, к моему великому отчаянию, была так довольна, что не давала уйти со сцены до тех пор, пока я не спел арию «О, чудный край» из «Африканки». Я попытался на ломаном испанском языке объяснить слушателям, что я простужен, но они притворились, будто ничего не понимают. В конце концов я уступил, смирившись с тем, что утром у меня совершенно не будет голоса. Наконец, освободившись, я поспешил в гостиницу, принял аспирин, выпил немного грогу, замотал горло шерстяным шарфом и улегся в постель. Через некоторое время я услышал на улице какой-то странный шум – как будто гудела большая толпа. И действительно, под окнами собрался народ и настойчиво вызывал меня:
– Спойте нам еще «О, чудный край»!
Шум нарастал.
– Пожалуйста, синьор Джильи, спойте нам еще «О, чудный край»!
Я решил, что если они хотят услышать меня на другой день в «Марте», то больше ничего не должен петь. Все имеет свои границы. Я натянул на голову простыню и закрыл глаза.
Но в здоровом состоянии я никогда не отказывался петь. У меня осталось чудесное воспоминание об одной великолепной августовской ночи в Венеции. В конце того же лета я выступал с концертом в прекрасном театре «Ла Фениче», построенном еще в XVIII веке. Это был благотворительный концерт, и цены на билеты были довольно высокие, потому что это был гвоздь светского сезона. Концерт окончился поздно – около полуночи. На улице меня ожидала большая толпа венецианцев.
Это был трудовой народ, скромные туристы, простые юноши и девушки. И все они, очевидно, ждали меня в надежде, что я им спою. Меня взволновало это, и в порыве чувств я сказал:
– Я спою вам на площади святого Марка!
На площади, к счастью, оказался небольшой оркестр, который еще играл, и дирижер согласился аккомпанировать мне. Между тем известие о том, что я буду петь, мгновенно разнеслось по всему городу. И люди стали стекаться на площадь со всех концов Венеции. Я стоял посреди площади под бархатно-черным небом у освещенного луной, мерцающего золотистой мозаикой собора и пел арию за арией – «О, чудный край», «Вот я и у предела», «Сияли звезды», «Ты мне явилась»... Акустика на площади была поразительная. Публика моя тоже была поразительная. Я чувствовал необычайное волнение, несмотря на некоторую усталость, когда распрощался наконец с моими слушателями.
Осень и зима сезона 1926/27 года в «Метрополитен» потребовали от меня напряженной работы, по не запечатлелись в памяти. «Ку-клукс-клан», «Черная рука» и «искренние друзья Италии» оставили меня в покое. Но комиссар полиции Энрайт по-прежнему из предосторожности снабжал меня охраной в штатском. Чтобы выразить ему свою признательность, я устроил на рождество праздник для сирот полицейских Нью– Йорка, которые погибли при исполнении своих обязанностей в предыдущем году. Я оделся Дедом Морозом, и, думаю, все, кто был на этом празднике, хорошо повеселились, потому что мои маленькие гости, которые пришли на праздник в три часа дня, ушли домой только в полночь.
В октябре, еще до начала сезона в «Метрополитен», я отправился в обычное осеннее концертное турне. Иногда мне казалось, что гастроли эти утомительны, но не потому, что я уставал от переездов из города в город и концертов. Дело в другом. Повсюду меня неизменно встречали с исключительным гостеприимством, устраивали приемы и встречи с итальянскими колониями, всюду меня каждый день ожидало море человеческих лиц, и юсе это порой отнимало у меня последние остатки сил. Но другого выхода я не видел, и было бы просто невежливо уклоняться, потому что все это было неотъемлемой частью моих гастролей. Но иногда, случалось, я получал и неожиданное вознаграждение. Так было, например, в Балтиморе, когда я встретил одного итальянского плотника – моего школьного товарища по Реканати.
Умные критики не прочь были поругать программы моих концертов: они упрекали меня в том, что я ничего не делаю для того, чтобы воспитывать вкус моих слушателей, что у меня много избитых арий и т. д. Подобная критика, однако, никогда не тревожила меня. Я не обращал внимания на нее, а думал только о том, что нравится публике.
Иногда мне удавалось вызвать интерес к музыке у людей, которые раньше никогда не интересовались ею. Одна газета в Далласе (штат Техас), например, в отчете о моем концерте в этом городе так описывала овацию, которой меня наградили там: «Публика вскочила с мест, махала программками и платками, кричала, аплодировала и бушевала, словно настоящий ураган... Очень возможно, – продолжала газета, – что синьор Джильи привык к такому приему, но в Далласе подобных выражений восторга еще никто никогда не наблюдал. Публика здесь обычно довольно равнодушна к концертам. И концерт синьора Джильи означает, что положен конец этому равнодушию, скептицизму и недовольству, которые были свойственны большинству посетителей концертов в последние годы».
Больше того, я всегда был убежден в том, что публика, которая приходит на концерт, должна получать именно то, что она хочет. И если «Сердце красавицы» относится к порицаемой категории избитых арий, то это означает только, что последующие поколения тоже увидели в ней всю ее красоту и поняли, что это одна из самых великолепных и незабываемых мелодий, которые когда-либо существовали. Я не могу согласиться с тем, что, раз эта ария слишком популярна, то ее не стоит петь.
То же самое можно сказать по поводу всех других «избитых» арий, которые я имел обыкновение включать в программу концертов: «Та иль эта», «Милая Аида», «Холодная ручонка», «О, чудный край», «Мне явилась», «Вот я и у предела», «Смейся, паяц», арию о цветке из «Кармен», «Слеза», «Сияли звезды», «Импровизация» из «Андре Шенье», «Не видел больше я» из «Манон Леско», «Небо и море» из «Джоконды», «Нежное создание» из «Фаворитки», «Жалоба Федерико» из «Арлезианки». «О, моя нежная страсть» Глюка и, конечно, неаполитанские песни. Что хотелось бы критикам услышать вместо этих арий? Я становился самым счастливым человеком, по мере того, как концерт превращался в своего рода семейное празднество, где публика забывала обо всем на свете, волновалась и кричала мне, чтобы я пел ее любимые арии.
ГЛАВА XXXVI
Давно уже у меня не было новой хорошей партии, которая действительно подходила бы моему голосу. Поэтому я очень обрадовался, когда Гатти-Казацца предложил мне петь партию Вильгельма Мейстера в «Миньон», этой мелодичной и романтичной опере французского композитора Амбруаза Тома, нашедшего вдохновение в произведении Гёте. Свежесть этой оперы, ее аромат несколько улетучились со времени ее первой постановки в 1865 году в театре «Opèra Comique» в Париже. Современные постановщики пытаются представить эту оперу как произведение времен Второй империи, вместо того, чтобы отнестись к ней серьезно. Но для меня все это не имело значения. Нежные и страстные мелодии, лирическая мягкость – все это идеально подходило моему голосу, и только это было важно для меня.
На премьеру оперы в «Метрополитен» 10 марта 1927 года были распроданы все билеты. «Миньон» не ставилась в этом театре с 1908 года. Любопытная деталь: моим предшественником в роли Вильгельма Мейстера был не кто иной, как Алессандро Бончи, тот самый, у которого работал когда-то мой старый друг, повар Джованни Дзерри.
Я считаю, что нам удалось создать прекрасный спектакль, благородный, страстный. Конечно, публика встретила его восторженно. Особенно много аплодисментов досталось мне в конце III акта за доблесть, которой, должен признаться, я немало гордился. Чтобы спасти цыганку Миньон от огня, я поднял ее и, не прерывая пения, на руках пронес через всю сцену. При этом нельзя сказать, чтобы примадонна Лукреция Бори была легкой, как перышко. Вот тут я понял, что не зря тратил время на занятиях у синьора Рейли.
Я так привык много работать, что мне просто трудно было оставаться без дела во время каникул. Летом 1927 года, например, я дал в Италии шестнадцать благотворительных спектаклей. В Риме вместе с другими учениками академии Санта Чечилия я принял участие в концерте по случаю пятидесятилетия академии. На концерте присутствовали дочь короля, принцесса Мафальда, и ее муж, принц Ассизский. Потом я устроил импровизированный концерт на площади Колонна, ночью, при луне. Слушать меня собралось пятьдесят тысяч человек. Концерт начался в полночь и кончился в два часа ночи. Потом я пел в большом концерте в «Аугустео», где дирижировал сам Масканьи, а я исполнял его «Матросские сторнеллы».
В Реканати я устроил шесть представлений «Богемы» в театре «Персиани» и пел в них сам. Это тоже были благотворительные спектакли: надо было собрать деньги на покупку рентгеновского аппарата для реканатской больницы. 21 августа я дал еще один благотворительный концерт в Осимо – это около Реканати,– чтобы собрать средства на реставрацию одного средневекового замка. Концерт был костюмированный. Мы инсценировали празднество по случаю счастливого возвращения некоего Паоло Джильи после битвы при Лепанто.
Паоло Джильи – это рыбак родом из Реканати, который в XVII веке вместе со ста шестью своими товарищами погрузился на небольшое суденышко и отправился сражаться с турками. Через несколько лет он вернулся на родину лишь с немногими оставшимися в живых товарищами и с тех пор стал легендарной фигурой в истории Реканати. Нет, разумеется, никаких документов, подтверждающих, что рыбак этот был моим предком, но мне хочется думать, что, может быть, это и так.
Большое событие этого лета – завершение строительства моего дома в Реканати. Можно было уже переселиться и жить в нем. По правде говоря, я был даже немного напуган тем, что получилось из моих планов. В мое отсутствие Катерво с архитектором несколько увлеклись. В доме было шестьдесят жилых комнат, двадцать три ванных комнаты, бассейн, римская баня и водопровод. В кухне стоял холодильник таких размеров, что в нем можно было хранить годовой запас продуктов на двадцать человек. Я удивился – неужели все это так необходимо?
И все же мне доставляло бесконечное удовольствие чувствовать себя владельцем всех этих земель, полей, лугов, виноградников. Как мне хотелось, чтобы отец мой был жив и мог увидеть все это. Мои владения в то время (впоследствии они еще увеличились) составляли около трех с половиной тысяч гектаров земли и семь больших сельскохозяйственных ферм, связанных между собой восьмьюдесятью километрами специально построенных дорог. С этого года у меня была уже своя свинина, свои куры, фрукты, зелень, пшено, разные домашние продукты, вина различных сортов и, конечно, – нужно ли говорить – знаменитое вердиккьо.
Я купил матушке славный домик на площади Леопарди, и думаю, ей это было приятно. Но она была просто напугана размерами моей резиденции.
– Как ты заплатишь за все это, сын мой? – в испуге спрашивала она. – Откуда ты возьмешь столько денег?
Я помню, мы сидели с ней тогда наверху, в небольшом бельведере, из которого в ясные дни видно было Адриатическое море и даже противоположный берег Далмации.
– Не волнуйся, матушка. Каждый кирпич этого дома, каждый кусочек земли, которую ты видишь тут, оплачен какой-нибудь музыкальной нотой, которую я когда-то и где-то спел.
Мое обратное путешествие в Нью-Йорк в сентябре этого же года было особенно приятным, потому что на борту корабля вместе со мной ехал великий сицилийский комик Анджело Муско со своей труппой. Он тоже направлялся на гастроли в Америку. где-то на середине пути на нас в океане обрушился невероятной силы шторм, и тогда всех очень развеселил один из моих попугаев; он сам, исключительно по собственной инициативе, закричал вдруг:
– Не бойтесь! Не бойтесь!
Я рад был, что программа моих осенних гастролей снова приведет меня в Детройт, и я смогу принести детройтской публике повинную за прошлогодний отказ петь для нее. Я пел также в Анн Арбор и в Питсбурге, затем пересек канадскую границу и отправился в Виннипег и Монреаль.
В рождество я снова организовал праздник для сирот полицейских и пожарных. Учитывая, что в прошлый раз мои маленькие гости разошлись по домам только в полночь, и чувствуя, что годы мои уже дают себя знать и я не смогу так же долго веселиться, как они, я устроил этот праздник на пароходе «Анаулиа» («Коннард-Лайн»), так, чтобы можно было в любое время откланяться и оставить гостей одних. Но в гости к нам неожиданно явился мэр Нью-Йорка Джимми Уолкер и пригласил меня играть с ним в электрический поезд. И я забыл про свое намерение пораньше исчезнуть с корабля.
С годами некогда волнующий вопрос: кто же станет преемником Карузо – постепенно затих. Карузо был Карузо. И теперь имя его берегли в сокровищнице памяти. Те же, кто пел теперь, имели свое лицо, свои особенности и достоинства. А я был Джильи. Мое имя приобрело известность и завоевало популярность благодаря моим личным достоинствам. Именно этого я и хотел всегда.
Но импресарио падки на всякие ярлыки, особенно если они помогают рекламе. И поэтому я горько усмехнулся, когда прочел однажды в одной и той же нью-йоркской газете в один и тот же день две заметки.
Одна из них гласила: «Джильи, самый великий тенор на свете, в воскресенье 19 февраля выступит с благотворительным концертом в пользу итальянской больницы»... А другая сообщала: «Мартинелли, самый великий тенор на свете, даст благотворительный концерт в пользу Общества помощи престарелым. Концерт состоится в гостинице «Уолдорф-Астория» 26 февраля».
24 февраля 1928 года мы с Лукрецией Бори и Джузеппе де Лука впервые исполнили по радио целую оперу – «Травиату». Теперь странно вспоминать, что нам казалось тогда, будто мы совершаем какой-то переворот в музыке.
16 марта я принял участие в первой постановке в «Метрополитен» «Ласточек» Пуччини. Последний раз я пел в этой опере очень давно – еще в театре «Костанци». Теперь вместе со мной пели Лукреция Бори, Эдита Флешер и Арман Токатян. И снова меня поразил тот факт, что в Европе эта опера получила лишь снисходительное одобрение, а тут, в Америке, принята невероятно восторженно (бывает, разумеется, и наоборот). Я часто ломал голову над этой разницей во вкусах, вероятно, случайной, но очевидной. В Риме критики в свое время давали понять, что о «Ласточ-ках» вообще лучше не говорить. В Нью-Норке их коллеги заявляли, что «Ласточки» гораздо привлекательнее большинства других постановок, которые идут на Бродвее, и что если бы любой из театров на Бродвее поставил такой спектакль, он годами не сходил бы с афиши.
Возможно ли, задумываюсь я сейчас, чтобы американцы так восторженно встретили «Ласточек» потому лишь, что эту оперу Пуччини написал по типу тех «музыкальных комедий» (musicals), к которым они так привыкли?