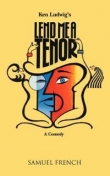Текст книги "Воспоминания"
Автор книги: Беньямино Джильи
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
ГЛАВА XXXVII
Летом 1928 года я четыре раза переплывал Атлантический океан. У меня был контракт на гастроли в Южной Америке в июле – августе, так что не оставалось ничего другого, как провести отдых в Италии в июне и сентябре. В июне должны были собирать первый урожай на моих полях в Реканати, а в сентябре первые гроздья винограда с моих виноградников должны были превратиться в вино – его делают в наших краях по-своему: мнут виноград ногами. Я не простил бы себе, если бы пропустил какое-либо из этих событий. К тому же, в июне я обещал петь в торжественном концерте в связи с открытием памятника Кардуччи в Болонье, где должны были присутствовать король и королева Италии. Я был удивлен тем, что легко и свободно чувствую себя в обществе их величеств. Должно быть, решил я, это частое общение с «Королем города Из» вселило в меня такую уверенность и непринужденность.
Сезон в театре «Колон» должен был в этом году быть особенно плодотворным для меня, потому что представлялась возможность спеть две новые партии, которые очень нравились мне, – партию Риккардо в «Бал-маскараде» Верди и партию Неморино в «Любовном напитке» Доницетти.
Премьера «Бал-маскарада» состоялась 10 июля в Буэнос-Айресе. Д’Аннунцио назвал однажды эту оперу «самой мелодраматической из всех мелодрам», он, по-видимому, был прав.
Либретто оперы – почти пародия на все нелепости настоящих больших опер. Но все нелепости сметаются мощным потоком музыки, и либретто облагорожено гением Верди. Сначала опера эта называлась «Густав III»[39]39
Под таким заглавием Э. Скрибом было написано либретто для французского композитора Ф. Обера. Но его музыка не имела успеха, и сюжет был предложен Верди. После незначительных переделок в тексте опера Верди «Бал-маскарад» прочно вошла в репертуар почти всех театров мира. Идет и в оперных театрах СССР (Москва, Ленинград, Казань, Саратов и др.).
[Закрыть], а потом, когда уже шли репетиции первого представления, в Неаполе, в 1858 году, было совершено покушение на Наполеона III, и полиция приказала Верди изменить либретто и название оперы. Верди отказался повиноваться, и тогда поднялся невероятный спор, в который вмешалось все население Неаполя. В конце концов Верди согласился изменить название оперы, но оставил нетронутым либретто, сделав лишь небольшие поправки, чтобы полиция не придиралась. Эти изменения превращали все события оперы в сплошную нелепость.
События в «Бал-маскараде» могли с равным успехом развиваться как в Неаполе, так и в Бостоне. А Риккардо, граф Варвикский, мог быть губернатором и Неаполя, и Бостона. Амелию могли звать Аделией, Ренато – Рейнаром. Ну, и как бы в довершение этой географической путаницы сюжет оперы был основан на некоторых событиях, которые, как предполагают, про-изошли в Швеции! Однако музыка оперы великолепна, так что имеет ли все прочее какое-нибудь значение?
От героических событий «Бал-маскарада» я перешел к шутливой простоте комического шедевра Доницетти – «Любовный напиток». Я пел в этой опере впервые 11 августа 1928 года в театре «Колон» с аргентинской певицей Изабеллой Маренго. Дирижировал Серафин. Построенная на мотивах одного французского фарса – «Фильтр» – это история о робком и смешном деревенском парне Неморино, о том, как он отдает все свои деньги бродячему шарлатану, чтобы купить у него любовный напиток для покорения сердца своей капризной и непостоянной возлюбленной. Стиль оперы характерен для итальянской комической оперы первой половины XIX века. Веселые, живые хоры перемежаются мелодичными мотивами и разными забавными эпизодами. Музыка легка, как эфир, и это создает общее впечатление живости и естественности всего происходящего.
Как это случилось уже однажды, когда я пел партию другого деревенского влюбленного – партию Лионеля в «Марте», – я выслушал немало похвал за комичность, с которой играл Неморино. Но, разумеется, самый выгодный для меня момент в «Любовном напитке» – это ария «Милой Адины нежный взор». Спектакль был прерван на пятнадцать минут – публика, отлично зная, что правила театра запрещают петь на бис, выходила из себя, требуя повторения арии. Газеты на другой день писали о спектакле так восторженно, что пришлось силой разгонять много– тысячную толпу желающих приобрести билеты в кассе театра «Колон» на повторение спектакля.
Сезон 1928/29 года в театре «Метрополитен» снова не был для меня знаменательным. Я не пел ничего нового, но репертуар у меня был теперь довольно обширный, и публика, видно, с удовольствием слушала меня в тех же партиях. Затем я совершил обычное зимнее турне по городам Северной Америки и вместе с коллегами отправился на весенние гастроли. Но я не хочу наскучить моим читателям подробным перечнем моих странствий. У меня самого голова идет кругом, когда пытаюсь припомнить все свои спектакли, гастроли и выступления.
Все же теперь, когда я стар и сижу один в своем саду, мне нравится перебирать в памяти все то, что составляло мою жизнь. Для меня каждое из описанных событий – яркое, незабываемое воспоминание. Любому другому человеку они должны показаться, конечно, скучной повторяющейся хроникой.
Лето 1929 года началось и закончилось гастролями в Центральной Европе. Под конец меня ожидало совершенно новое испытание – я пел в «Марте» в большом античном амфитеатре в Вероне, где собралось сорок тысяч зрителей. Люди приехали сюда специальными поездами со всех концов Италии, чтобы послушать меня, приехали даже из Сицилии и других отдаленных уголков страны. Каждый зритель получал у входа в амфитеатр небольшую свечу, и когда я вышел на середину арены, которая служила сценой еще две с половиной тысячи лет назад, я увидел огоньки сорока тысяч зажженных свечей, колыхавшихся в темноте августовской ночи.
1929 год был годом кризиса Уолл-стрита, и первые недобрые признаки большой депрессии начинали уже сказываться и в «Метрополитен». Я никогда не пытался застраховать себя какими-либо акциями или облигациями, потому что был осторожен с деньгами – это вообще характерно для крестьян провинции Марке. Я не доходил до того, чтобы прятать деньги в матраце, но переправил все свое состояние в Италию, вложил добрую часть его в недвижимость в Реканати, а остальное поместил у одного надежного и достойного банкира. Многие мои коллеги по «Метрополитен» потеряли во время этой депрессии все, что имели. Больше всего мне было жаль Антонио Скотти. Карьера его уже подходила к концу, и у него мало было надежд собрать еще какие-нибудь средства на жизнь.
Между тем по той роскошной публике, которая заполнила «Метрополитен», когда 28 октября 1929 года я пел на открытии сезона в «Манон Леско», нельзя было заметить ни малейшего признака какой-либо паники, которая уже охватила Уолл-стрит.
Лукреция Бори дебютировала в Нью-Йорке в «Манон» Пуччини вместе с Карузо на открытии сезона в 1912 году. С тех пор она не пела в этой опере. Такие спектакли всегда бывают очень волнующими для певцов и необычными со всех точек зрения. В этот раз мы не знали еще и другого – не знали, что поем отходную золотому веку «Метрополитен-опера-хауз».
29 ноября 1929 года я впервые пел партию Оттавио в опере «Дон-Жуан» Моцарта, которая вновь была поставлена в «Метрополитен» после перерыва в двадцать лет. Критики давно уже просили Гатти-Казацца возобновить оперу, но думается, что его решение уступить их просьбам принято все же вопреки его собственному мнению об этой опере. «Дон-Жуан» не создан для большой труппы, какая была в «Метрополитен», идеально эту оперу можно исполнять на сцене какого-нибудь небольшого театра, такого, например, как «Ла Фениче» в Венеции. Моцарт ведь написал оперу для пражского оперного театра, в котором было только семь певцов и не было постоянного хора.
Все мы старались как можно лучше исполнить наши партии. Дирижировал Серафин. Эцио Пинца пел партию Дон-Жуана, Элизабет Ретберг – Донну Эльвиру, Эдита Флишер – Церлину, Павел Лудикар – Лепорелло, а я – дона Оттавио. Но мне кажется, все мы отлично понимали, что нам не удалось раскрыть в этот раз все достоинства оперы. У меня лично, и это вполне понятно, не было никакого опыта исполнения произведений Моцарта, я совершенно не был знаком с необычной манерой пения, которая необходима при исполнении его произведений. И, что еще хуже, я чувствовал, что никак не могу проникнуться симпатией к своему герою, никак не могу перевоплотиться в дона Оттавио. Мне казалось бесконечно глупым, что этот влюбленный жених терпит все интриги и выходки Дон-Жуана.
Две большие теноровые арии оперы – «Из ее покоя» и «Мое сокровище» – иногда опускаются из-за их чрезмерной трудности. Но в постановке «Метрополитен» я пел обе арии, и думаю, что успех имел в первой. Это все, на что я могу честно претендовать, говоря об исполнении партии дона Оттавио.
26 декабря 1929 года я пел вместе с Франчес Альда в «Манон Леско». Это был ее прощальный спектакль после двадцати двух лет сценической деятельности в театре «Метрополитен». Родилась Франчес Альда в Новой Зеландии, там она познакомилась с Гатти-Казацца и вышла за него замуж – он был в то время генеральным директором театра «Ла Скала», а затем приехала с ним в Нью-Йорк. В 1908 году она дебютировала в «Метрополитен» в партии Джильды в «Риголетто», а Карузо пел тогда партию герцога Мантуанского. Прощальный спектакль ее был очень печальным. Да год до этого она развелась с Гатти-Казацца и теперь прощание ее с театром было действительно расставанием навсегда. Не потому ли, думал я, она выбрала для своего последнего спектакля партию Манон, что это даст возможность в конце оперы излить в пении все свое горе и все страдания.
После продолжительных гастролей – два месяца путешествий по Канаде и Калифорнии – я вернулся в Нью-Йорк, чтобы 21 марта 1930 года петь партию Неморино в «Любовном напитке». Партия Неморино была одной из самых любимых и удачных партий Карузо. В «Метрополитен» до сих пор эту партию исполнял только он один. Он пел ее и в тот трагический вечер в Бруклине, когда у пего пошла горлом кровь и спектакль пришлось отменить. С тех пор почти десять лет Гатти-Казанца никому не давал петь Неморино, и «Любовный напиток» совсем был снят с репертуара. И то, что теперь мне поручили возобновить эту оперу, было, несомненно, самой большой честью, какую только мог оказать мне театр «Метрополитен».
ГЛАВА XXXVIII
Мне исполнился сорок один год. Большая часть моей жизни прошла в скитаниях по разным странам. Пришлось побывать в таких местах, о существовании которых я, со своими скромными познаниями в географии, даже не подозревал и услышал впервые только от импресарио, например, – Виннипег, Розарио в Аргентине, Феникс, Аризона. И все же оставались еще два больших города, представление о которых связано у большинства итальянцев с путешествиями и в которых я еще никогда не бывал. Это Лондон и Париж.
Только летом 1930 года мне удалось наконец наверстать упущенное. Я выступил с двумя концертами в «Саль Плейель» в Париже и пел в четырех операх в «Ковент-Гардене» в Лондоне.
Моя первая встреча с французской публикой и французскими критиками оказалась менее счастливой, чем последующие, когда у нас была возможность познакомиться друг с другом поближе. Мне не удалось в первый раз установить с публикой «Саль Плейель» тот контакт, который так легко возникал у меня обычно на всех моих концертах. Ясно было, что тут речь шла о самой требовательной публике, с какой мне только приходилось встречаться. Я был немало смущен, когда увидел, что в газетных отчетах меня ругают за «сценические недостатки», что на меня сыплется град упреков и обвинений за «отсутствие стиля» и плохой вкус, когда я включал в программу «Серенаду» Тозелли или «О мое солнце». Хорошо, решил я со вздохом, уезжая в Лондон, ясно одно – этот первый визит в Париж благотворно сказался на моем характере и вместо того, чтобы испугаться, я набрался смелости завоевать публику. И все же я был удручен. Я только твердо решил, что в следующий раз сумею сделать так, чтобы и французы оценили меня.
Холодный прием в Париже насторожил меня, и я с некоторой робостью ожидал первого выступления в Лондоне: что уготовит мне судьба при встрече с «холодными англичанами»? К моему великому облегчению, я нашел, что они вовсе не холодные, а только немного тугодумные. В «Ковент-Гардене» я дебютировал в «Андре Шенье» вместе с Маргарет Шеридан. Когда я спел арию «Однажды глядел с восторгом на небеса я...», аплодисменты прервали спектакль, и я вынужден был повторить ее. А когда я вышел после спектакля из театра, толпа взяла приступом какой-то автомобиль, решив по ошибке, что в нем еду я. Потом я пел в «Тоске». Прозвучала последняя нота арии «Сияли звезды», и я думал услышать аплодисменты, но их не было. Я был так напуган и удручен, что с трудом допел до конца акта. Что могло случиться?
В других оперных театрах эта ария никогда не проходила без повтора, если только я соглашался бисировать, а если нет, то все равно спектакль прерывался из-за аплодисментов по крайней мере минут на десять. А тут вдруг никаких аплодисментов! Это казалось мне просто несчастьем. Ведь раньше никогда не было такого! Чем я не угодил английской публике? Когда же спектакль окончился и занавес опустился, на меня обрушился буквально шквал аплодисментов. Они разразились, словно буря, словно прорвавшаяся сквозь плотину вода. Меня вызывали и вызывали непрестанно. Но почему же не было аплодисментов во время спектакля? Неужели публику не тронула ария «Сияли звезды?» Тайна открылась мне лишь на следующее утро, когда я развернул газету. Критика хвалила публику за «хорошие манеры» – ведь она сумела сдержать аплодисменты при поднятом занавесе и не прерывала спектакль!
Теперь я понял все. После арии «Сияли звезды» музыка продолжает еще звучать некоторое время. И это очень удобная, я бы сказал – пауза для аплодисментов, как и после «импровизации» в «Андре Шенье». Я был глубоко восхищен культурой зрителей, тонким пониманием, где и когда нужно аплодировать. Но, увы! Все это никак не отвечало простой человеческой слабости, свойственной певцам!
К счастью для меня, публика «Ковент-Гардена» все же иногда забывала о «хороших манерах». Несколько лет спустя, во время представления там же «Тоски» мне пришлось спеть арию «Сияли звезды» три раза подряд.
Кстати сказать, мне всегда доставляло большое развлечение читать отчеты английских критиков. У них я всегда узнавал о себе что-нибудь новое и удивительное.
«Каждая его нота – это новенькая, только что отчеканенная монетка, – писал один английский критик, расхваливая мой дебют в «Ковент-Гардене»,– и Джильи так бросает их на стол одну за другой, будто это золотые соверены».
Другой критик в подобной же ситуации нашел сравнение, которое понравилось мне еще больше: «Джильи поет всем своим телом, активно и в то же время без всяких усилий, словно хороший игрок в теннис, делающий подачу».
После таких откровений я начинал видеть себя совсем в другом свете.
Во время первого моего сезона в «Ковент-Гардене», кроме «Андре Шенье» и «Тоски», я пел еще в «Марте» и «Травиате». Роза Понселле была великолепна в «Травиате», но в целом эти спектакли были подготовлены плохо, на скорую руку – не сравнить с тем, как это делалось в «Метрополитен». Когда впоследствии я не раз приезжал в Лондон, я находил, что постановки стали лучше.
У меня сохранилось много добрых воспоминаний об этом первом пребывании в Лондоне и о гостеприимстве англичан. Особенно запомнились воскресные вечера во дворце сэра Луиса и леди Штрилинг в С.-Джонс Вуд, где собирались известные артисты и представители английской общественности. Я помню, мы с Джоном Бринкватером нашли там даже общий интерес: выяснилось, что оба увлекаемся коллекционированием марок.
Летом того же года я дал много благотворительных концертов и открыл тогда для себя новые великолепные подмостки для представлений на открытом воздухе, которые были созданы в Италии еще много веков назад. Площадь св. Марка в Венеции и античный амфитеатр в Вероне утке были для меня такими потрясающими открытиями. На этот раз я снова пел на площади св. Марка, где собралось двадцать тысяч человек. Но я не знал еще тогда о существовании садов Боболи во Флоренции, и это тоже было для меня ново – петь в сопровождении соловьиного хора. Я понял, что празднества в садах Боболи – старинная традиция, восходящая еще к далеким временам, когда Флоренцией правили Медичи. Тогда в этом саду давались большие концерты – по случаю бракосочетания Анны Медичи с Фердинандом Австрийским в 1652 году и Козимо III с Маргаритой Орлеанской. А когда во Флоренцию приплыли с официальным визитом эрцгерцог Франческо ди Лорена и неаполитанский король Фердинанд IV, на празднество в сады Боболи были собраны все самые известные кастраты. Наслушавшись этих полуфантастических рассказов, я бродил по садам, и казалось, будто я вижу освещенные луной призраки прошлого, движущиеся по кипарисовым аллеям и проходящие под самшитовыми аркадами.
Последний концерт, который я дал перед отъездом в Нью-Йорк в конце августа, состоялся во дворе замка «Маскьо Анджоино» в Неаполе; это была большая средневековая крепость, построенная еще анжуйскими королями. Концерт был благотворительный – в пользу жертв недавнего землетрясения. Чтобы придать событию более торжественный вид, все огромное здание крепости было украшено красным бархатом и золотистой камчой. У входа трубили герольды, одетые в костюмы эпохи Возрождения, возвещая о прибытии кузенов короля – герцога и герцогини Аостских, которые тоже приехали послушать меня.
Я с нетерпением ждал случая снова побывать в Сан– Франциско, где попытка маэстро Мерола создать любительский оперный театр нашла хорошую почву и превратилась в ежегодную традицию. Спектакли такого рода стали большим событием в культурной жизни города. Я хорошо отдохнул, был доволен тем, как провел лето, и не предчувствовал ожидавшего меня несчастья.
Наверное, судьба всегда слишком благоволила ко мне, потому что несчастья всегда были для меня неожиданными. Очевидно, именно это и было милостью судьбы – то, что она избавляла меня от мучительного ожидания конца моих близких и освобождала от похоронных забот. Но ни то, ни другое не могло утешить меня, когда 24 сентября 1930 года, за несколько мгновений до выхода на сцену в «Манон» в «Аудиторио чивико» в Сан-Франциско, мне передали телеграмму, сообщавшую о смерти матушки.
Всего несколько недель назад, расставаясь с ней в Реканати, мы обнялись и расцеловались, и я очень уверенно сказал ей: «До будущего года, матушка!» Я не видел тогда ни малейшего признака, свидетельствующего о том, что здоровье ее пошатнулось. Скончалась она быстро и спокойно. Вокруг нее находились ее дети и внуки. Жизнь нередко довольно круто обходилась с ней, но смерть была милостива. Матушке исполнилось восемьдесят три года. Я не мог гневаться на судьбу. Несмотря на это, потеря ее была самой тяжелой утратой в моей жизни. Никакие другие человеческие отношения не могли заполнить впоследствии образовавшуюся пустоту. Никакие радости, ожидавшие еще меня в жизни, не могли рассеять то мрачное облако, которое окутало мою жизнь в тог вечер в Сан-Франциско. После смерти матушки мне оставалось в жизни только одиночество.
Я задержался немного в моей уборной. Я сидел, охватив голову руками, и с изумлением смотрел на телеграмму. Я не мог позволить себе плакать, потому что прекрасно понимал: если это случится, я уже не смогу успокоиться. Тогда я вышел на сцену и запел.
ГЛАВА XXXIX
В течение сезона 1930/31 года «Метрополитен» ощущал холодное веяние депрессии. Очень много абонементов осталось не распродано, очередь у кассы становилась все реже. Не многие нью-йоркцы могли позволить себе роскошь бывать в опере. Разные слухи и россказни сменялись одни другими. Труппа чикагского оперного театра обанкротилась. Выдержит ли «Метрополитен» этот ураган? Большинство – так велика была уверенность, которую вселял Гатти-Казацца, – нисколько не сомневалось в этом.
В театре, между тем, все шло, как обычно, «Метрополитен» пополнялся новыми силами. Мне пришлось в этом сезоне петь с двумя молодыми, довольно сенсационными сопрано – Лили Понс и Грейс Мур. Это был их дебют в Нью-Йорке. Выводить молодых певцов на сцену и быть свидетелем их успехов – всегда представляло для меня особое удовольствие. Я никогда не забывал волнений и мучений своих первых выступлений.
Лили Понс впервые пела в Америке, и ее, по существу, еще никто не знал. Она родилась в Каннах, была наполовину француженка, наполовину итальянка. Открыл ее тенор Джованни Занателло, когда пел в маленьком оперном театре в Монпелье. Он же рекомендовал ее Гатти-Казацца. После дебюта 3 января 1931 года в «Лючии ди Ламмермур» она сразу же приобрела заслуженную известность. Лили Понс была наделена романтической красотой, примерно в стиле Лилиан Гиш.[40]40
Знаменитая киноактриса.
[Закрыть] Толос ее отличался поразительной широтой диапазона. Она смело переходила от самых верхов к нижнему фа. Самый сильный момент в ее исполнении партии Лючии – это сцена сумасшествия. Публика была в восторге, и аплодисменты разразились невероятные. На спектакле присутствовал поэт Поль Клод – французский посол в Вашингтоне. На другой день критики приветствовали Лили Понс самыми пышными выражениями из своего словаря, но с одной оговоркой – она не Патти.
С Грейс Мур я пел в «Манон» 11 марта 1932 года. Ей не хватало такой широты диапазона, как у Понс, но она тоже была удивительно красива. И – что особенно важно – весь облик ее отличался необычайной грацией и нежностью. Ее трагический конец несколько лет спустя был для меня тяжелым ударом.
6 марта я пел партию Осаки в «Ирис» – японской опере Масканьи, которая вновь была поставлена в «Метрополитен» спустя шестнадцать лет. Я пел до сих пор эту партию только раз – четырнадцать лет назад в Турине. Когда эта опера ставилась в «Метрополитен» впервые – 16 октября 1902 года, – Масканьи сам дирижировал, и опера имела большой успех. Популярность ее сохранялась и тогда, когда в ней пел Карузо – в 1908 году, и в 1915 году, когда ею дирижировал Тосканини. Но вкусы изменчивы, нельзя не признать этого. Наша постановка была полным провалом. Ни критики, ни публика даже не пытались скрыть свое разочарование. «Безвкусная и посредственная опера, – таков был короткий приговор, – хотя певцы и сделали все что могли». Другой критик ставил вопрос иначе, возможно, в какой-то мере и правильно, но я все же не был расположен подписаться под всем тем, что он говорил. «Я согласен, – писал он, – что немногие новые оперы стоит оставлять в репертуаре. Но разве неверно, что даже самая эфемерная и спорная постановка современной оперы была бы предпочтительнее постановки какой-нибудь другой оперы, в которую нельзя, по-видимому, вдохнуть жизнь и которая не может представлять большого интереса для современной публики?»
Жизнь всегда полна неожиданностей, и я снова убедился в этом во время обычного зимнего турне. Я должен был петь на одном приеме в «Майфлауэр-отель» в Вашингтоне. И так как я случайно остановился как раз в этой гостинице, то решил пройти в концертный зал самым коротким путем – через кухню. Сам того не замечая, просто так, чтобы попробовать голос, я пропел на ходу пару куплетов какой-то песенки. Вдруг я услышал чей-то разгневанный окрик: «А ну, кончайте этот кошачий концерт!» Я ужасно испугался и тотчас замолчал. Кричал шеф-повар швейцарец Майфлауэр. Он решил, что это кто-нибудь из его поваров вздумал петь, вопреки правилу, запрещавшему пение во время работы!
Когда 6 мая я отплыл на «Аквитании» в Европу, оказалось, что на этом же пароходе едет один очень важный пассажир – губернатор Франклин-Д. Рузвельт. И мы с Розой Понселле дали концерт в его честь.
Сезон в «Ковент-Гардене» в мае-июне 1932 года был знаменателен великолепными спектаклями вообще и участием Шаляпина, в частности. Я пел «Риголетто» с английской сопрано Ноэль Нади, в «Богеме» с Одетт де Ферас и Мариано Стабиле.
Из Лондона я отправился в Париж, где выступил с большим успехом, чем раньше, в «Саль Плейель». Из Парижа я уехал в Берлин и пел там в «Травиате» в «Штаатсопер». Затем я вернулся в Италию.
Когда я приехал в Нью-Йорк, в октябре 1931 года, я застал там напряженную обстановку ожидания и тревоги. Только что подал в отставку с поста президента общества «Метрополитен» Отто-Х. Кап. Он занимал этот пост с 1918 года. Вместо него был выбран Поль– Д. Крават. Гатти-Казацца и Крават вынуждены были опубликовать официальное опровержение слухов, уже подхваченных газетами, о том, будто «Метрополитен» на грани банкротства.
Я разделял опасения и тревоги моих коллег по поводу того, что было важно для всех нас. Но в то время я не подозревал, что скоро мне придется принимать какие-то серьезные решения, так же как не предполагал, что мой предстоящий, двенадцатый по счету, сезон в «Метрополитен» будет моим последним сезоном в этом театре.
Я по-прежнему выполнял свои обязанности, то есть делал примерно то же, что и всегда. Вместе с Лукрецией Бори открыл 4 ноября сезон в Филадельфии оперой «Манон» и сразу же после этого оперой «Любовный напиток» – сезон в «Метрополитен». Гатти– Казацца давно уже ввел в театре традицию выезжать со спектаклями в пригороды Нью-Йорка. И поэтому 13 ноября я пел в Уайт Пленсе в «Мадам Баттерфляй». Затем я снова пел в «Метрополитен» – в «Дон-Жуане», в Бруклине (штат Коннектикут) – в «Джоконде» и в Харфорде в «Травиате». В пользу итальянской больницы в Нью-Йорке я пел в «Африканке», а в «Миньон» – в пользу медицинской миссии в Тренфиле на Лабрадоре.
После концерта в Бостоне, 13 декабря, публика устроила мне настоящую осаду: собралось двенадцать тысяч человек... Затем я принял участие в традиционном празднике «Санто-Стефано» в «Метрополитен». И, как это было принято у солистов, каждому из 119 хористов, 93 оркестрантов и 40 служителей сцены, гардероба и посыльных я подарил какую-нибудь золотую вещицу – запонки, браслет или что-нибудь в этом роде.
1 января 1932 года мы с Лукрецией Бори пели в дневном спектакле в «Метрополитен». Давали «Богему», и спектакль транслировался по радио. В те времена такие опыты еще только начинались. Успех передачи превзошел все ожидания. Слушали ее миллионы радиослушателей, и нас буквально засыпали поздравительными и благодарственными письмами. Это обрадовало дирекцию, и она решила регулярно каждую субботу транслировать оперу по радио. Да первые три месяца это принесло театру доход в 150 тысяч долларов. Кроме того, радиопередачи служили хорошей рекламой и привлекали к нам новых зрителей. В этом отношении характерен такой случай. Во время дневного представления «Богемы» 1 января в кассу театра примчалась какая-то женщина и немедленно потребовала у кассира билет. Кассир заметил ей, что спектакль давно начался, что прошла уже половина спектакля.
– Я знаю! Я знаю это! – воскликнула женщина. – Я слушала оперу по радио. Это было так великолепно, что теперь хочу дослушать остальное здесь!
В январе и феврале 1932 года я, как всегда, отправился с концертными гастролями по всему континенту от Атлантики до Тихого океана. К большому удивлению, я не заметил, чтобы в условиях кризиса здесь стали меньше ходить в оперу. Во всех городах – от Торонто до Чикаго, от Сан-Франциско до Нового Орлеана, от Эль Пасо в Техасе до Каламазоо в штате Мичиган билеты во всех театрах всегда были раскуплены.
16 марта 1932 года я вышел на сцену в новой роли – пел партию Эльвино в опере Винченцо Беллини «Сомнамбула». Этой партии суждено было стать моей последней новой работой в «Метрополитен». И хотя в этой опере есть самые волнующие страницы чуть ли не всего оперного репертуара, такие арии, как «Ах, не думала увидеть тебя...» или изумительный дуэт II акта, – «Сомнамбула» все же ставится редко, и по той простой причине, что главная партия, сопрано – очень трудна, настолько трудна, что редко даже встречаются голоса, которые могут справиться с ее сложностями. Это была, по правде говоря, очень подходящая опера для того, чтобы подчеркнуть все необычайные достоинства таланта Лили Понс. В то же время Гатти-Казацца нашел отличный предлог, чтобы отметить юбилей: впервые опера была поставлена 101 год назад. В театре «Метрополитен» она ставилась в первом его сезоне – в 1883 году. В ней пели тогда Марчелла Зембрих и Итало Кампанини. Карузо и Марчелла Зембрих пели затем в этой опере в 1906 году. Впоследствии она возобновлялась еще дважды – в 1916 году (с Марией Берриентос), в 1919 году (с Эльвирой де идальго).
«Сомнамбула» в одном отношении очень схожа с «Дон-Жуаном». В таком большом театре, как «Метрополитен», невозможно выявить все ее достоинства. Красота оперы, нежная, прозрачная, требует в идеале менее просторного помещения и более интимной обстановки. И все же Лили Понс, несмотря на это, поразительно исполняла партию Амины. Насколько хрупким и целомудренным было это олицетворение нежной и юной женственности, настолько же блестящим и виртуозным было замечательное звучание ее голоса. Постановка оперы удалась, несмотря на все трудности и неудобства. Мне лично очень нравилась моя партия влюбленного, страдающего из-за героини-сомнамбулы. И, отдавая весь свой голос во власть гармоничных изгибов мелодики Беллини, я с необычайной радостью ощущал, что достигаю цели. Но я также прекрасно понимал, что на этот раз лавры предназначались не мне.
Сезон подошел к концу, как обычно, в апреле. На последнем спектакле – в «Африканке» – я пел вместе с Элизабет Ветберг. Серафин дирижировал со свойственной ему живостью, а я, как всегда, заслужил аплодисменты после арии «О, чудный край». Все было в порядке. И все же, хоть я и не был еще в этом уверен, Это было мое прощание с «Метрополитен».
Кризис в конце концов наступил. В начале апреля 1932 года президент «Метрополитен» Поль-Д. Крават распространил официальное сообщение. «Уменьшение сборов в связи с финансовой депрессией в стране, – говорилось в нем, – практически поглотило весь капитал театра, составлявший 550 тысяч долларов, а также большую часть ресурсов, таким образом не оставалось больше средств, чтобы обеспечить следующий сезон.
Необходимо, – гласил документ,– напряженное усилие, чтобы выработать план сокращения расходов и другие меры с тем, чтобы, несмотря на трудности, можно было провести в Нью-Йорке следующий театральный сезон».
В то же время стало известно, что всем без исключения служащим «Метрополитен» – от солистов до статистов – предлагалось, если будет решено провести сезон 1932/33 года, добровольно согласиться на сокращение гонорара на 25 процентов. Это было основной мерой экономии, предлагаемой во избежание закрытия театра. До этого, в декабре, уже было проведено одно такое «добровольное» сокращение гонораров на 10 процентов.
Эти решения и оказались тем ножом, который разрубил все узлы, связывавшие меня с театром. Тогда мое поведение очень осуждали, и это раздражало меня. Но только теперь я могу более объективно разобраться во всем, что произошло, и должен признать, что в какой-то мере мои критики были правы. Я поступил неразумно и главным образом неэтично. Люди ведь не могут знать, что скрывается за внешней видимостью поступков, а все они были не за меня. Получалось так, будто после счастливого и плодотворного сотрудничества, длившегося двенадцать лет, я решил покинуть «Метрополитен» в самый трудный для него час, и только из-за денег.