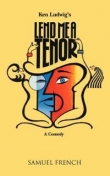Текст книги "Воспоминания"
Автор книги: Беньямино Джильи
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц)
ГЛАВА IX
Назначение в Ливию могло стать приятной переменой в моей жизни. Но дело в том, что до Ливии я так и не доехал. Я упустил, таким образом, единственную возможность стать героем и украсить свою грудь орденами. (Может быть, правда, возможность эта была не так уж и реальна...) Словом, я так и не увидел ни верблюдов, ни арабов, ни пустыни. Вместо этого мне пришлось служить мессы, петь мотеты и питаться жирными куриными ножками, которыми пичкали меня медицинские сестры.
Когда мы приехали в Неаполь, нас разместили в больших казармах. Со всей Италии продолжали прибывать сюда все новые и новые воинские части, и все они оставались в Неаполе в ожидании, пока их переправят через море в Триполи. Так прошла одна неделя, другая, третья. Дисциплина в казарме несколько поослабла, и чтобы как-то развеять скуку и просто так, ради упражнения, я стал петь. Я пел с утра и до вечера почти непрерывно. Однажды, стирая белье, я распевал во весь голос «Та иль эта, я не разбираюсь...». Меня услышал один сержант-неаполитанец из санчасти. По собственной инициативе, не сказав мне ни слова, он переговорил обо мне, как я узнал впоследствии, с одним из старших офицеров. В результате меня перевели из Неаполя в военный госпиталь в Казерте.
– Говори всюду, что у тебя что-нибудь болит, – советовал мне сержант.
– Но чего ради? – удивлялся я. Вся эта история казалась мне просто глупой, даже идиотской выходкой военного бюрократа.
– Я не могу тебе объяснить сейчас, но ты не беспокойся, – добавил сержант загадочно. – Все это делается для твоего блага.
Когда я прибыл в госпиталь, мне указали койку в одной из палат. Первые дни я пытался следовать совету сержанта и продолжал жаловаться на острые боли. К концу недели я заметил, однако, что доктор, некий майор Маттиоли, не очень-то всерьез принимает мои жалобы.
– Ну как, господин тенор? – весело спрашивал он меня. – Что у тебя сегодня болит?
– Я не могу пошевелить левой рукой, господин майор, – отвечал я жалобным голосом.
– Да, это, конечно, серьезно, – говорил майор, подмигивая мне, – но я все же думаю, что ты мог бы подняться с постели и пройтись немного, а? Может, ты попробуешь встать и подойти ко мне?
К концу второй недели я уже перестал считаться больным, и меня назначили, хоть и неофициально, ассистентом майора Маттиоли. Я ходил с ним в обходы по палатам, записывая его замечания у кроватей больных, и затем переписывал все это начисто, то есть вел своего рода истории болезни. А когда майор узнал еще, что я работал в аптеке, он вообще отдал мне ключи от своего шкафа и велел поддерживать в нем порядок.
Все это было очень приятно, но я по-прежнему не понимал, почему так происходит. А как же мое назначение в Ливию? Наконец я прямо спросил у майора:
– Не сочтите за дерзость, но, может быть, вы объясните мне, что я тут делаю?
Майор усмехнулся:
– Можешь благодарить свой бесценный голос. Кто-то решил, видимо, что он такой драгоценный, что тебя не следует посылать в Ливию. Пески пустыни могут, наверное, повредить твои голосовые связки, так я, полагаю.
– А как же мой полк?
– Полк? Он уже три дня как отправился в Ливию.
Я собирал все свое мужество, чтобы не струсить в самый трудный момент. А теперь оказывалось, что войны для меня не стало. Мне не много понадобилось времени, чтобы свыкнуться с этой мыслью. Моя новая жизнь была очень удобной, а приспособиться к удобствам обычно не составляет труда. У меня не было никаких забот и никакой ответственности ни за что. Все было – прелестная неопределенность. И я решил относиться ко всему с оптимизмом.
Меня очень приободряли в этом еще и медицинские сестры, которые правили госпиталем. Ни одна из них не могла понять, почему меня держат здесь так долго, и все считали поэтому, что у меня, должно быть, какая-то тайная болезнь. Но поскольку я все же был в состоянии служить мессу и петь в капелле, я скоро стал общим любимцем.
Сестры баловали меня, кормили, одаривали всякого рода лакомствами. Очень большое впечатление произвела на них моя доброта: с тех пор как стало ясно, что об уроках пения не может быть и речи, я решил сам давать уроки пения выздоравливающим больным. Я обнаружил тогда, что преподавание – очень полезное дело. Оно помогает уяснить многое самому себе.
С тех пор как я уехал из Рима, я стал постоянно писать Иде. Поначалу она отвечала мне сразу же и очень сердечно. Потом письма стали приходить реже. По те немногие, которые я еще получал, были по-прежнему искренними и сердечными. Наконец без всякого объяснения, она перестала писать совсем. Мы не виделись уже три месяца. Я слишком хорошо знал ее, чтобы поверить, что чувство ее могло угаснуть так быстро. Я догадывался, что с ней происходит что-то серьезное. И тут я почувствовал, что меня раздражает эта жизнь, состоящая из сплошных развлечений, и что мне не терпится снова вернуться в Рим.
– Сколько я еще должен сидеть тут? – сердито спросил я у майора Маттиоли.
– По-моему, не так уж плохо тебе живется тут?
– Не спорю. По теперь у меня есть причины, по которым я хотел бы уехать.
– Если я не буду держать тебя в госпитале, то кто-нибудь возьмет и пошлет тебя по ошибке в Ливию. А мне поручено сделать все, чтобы этого не случилось. Но я мог бы, пожалуй, послать тебя на некоторое время на поправку домой, в Реканати. Тебя устраивает это?
– Я очень благодарен вам, господин майор, – пробормотал я смущенно. – Но не мог бы я съездить в Рим?
– Очень жаль. Нет. Либо Реканати, либо никуда больше. Боюсь, что ничего другого я не могу сделать. Подумай.
В любом другом случае я бы ухватился за такую возможность повидать матушку. Но сейчас меня мучила мысль об Иде, и ничто другое в этот момент не имело для меня значения. Хоть на один день съездить в Рим! На один только день! Даже одного часа достаточно! Мне нужно было только увидеть ее, выяснить, что происходит, и успокоиться. Будь у меня немного денег, я мог бы отправиться в Реканати, заехав сначала в Рим. Но поездка эта продлилась бы значительно дольше и стоила бы гораздо больше того, что я мог собрать.
Утром следующего дня я получил письмо от матушки, и когда открыл конверт, из него что-то выпало. Это оказались пять лир. Пять лир – столько я получал за пятьдесят дней службы в армии, и, конечно, это было для меня целым состоянием. Но я прекрасно понимал, что пять лир – ничто для министерства железных дорог. Я подсчитал, и оказалось, что для поездки в Рим нужно, по крайней мере, пятнадцать лир. Пять лир были, конечно, ниспосланы мне судьбой, но судьбой, недостаточно предусмотрительной. Я долго смотрел на деньги, размышляя. Затем в отчаянии отправился в табачную лавку и истратил все пять лир на сигареты и табак.
В госпитале категорически запрещалось курить, но правило это не очень соблюдалось, хотя лежачим больным было крайне трудно доставать табак. Я знал, что сами они не могут купить его и поэтому всегда готовы переплатить немного за него. Я решил извлечь пользу из этой ситуации. Это было, конечно, не очень красиво, но нестерпимое желание увидеть Иду заставило меня отбросить всякую щепетильность.
Три ночи подряд, когда предполагалось, что все уже спят глубоким сном, я обходил палаты и предлагал свой товар. Трех ночей хватило, чтобы я продал все до последней сигареты, и пять лир превратились в пятнадцать – ровно столько мне и нужно было.
– Я передумал, господин майор, – сказал я майору Маттиоли на другой день. – Я бы все же не отказался съездить в Реканати.
По воинскому проездному билету я мог ехать только в скором поезде. Покинув Неаполь поздно вечером, я приехал рано утром в Рим. Еще задолго до восьми часов я прогуливался перед центральной телефонной станцией, ожидая, пока Ида придет на работу. В девять она все еще не появлялась. Наконец, не выдержав, я пошел на станцию и спросил о ней.
– Она уже несколько месяцев не работает здесь, – сказала мне одна из девушек. – Мы не знаем, что с ней случилось. В последнее время она была какой-то странной.
Встревоженный, я побежал к ней домой. Ее мать встретила меня ледяным взглядом.
– Иды нет, – сказала она. – Прошу вас, уйдите.
– Скажите, где я могу видеть ее? – взмолился я.
– Боюсь, что это невозможно.
– Но я должен видеть Иду! Понимаете, мне нужно видеть ее! Я специально приехал в Рим. Прошу вас, позвольте мне увидеть ее только раз!
– Ида в больнице. У нее сильное нервное истощение. И мы очень обеспокоены. Доктор категорически запретил всякие визиты. Малейшее волнение по любому поводу может причинить ей много вреда. А теперь уйдите, пожалуйста.
Слезы текли у меня по щекам. Я даже не пытался сдержать их. Мне хотелось хоть как-нибудь тронуть сердце этой женщины.
– Хорошо, – согласился я. – Но скажите мне хотя бы, где она лежит, чтобы я мог послать ей цветы.
Слезы подействовали. Очень неохотно она все же дала мне адрес. Это была маленькая частная клиника на виа Джаниколо.
Я положил букетик цветов на кровать и ждал, что Ида улыбнется, заплачет или откроет мне свои объятия. Но Ида отвернулась от меня.
– Ида, дорогая, это я.
– Зачем ты пришел? – спросила она наконец. Голос у нее был усталый и слабый, звучавший, словно далекое эхо.
– Ты перестала писать, и я понял, что должен приехать.
– Но разве ты не понимаешь, – устало промолвила она, – что это уже ничего не изменит? Все кончено. Я уступила.
– Что это значит?
– О, я боролась! Бесконечно боролась. Но они сказали, что я убью их. И мне пришлось уступить в конце концов.
– Но кто это «они»?
– Родители, разумеется. Не могут девушки спорить с родителями. Не по правилам это. И тогда я уступила. Потом я очень болела. Я часто теряла сознание. Теперь уже все прошло. Мне лучше. Но я обещала им. Прошу тебя, Беньямино, уйди.
– Что ты обещала, что?!
– Не видеть тебя больше, не писать тебе. Не выходить за тебя замуж.
– Но почему? Что я такого сделал?
– О, ничего. Ты беден. Они говорят, что ты кончишь тем, что будешь петь на улице... О, я-то прекрасно понимаю, что это не так. Но будь у тебя какое-нибудь настоящее ремесло, я могла бы еще спорить
с ними. Как бы то ни было, теперь все кончено. Мне очень жаль, Беньямино. Не усложняй дело. Прошу тебя, уйди и забудь меня.
– Но, Ида... – начал я. Она повернула голову и посмотрела мне в глаза. Я вздрогнул.
– Не настаивай, – медленно произнесла она. – Это не поможет. Я теперь другая. Я больше не люблю тебя.
Я стоял и долго смотрел на нее, не веря... Наконец, я выбежал из комнаты.
С тех пор я больше никогда не видел ее.
ГЛАВА X
Месяц, проведенный в Реканати, очень помог мне. После разрыва с Идой целебным бальзамом была для меня любовь матушки. Я снова почувствовал себя ребенком, которого окружили заботой и лаской. И вдруг, словно электрический разряд – известие: в конце месяца мне надлежит явиться в Рим и занять свое место у телефона в штабе гарнизона. Но как я буду жить в Риме без Иды? Как жить там, зная, что она совсем рядом, а я не могу даже видеть ее?!
Никогда еще не чувствовал я себя таким одиноким. Единственным моим утешением было милое и родное лицо полковника Дельфино. Прежних моих товарищей уже не было в казармах – все они давно сражались в Ливии; Катерво занимался скульптурой в Карраре; Джованни Дзерри исчез; синьора Бонуччи была невероятно сердита на меня; и у меня не было денег, чтобы продолжать занятия у профессора Мартино.
Когда у меня бывало свободное время, я часто прогуливался по виа Паолина – это рядом со штабом
гарнизона. И я не мог не приметить одну светловолосую девушку, которая проходила по этой улице каждый день всегда в одно и то же время, видимо, возвращаясь домой. Я заинтересовался ею.
Прошло несколько недель. Мы стали уже говорить друг другу: «Добрый вечер!». Однажды я проводил ее немного. Она назвала мне свое имя – Костанца Каррони. Отец ее был маклером по сельским делам: он ссужал деньги крестьянам в обмен на право купить их будущий урожай раньше других. По старой традиции он занимался своим ремеслом у фонтана на площади Пантеон. Что касается Костанци, то она работала в редакции газеты «Ла Трибуна» – надписывала там адреса подписчиков.
Я не забыл Иду, но все, что случилось, слишком задело мою гордость. С Костанцей я не чувствовал себя больше таким одиноким. Очень скоро после того, как мы познакомились, я предложил ей обручиться. Я объяснил, что пожениться мы сможем, однако, очень нескоро. И хотя я мог предложить ей только свою бедность и надежды на будущее, она согласилась.
Между тем время шло, а я все еще не занимался пением. Служба в армии должна была кончиться в ближайшие месяцы, и мне надо было искать какую-то работу. Казалось, жизнь так и хочет, чтобы я начинал все с начала.
Я записался в число кандидатов на вакантную должность в административном управлении муниципалитета. Тягостно было сознавать, что моей школьной подготовки совершенно недостаточно для этого. Но мне казалось, все же, что в армии я кое-чему научился, и, может быть, этого хватит. Явившись на экзамен, я посидел там с часок, совершенно подавленный, уставившись в листок с арифметической задачей. Она была, по-видимому, совсем нетрудной, но для меня это было все равно, что китайская грамота. Наконец на нетронутом листке бумаги, где должно быть изложено решение задачи, я изобразил музыкальную ноту и начертал слегка видоизмененную строчку из арии Каварадосси: «Как светлый сон, исчезла... служба!». Затем я вручил листок экзаменатору и удалился.
И снова мне пришлось обратиться за помощью к полковнику Дельфино. Он обещал не терять меня из виду и посоветовал ни о чем не беспокоиться.
– Кстати, а как дела с пением? Не забудь, что ты обещал мне ложу в опере!
Я объяснил ему, что пока у меня нет денег, чтобы брать уроки.
– Ну ладно... А впрочем, подожди-ка! Ведь тебе, наверное, могли бы помочь как-нибудь в академии Санта Чечилия. Почему бы тебе не сходить туда и не поговорить?
Академия Санта Чечилия – знаменитая и высокочтимая музыкальная школа в Риме. Мне даже в голову не приходило, что я могу иметь к ней какое-нибудь отношение. Однако я последовал совету полковника и отправился в академию. Узнав, что там скоро начнутся конкурсные приемные экзамены, я решил принять в них участие.
Нас было семнадцать человек конкурентов. На экзамене я пел арии из «Марты» Флотова и из «Луизы Миллер» Верди и закончил арией из «Мефистофеля» – «Вот я и у предела...». Я чувствовал себя довольно уверенно, как вдруг возникло одно обстоятельство, которого я никак не мог предвидеть: экзамен по фортепиано. Нечего было и думать, чтобы выйти из положения с помощью какой-нибудь авантюры. Поэтому я честно сказал экзаменаторам, что единственный инструмент, на котором я умею играть, – это саксофон.
Я был так подавлен, что предпочел бы не ждать результатов экзамена, но поскольку никто не уходил, я решил, что совсем скомпрометирую себя, если уйду. Пришлось долго ждать, пока экзаменаторы составляли приемный акт. Наконец появился директор академии профессор Станислао Фальки. Поднявшись на возвышение, он стал вызывать кандидатов одного за другим; сердце у меня оборвалось, когда я понял, что обо мне он будет говорить в последнюю очередь.
– Кандидат Беньямино Джильи, – торжественно начал профессор, – явился на экзамен, не имея элементарных сведений о фортепиано, не умея играть на нем. Мы все отлично знаем, что никто не может быть принят в академию без знакомства с фортепиано. – Он сделал паузу, бросил на меня суровый взгляд и продолжал: – Тем не менее на экзаменационную комиссию вокальные и артистические способности вышеназванного кандидата произвели столь сильное впечатление, что она решила сделать для него исключение. – Профессор снова прервал чтение – на этот раз, чтобы улыбнуться мне. – Я рад сообщить, – закончил он, – что Беньямино Джильи занял на конкурсе первое место, и ему присуждается стипендия шестьдесят лир в месяц.
Занятия в академии должны были начаться только осенью, а моя военная служба подходила уже к концу. Полковник Дельфино посоветовал мне провести лето в Реканати.
– Родители твои, конечно, не молодеют, – сказал он. – Побудь немного с ними. Они будут рады. Потом тебе надолго придется расстаться с ними. Пусть матушка покормит тебя вкусным супом, а ты надышись там как следует чистым воздухом. Не забывай, что тебе предстоит немало потрудиться, и это будет тяжелый труд.
Он обещал написать мне, как только услышит о какой-нибудь подходящей работе, имелась в виду работа на полдня, чтобы пополнить как-то мою скромную стипендию.
Это было золотое, беззаботное лето. Во время своего предыдущего приезда в Реканати я, можно сказать, носил траур по Иде – даже редко выходил из дома. Теперь же я с радостью возвращался к детству, воскрешая те славные дни, когда забирался с отцом на колокольню и помогал ему звонить в колокола или уходил гулять с доном Романо далеко за город до самого холма «Инфинито»; когда маэстро Лаццарини учил меня петь мотеты под аккомпанемент органа; когда я болтал с мастро Паро в его мастерской или играл на саксофоне в оркестре маэстро Баттелли, а синьор Вердеккья, хозяин аптеки, предлагал мне рюмочку своего анисового ликера. Столичному жителю, каким я стал теперь, прежняя провинциальная жизнь представлялась безмятежной, спокойной, полной мечтаний. Бесконечно жаль будет расставаться с этой жизнью, когда подойдет время. Мне нужно было некоторое усилие воли, чтобы вспомнить, что в Риме меня ждет театр «Костанци» и что я уже на половине пути к тому, чтобы стать певцом.
ГЛАВА XI
Мой брат Катерво снова жил теперь в Риме. Он женился и снимал квартиру на виа деи Понтефичи. Он предложил мне свое гостеприимство, но на этот раз уже не могло быть и речи о прежней «богеме». Мы становились благоразумными, респектабельными горожанами. Анджело Занелли предложил Катерво сделать несколько эскизов для «Алтаря Отчизны» – огромного монументального сооружения – памятника Виктору– Эммануилу II, который теперь является одним из самых характерных украшений Рима. Что касается моих дел, то полковник Дельфино сдержал свое обещание и нашел мне место техника-ассистента в фотографическом отделе министерства просвещения: работать там нужно было только полдня, а жалованья полагалось 60 лир в месяц. Вместе со стипендией это составляло 120 лир. Я никогда не был таким богачом.
По утрам я занимался в академии. Моим преподавателем был великий баритон Антонио Котоньи[9]9
Антонио Котоньи (1831-1918) – итал. певец (баритон); во второй половине XIX в. часто выступал в России; с 1894 по 1898 г. – профессор пения в Петербургской консерватории. Концертмейстер его класса, пианист и дирижер М. А. Бихтер (1880-1947), записал в своем дневнике о Котоньи: «Самое замечательное в его преподавании было его собственное пение... Когда он начинал петь, поправляя студента или участвуя в ансамбле, мощная и прекрасная волна его голоса, жаркая, как воздух его родины, всех нас, присутствующих в классе, объединяла одним желанием бесконечно слушать, бесконечно подвергаться воздействию этого звука... Полный, ясный и легкий тон – вот черты этого крупного и прекрасного голоса... Пение этого выдающегося певца развило мой вкус и слух...»
[Закрыть]. Он был одним из членов экзаменационной комиссии и еще тогда, на экзамене, выбрал меня себе в ученики. Я считаю величайшим счастьем, что мне довелось знать Котоньи. Это был великий артист и в то же время необычайно добрый и благородный человек. Он не только болел душой за музыкальные успехи своих студентов, но и беспокоился об их жизненных нуждах и не раз посылал им анонимные подарки – пару обуви, пальто и даже деньги, если считал, что это необходимо.
Котоньи совершенно был лишен какого бы то ни было тщеславия и зависти, свойственных многим певцам. Тридцать лет пел он в императорском театре в Москве в качестве «царского баритона» и был еще в зените своей славы, когда на московской сцене появился другой итальянец, баритон Баттистини[10]10
Маттиа Баттистини (1857-1928) – «король баритонов» конца XIX и первой четверти XX в. С 1891 по 1915 г. ежегодно гастролировал в России.
[Закрыть].Котоньи решил тогда, что его господство в театре длилось достаточно долго, и принялся наставлять молодого певца как своего преемника. Даже не предупредив его ни о чем, он явился к Баттистини в 8 утра, и тот был немало удивлен.
– Молодой человек, – сказал ему Котоньи без всяких преамбул, – не тратьте время на подготовку своей партии в «Дон-Жуане». Здесь, в императорском театре, существуют некоторые традиции, связанные с исполнением этой партии. Позвольте я их объясню вам.
В тот вечер, когда состоялся дебют Баттистини в «Дон-Жуане», Котоньи вышел вместе с ним на сцену и на виду у всей публики обнял его и сказал русским театралам несколько прощальных слов. На следующий день он уехал в Рим и никогда больше уже не пел на сцене. Престиж его был так велик, что академия Санта Чечилия сразу же предложила ему кафедру. К тому времени, когда я поступил в академию, Котоньи преподавал там уже лет двадцать, если не больше.
Я никогда больше не встречал такого человека, как Котоньи. Меня волновала сама мысль о том, что я учусь в его классе и что я занимаюсь у того, кто был одним из величайших оперных певцов Европы. Больше того, каждый, кому приходилось встречаться с Котоньи, чувствовал, как облагораживает одно общение с этим человеком. И, разумеется, я был возмущен, когда Фальки, директор академии, сказал мне, что я теряю время, занимаясь в классе у Котоньи.
«Где, – спросил я оскорбленно, – где еще можно найти такого выдающегося, такого замечательного педагога, как он?» Но Фальки настаивал на своем. Ответственность за мой голос, сказал он, теперь уже несет он, Фальки. Котоньи больше восьмидесяти лет, сил у него уже немного. И если я хочу сделать успехи, то должен перейти в класс маэстро Энрико Розати.
Я упрямо возражал, пока мог, но Фальки был все же директором академии, и мне пришлось в конце концов последовать его совету. Я не знал, как объяснить свое поведение Котоньи и что сказать Розати. Я пришел к нему в класс очень неохотно. Розати сразу же понял это.
– Вас здесь никто не держит. Если не нравится, можете уходить, – отрезал он без тени досады в голосе.
Я все же остался. Маэстро Розати оказался идеальным педагогом. Он бывал порой строгим и требовательным и всегда умел заставить своих учеников очень много работать. (В этом смысле, несомненно, у него я получил больше, чем у Котоньи.) И так же, как когда-то синьора Бонуччи, он прекрасно понимал мой голос и руководил моими занятиями, словно не прилагая ни труда, ни усилий. Он был моим учителем и ментором все три года, пока я учился в академии; он
же подготовил меня к дебюту. Я счастлив, что наш общий труд завершился дружбой, которая длилась затем всю жизнь. Пользуясь случаем, я хочу запечатлеть на этих страницах чувство признательности и любви к моему учителю.
К этому времени уже стало ясно, какие упражнения подходят моему голосу. Но в моей манере петь были еще некоторые недостатки, и маэстро Розати решил освободить меня от них. Я привык, например, петь на полном дыхании, всей силой моих легких. Но в результате получалось, что некоторые высокие ноты я брал с трудом. Розати помог мне развить некоторые модуляции тона и научил ощущать пропорции. Он заставил меня отложить на время оперные партии и сосредоточил все мое внимание на нежных мелодиях XVII и XVIII веков; из них особенно запомнились мне «Фиалки» Моцарта. Через полгода упорной работы – мы занимались с ним не только в академии, но и частным образом у него дома – я смог наконец так спеть необычайно трудное «Ингемиско» из Реквиема Верди, что маэстро остался очень доволен.
Однажды весной, в конце семестра, маэстро Розати повез весь свой класс на традиционную загородную прогулку. Мы отправились во Фраскати – это на Альбинских холмах. Погуляв по чудесному парку виллы Альдобрандина, мы расположились за длинным столом в саду небольшой таверны, чтобы подкрепиться молодым барашком с зелеными бобами и сыром. Сыр оказался очень соленым, и без доброй порции ароматного фраскати с ним, конечно, было бы не справиться. Мы развеселились, но с нами были и девушки, и поэтому мы вели себя вполне благопристойно.
Разрядка все же наступила, но позже, когда мы уже возвращались в Рим, стиснутые в душном, медленно ползущем трамвае. Какие-то подвыпившие парни стали отпускать в адрес наших девушек нехорошие шутки. Сначала мы делали вид, будто не замечаем их. Нас было много, а они держались так нагло, что обстановка быстро накалилась. Возникла одна из тех ситуаций, которые – в Италии, во всяком случае, – обычно кончаются потасовкой.
– Бога ради, Беньямино, начни-ка петь что-нибудь! – шепнул мне маэстро Розати.
Первое, что мне пришло на ум, было «Ингемиско», и я, не задумываясь, запел. Спустя мгновение я понял, как неуместна эта мелодия в этих условиях, но было уже поздно. В отчаянном усилии сосредоточиться и петь как можно лучше я совершенно забыл о том, что происходит вокруг. Когда же я кончил, в переполненном трамвае царило гробовое молчание. Я осмотрелся. Задиры, пристававшие к нам, были ошеломлены. Никакие аплодисменты не доставили бы мне такого триумфа.
Празднество по случаю окончания занятий в академии Санта Чечилия обычно привлекало многих любителей музыки из римского света. Приняв раз или два участие в этих празднествах, я вскоре приобрел некоторую репутацию, видимо, очень неплохую, потому что меня стали постоянно приглашать петь на званых собраниях в высшем обществе. Вообще это было не принято в академии – студенты не имели права выступать как профессионалы. Но денежное вознаграждение было столь соблазнительным, что я решил нарушить эту традицию. За один вечер я мог заработать в три-четыре раза больше того, что получал за месяц работы в фотолаборатории, где проявлял пленку.
Я оставил эту работу и с тех пор вторую половину дня тоже посвящал занятиям. Вечером же, под псевдонимом Мино Роза (это была уловка, чтобы уклониться от запрещения), я пел в салонах маркиза Рудини, синьоры Гарони, князя Блуменштиля, русского посланника Крупенского и других представителей высшего света. Пел я даже у графини Спаноккья, той самой госпожи, у которой служил когда-то лакеем. Мы посмеялись вместе с ней, вспомнив, как я, бывало, обслуживал ее гостей в белых перчатках со следами соуса на них.
Иногда мне приходилось брать напрокат фрак, но в нем у меня был довольно смешной вид. В конце концов я вынужден был заказать фрак по своей мерке. Очевидно, когда есть деньги, все возможно. Теперь я зарабатывал до трех тысяч лир в месяц. Можно ли сравнить их с теми шестьюдесятью лирами, на которые я умудрялся жить в далекие времена «пеццетти»!
Летом 1914 года настал последний день моих занятий в академии Санта Чечилия. Выпускные экзамены я выдержал отлично и занял первое место среди теноров. На большой бал в академию съехалось множество гостей специально, чтобы послушать наш концерт. Среди них оказалось немало импресарио, которые готовы были наброситься на нас, словно волки на ягнят, как только те покинут загон. И Фальки, и Розати – оба советовали мне быть осторожным и внимательно прислушиваться ко всем предложениям. Я не сомневался, что они дают мне разумный совет, и последовал ему.
Затерявшись в шумном, заполненном великосветскими дамами зале, тихонько сидела в уголке старая деревенская женщина в белом платочке, завязанном узелком. Это была моя матушка. Она одна совершила далекое путешествие из Реканати в Рим. На концерте я спел арию «О, чудный край!» из «Африканки» Мейербера, из той самой оперы, что была когда-то в репертуаре духового оркестра, в котором я играл на саксофоне по воскресным дням на площади Леопарди.
Буря аплодисментов, разразившаяся, когда я кончил, не обманула мои надежды, но я был вознагражден и большим – я увидел, как восьмидесятилетний знаменитый Антонио Котоньи обнимает мою матушку, целует ей руки и поздравляет с успехом сына.
– А теперь, – сказал мне маэстро Розати глухим голосом, – теперь ты можешь смело взглянуть в лицо фортуне.