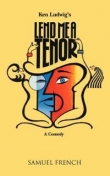Текст книги "Воспоминания"
Автор книги: Беньямино Джильи
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц)
ГЛАВА XVIII
Седьмую оперу я прибавил к своему репертуару 5 октября 1916 года в веронском театре «Ристори». Это была «Лючия ди Ламмермур» Доницетти, взятая в долг у Вальтера Скотта мелодраматическая история шотландской девушки, вышедшей замуж за нелюбимого человека, которого она убивает ночью, а потом сходит с ума. Партию Лючии пела Джузеппина Финци Магрини, лорда Энрико – Мариано Стабиле, а мне, тенору, естественно, досталась романтическая партия Эдгара Равензвуда. В «Лючии» самое выигрышное место для тенора – прекраснейшая ария последнего акта: «Ты на небо отлетая, ангел чистый и прекрасный...». Интересно, что мысль написать эту арию пришла Доницетти внезапно, в то время, когда он играл с друзьями в карты. Осененный вдохновением, он вскочил из-за стола, вышел в соседнюю комнату, набросал там пришедшую на ум мелодию арии и затем снова вернулся к столу докончить партию.
На премьере я старался не забыть, что нужно оставить дыхание для арии «Ты на небо отлетая, ангел чистый и прекрасный...». Я репетировал ее десятки раз, но ария эта очень сложная и изнурительная для певца, и перед спектаклем я, как всегда, снова и снова спрашивал себя, как примет ее публика. Никакая вера в себя, в свои возможности, никакие порции крепкого кофе не спасли меня от неизбежного томительного ожидания, которое всегда отличает премьеру. Разумеется, я рассчитывал на успех, но никак не был готов к тому, что меня будут вызывать двадцать с лишним раз и еще меньше к тому, что напишут на другой день в газетах критики. Один из них сравнивал премьеру с самым первым представлением «Лючии» – 26 сентября 1835 года, когда восторженные зрители встретили французского тенора Дюпре[15]15
Жильбер-Луи Дюпре (1806-1896) – выдающийся тенор французской оперы, первый исполнитель драматических партий в операх Галеви, Мейербера, Обера и др.
[Закрыть] «ураганом аплодисментов и криками, походившими на вопли умалишенных, и когда восторг публики не поддавался никакому описанию».
Петь в операх Доницетти гораздо труднее, чем в операх Пуччини. И успех в опере Доницетти гораздо серьезнее успеха, который нетрудно заслужить при исполнении произведений Пуччини. Любой певец с самым посредственным голосом и отнюдь не безупречной техникой легко может ввести в заблуждение своих слушателей и даже заработать в придачу аплодисменты, если споет в какой-нибудь опере Пуччини. Но этот же певец крепко призадумается, прежде чем возьмется за какую-нибудь оперу Доницетти, потому что его произведения безжалостно обнажают все слабости каждого исполнителя.
Совершенно неверно мнение, будто оперные партии Доницетти очень своеобразны, «герметичны» и требуют какого-то особого стиля – так же, как это необходимо для исполнения вокальных произведений Моцарта или Генделя. Это просто чисто лирические партии, где все подчинено одной только мелодии – в ариях, каватинах, кабалеттах, медленных легато. Чтобы петь их, нужно хорошо владеть дыханием и звуком, уметь легко подавать его. Все эти элементарные и основные навыки преследуют и обычные вокальные упражнения. Но дело в том, что многие современные певцы раньше времени начинают выступать в качестве профессионалов – еще тогда, когда они очень далеки от полного и свободного владения этим основным «реквизитом».
Во многих случаях это объясняется, очевидно, обстоятельствами, которые связаны с денежными затруднениями. Но, думаю, мой пример достаточно убедительно говорит за то, что это препятствие преодолимо. А может быть, многие преподаватели не внушают своим ученикам, что им нужно долго и упорно заниматься. Они исходят, видимо, из предвзятого мнения, что нет нужды учить их петь партии из опер Доницетти и Беллини, раз они могут свободно обойти эти рискованные вокальные барьеры и иметь успех при исполнении множества других произведений, которые требуют гораздо меньше труда.
Однако, как бы то ни было, неизбежно напрашивается печальный вывод: бельканто приходит в упадок. И хотя, разумеется, я не имел возможности сравнивать, я глубоко убежден, что в наши дни осталось совсем немного от того великолепного бельканто, которое существовало век назад. Меня приводит к такому выводу внутренняя ясность опер и Беллини. Хотя, как я отметил в предыдущей главе, «Фаворитка» и знаменует переходный период, Доницетти, сочиняя ее, имел в виду таких своих певцов– современников, как Дюпре, Рубини, Лаблаш, Персиани, Гризи и Паста[16]16
Рубини, Лаблаш, Персиани, Гризи и Паста – выдающиеся итал. вокалисты середины XIX в. Отличаясь превосходными голосами и драматическим дарованием, они оставили по себе незабываемую память у нескольких поколений.
[Закрыть]. Чтобы хорошо петь в операх Доницетти, необходимо обладать вокальным мастерством, хотя бы в какой-то мере сравнимым с их искусством. Думаю, что должен посоветовать всем молодым певцам: будьте настойчивы и упорны в ваших занятиях, имейте мужество и терпение отложить ваш дебют до тех пор, пока действительно не будете готовы к нему, и не давайте, прошу вас, зачахнуть и погибнуть традициям бельканто[17]17
Эти соображения чрезвычайно ценны. Специальная печать XIX в. неоднократно отмечала, что веризм не только принес вред искусству бельканто, но способствовал пропаганде «нового» стиля пения, который в бельканто якобы не нуждается (См. С. Ю. Левин. Записки оперного певца. «Искусство», М., 1962, гл. III).
[Закрыть].
С октября по декабрь 1916 года я пел в разных городах Италии: в «Лючии» – в Вероне, в «Мефистофеле» – в театре «Доницетти» в Бергамо, в театре «Сочале» в Брешии, в «Джоконде» в театре «Кьярелла» в Турине. И наконец, наступил день, которого я так ждал и так боялся: 26 декабря 1916 года я впервые предстал на суд римской публики в театре «Костанци». На открытие сезона давали «Мефистофеля». Дирижировал маэстро Эдоардо Витале.
Полковник Дельфино получил обещанную ложу; в зале был маэстро Розати со своей семьей; графиня Спаноккья призналась, что ей ужасно интересно присутствовать на дебюте того, кто был когда-то ее лакеем; в партере сидели Катерво с супругой и рядом с ними Костанца. Все трое выглядели очень озабоченно: они впервые в жизни были в вечерних туалетах.
Вообще-то римская публика уже знала меня немного по тому времени, когда я, будучи студентом академии Санта Чечилия, пел на частных приемах под псевдонимом Мино Роза, и по благотворительным концертам в пользу армии, которые я давал в Риме год назад. Римские критики, однако, еще не имели случая нацелить на меня свои перья. Их суждений я ждал с некоторым беспокойством. Когда-то в неблагодарную минуту я подумал, что критики Ровиго, Феррары, Генуи, Палермо, Болоньи, Неаполя и других городов были просто провинциальными писаками, чей благосклонный вердикт нельзя считать решающим и окончательным. Что скажут обо мне в Риме? Как всегда, разумеется, важнее всего для меня оставалось мнение публики. Но в этот раз тревожила и оценка критиков.
Мы с Костанцей жили у Катерво. После спектакля мы устроили небольшой ужин и, вспоминая прошедшие годы, засиделись почти до утра. Потом, когда все разошлись спать, я потихоньку вышел из дома. Спать я не мог. На душе было как-то неспокойно, тоскливо. Я бесцельно побрел по пустым холодным улицам. На площади Навона теснились палатки и лотки рождественской ярмарки, земля вокруг была усеяна обрывками бумаги, в которую заворачивают игрушки. Величественно высились в сиянии лунного света громады церквей. Я был недалеко от Пасседжата ди Рипетта, той самой улочки, где в былые времена мы снимали с Катерво мансарду и по вечерам при свете свечи ели наши «пеццетти». Я свернул на набережную и вскоре оказался у нашего дома. Я стоял и смотрел на окно, у которого мы проказничали, оглашая улицу разными криками. Потом, сам того не замечая, отправился по знакомому пути – прошел по виа Корсо, постоял перед академией Санта Чечилия, вышел на лестницу площади Испании и затем оказался у церкви Тринита деи Монти, где мы так долго стояли с Идой во время нашей первой, упоительной прогулки. Затем я дошел до штаба гарнизона, где провел два года, пока носил грубую серо-зеленую форму солдата и где встретил Костанцу. Когда выходил из дома, я совсем не собирался совершать это сентиментальное паломничество, но теперь, когда побывал в этих дорогих мне местах, я почувствовал себя лучше. Не так уж часто мне выпадал случай поразмышлять о самом себе. Тем временем наступило утро. Я пошел на вокзал и уселся там на скамейке в ожидании утренних газет.
Римские критики, как я и предполагал, оказались строже своих провинциальных коллег. В общем они писали обо мне довольно благосклонно. Все сокрушались, что у меня был плохой грим. «Мессаджеро» заметила, что я не сумел скрыть волнения. «Трибуна» писала, что я лучше пел в I акте, чем в последнем. «Корьере д’Италия» – что я еще не сложившийся артист, но задатки у меня хорошие. Все остальное была одна похвала, хотя и в умеренных выражениях, но все-таки похвала. Я понял, что могу быть доволен. Почувствовав внезапно невероятное облегчение и в то же время ужасную усталость, я сунул газеты в карман, взял такси и вернулся домой.
– Где тебя носило? – удивилась Костанца.
– Я гулял... Мне не спалось... Надо было увидеть эти газеты. А теперь я посплю как следует...
В Риме я оставался еще два месяца – пел в театре «Костанци». В начале марта 1917 года меня ожидало новое приключение: первая поездка за границу – в Испанию. Маэстро Туллио Серафина пригласили провести итальянский сезон в Мадриде и Барселоне. Он собрал для этого небольшую труппу, в которую входили тенор Аурелиано Пертиле, баритон Сегура-Тайен, бас Анджело Мазини-Пьералли и я. Женские партии должны были петь испанские певицы. Помню, в частности, сопрано Кармен Бонаплату.
Вообще путешествия – не бог весть какая радость для певца. Во время этих первых заграничных гастролей, которыми начались мои бесчисленные поездки по городам четырех континентов, я раз и навсегда уяснил себе, что в каждом городе за границей есть только три места, с которыми волей-неволей приходится познакомиться, – это вокзал, гостиница, в которой останавливаешься, и театр. Ведь все, абсолютно все время расписано по минутам. И даже если я не был занят вечером в спектакле, то готовил свою партию, полоскал горло, подписывал автографы, ездил на торжественную встречу с соотечественниками или давал интервью представителям прессы. Очень редко у меня находилось время (и еще реже бывало душевное спокойствие, которое тоже необходимо для этого), чтобы я мог узнать и осмотреть город, познакомиться со страной. Так бывало почти всегда – многочисленные поездки ничего не давали мне. И хотя поезда и пароходы почти так же неизменно входили в распорядок моего дня, как утренний завтрак, полагаю, что вообще-то я совсем не создан для путешествий. Я с удовольствием предпочел бы оставаться в Италии и жить спокойно в родном Реканати. И всю жизнь, всегда, когда бы мне ни удавалось вырвать время для недолгого отдыха, я отправлялся в Реканати – это было единственное место, куда меня всегда влекло и где я мог по-настоящему отдохнуть.
Между тем об Испании я узнал все же немало интересного и сделал, в частности, необычайное открытие – испанцы такие восторженные и фанатичные поклонники оперы, что итальянцы не идут ни в какое сравнение с ними. Я никогда не видел корриды, но думаю, что пылкое волнение оперной публики – я бы сказал, нечто вроде коллективной истерики – можно сравнить, должно быть, только с волнением толпы, окружающей арену.
Мне запомнились некоторые подробности пребывания в Мадриде. Публика обычно адресовала там свои восторги не в мой адрес. Она выражала свою признательность двум другим тенорам – Гайяру и Мазини[18]18
Юлиан Гайяр (1844-1890) многие годы считался лучшим драматическим тенором в Европе; Анджело Мазини (1844-1926) – лучшим лирико-драматическим тенором. Оба неоднократно выступали в России.
[Закрыть]. У каждого были свои поклонники, и каждая группировка считала своего любимца единственным достойным исполнителем партии Фауста в «Мефистофеле», на которую я, начинающий юнец, вообще не имел права претендовать.
Испанская критика разделяла мнение публики, хотя и в более сдержанных выражениях; в лучшем случае, она относилась ко мне снисходительно.
«Обладает хорошей техникой, поет действительно хорошо, – писала «Эль Либераль». – Если усердно поработает, может надеяться на карьеру и на успех». «Голос слабый, но приятный, – писала «Эспанья нуова». – Он мог бы выбрать что-либо более подходящее для своего голоса и не появляться перед испанской публикой в такой знаменитой опере, как «Мефистофель». Его исполнение в III акте не сравнимо с исполнением Гайяра, в то время как в начальной сцене он, безусловно, хуже Мазини».
Более милостиво отнеслись ко мне в Барселоне, где я пел в «Джоконде» и «Мефистофеле». У меня там не было, как выяснилось, сильных соперников в партии Энцо, так что публика могла аплодировать сколько угодно, и критикам ничто не мешало петь дифирамбы. Когда пришло время возвращаться в Италию, то выяснилось, что у меня тоже есть своя небольшая партия поклонников. Однажды они устроили демонстрацию в мою честь, пока стояли в очереди за билетами на галерку. В ход пошли кулаки, пришлось вмешаться полиции. Так что мои спектакли в Испании в конце концов тоже оказались успешными.
ГЛАВА XIX
Все, что я делал до конца 1917 года, после возвращения из Испании, было так или иначе связано с Пьетро Масканьи. Я пополнил свой репертуар операми «Ирис» и «Жаворонок», с которыми ездил в длительное турне по всей Италии. Затем я пел в Неаполе на юбилейном спектакле по случаю двадцатипятилетия «Сельской чести».
«Ирис», в которой мне довелось петь во время непродолжительного (до конца апреля) сезона в театре «Кьярелла» в Турине, написана в несколько надуманной и изощренной манере. Первый раз она была поставлена в театре «Костанци» в Риме осенью 1899 года. И хотя действие оперы происходит в Испании, по стилю и настроению она, разумеется, чисто итальянская. Псевдофилософская тема оперы со всей своей причудливой символикой нисколько не отвечала вулканическому темпераменту Масканьи. В опере есть какая-то претензия на «философствование», хотя Масканьи никогда не мог написать ни одной рассудочной оперы. Он писал всегда очень легко, свободно, как пишут письма, – без поправок. В «Ирисе» есть великолепный «Гимн солнцу», который открывает и завершает оперу, и вообще очень много ярких, красочных мест. В целом же, мне кажется, публике эта опера должна казаться несколько несообразной и нестройной. В то же время она дает большие возможности главным исполнителям. Я лично не мог жаловаться на свою партию, хотя должен заметить, что роль Осаки (это знатный японец-сластолюбец, олицетворение порока) так и не стала никогда моей любимой.
Опера «Жаворонок» была новой работой Масканьи. Он написал ее за год до этого сезона и замышлял, по его словам, как послание любви и мира потрясенному войной человечеству. Тональности оперы свежие, ясные и идиллические, и вся она – созвездие прекраснейших мелодий. Мне думается, что опера не заслуживает забвения, как это, кажется, случилось с ней.
Первое представление «Жаворонка» состоялось 2 мая 1917 года в театре «Костанци» в Риме. Заглавную партию пела Розина Сторкьо. Дирижировал сам Масканьи. Несмотря на теплый прием, который встретила опера, Масканьи не был доволен спектаклем. Хор мальчиков – деликатная, но трудная сцена – был недостаточно хорошо отрепетирован. Выявились и другие недостатки. И Масканьи обрадовался, когда представилась возможность снова поставить «Жаворонка», да еще в его родном городе Ливорно. На этот раз пели: сопрано Бьянка Беллинчони-Станьо, баритон Джузеппе Ното, бас Леоне Паче. Партию художника Фламмена поручили мне. Это был действительно великолепный спектакль. Ливорнская публика, и так уже предрасположенная к Масканьи – она гордилась своим земляком, – встретила его восторженно. В августе 1917 года мы дали девять представлений «Жаворонка» и несколько спектаклей «Манон». Осенью поехали с «Манон» во Флоренцию и другие города Центральной и Южной Италии и закончили турне в Риме 26 декабря открытием сезона в театре «Костанци».
Должен сказать, что у меня сохранились самые приятные воспоминания об этом августе, проведенном в Ливорно, хотя такое замечание может сойти и за величайшую бестактность: вправе ли я был так наслаждаться жизнью и радоваться чему-то в тот момент, когда так печально складывались события на фронте и страшная эпидемия гриппа («испанки») свирепствовала в Европе, в частности, и в Италии? Но у меня в то время было удивительно беззаботное настроение, какое бывает только во время каникул. Может быть, это объясняется восторженным приемом, который оказывала нам не только публика, но и все ливорнские жители; может быть, потому, что до этого я долгое время очень много и непрерывно работал, а может, просто прорвалась наружу и искала выхода свойственная молодости жизнерадостность.
Как бы там ни было, мне вдруг безумно захотелось перестать быть певцом, даже знаменитым, захотелось почувствовать себя кем-то другим. Я не мог больше целыми днями сдерживать свою энергию и беречь силы для того, чтобы растратить их вечером за три-четыре часа во время спектакля. Мне надоело полоскать горло, соблюдать диету и спать положенное после обеда время. Мне нужно было развлечься. И тогда вместе с баритоном Ното и некоторыми другими певцами из нашей труппы мы завели дружбу с рыбаками. Они брали нас с собой, когда выходили в море на баркасах ловить полипов и омбрин (это маленькая рыба с белым мясом; мне кажется, она водится только в Средиземном море).
Полипов мы ловили днем, а омбрин ночью. Техника в обоих случаях была совершенно разная. За полипами мы выходили в открытое море, в места, где было метров восемь-десять глубины. С помощью ведра со стеклянным донцем мы рассматривали сквозь прозрачную воду дно моря. Рыбаки умели сразу же распознать те рифы и камни, за которыми обычно прячутся полипы. Зятем мы привязывали к удилищу маленького краба и отпускали его на дно. Жадный полип вылезал из своего убежища и хватал краба щупальцами. Оставалось только вытащить его наверх с помощью удилища.
За омбринами мы отправлялись обычно ночью. Уходили довольно далеко от берега и затем с каждого баркаса нашей маленькой флотилии опускали на темную воду пять-шесть небольших – вроде детских – корабликов-поплавков. От поплавков в воду уходили веревочки, на концах которых крепилась приманка. Мы держали веревочки, идущие от поплавков, в руках, и всякий раз, когда какая-нибудь из них дергалась, было ясно, что рыба клюнула. Мы спокойно сидели в своих лодках и ждали, пока на всех или почти всех веревочках оказывалась добыча. Море и небо вокруг нас были черными, как бархат, и мы с изумлением смотрели на сотни фосфоресцирующих рыбок, которые выскакивали из воды и метались по поверхности.
Возвратившись на берег, мы устраивали нечто вроде пантагрюэлевских пиршеств, где главным украшением стола были жареные в масле полипы и вареные, приправленные лимоном, лавровым листом, перцем и укропом омбрины. Нужно ли пояснять, что все это обильно дополнялось множеством белого сухого вина, которое делают на соседнем острове Эльба. Рыбаки обычно учили нас своим песням и взамен просили исполнить наши арии. Я отвечал им арией «Прикрывши голову белым крылом...», но никак не сумел научить их петь ее. Мы подолгу засиживались за импровизированной трапезой, весело распевали хором и расходились лишь тогда, когда наступал час спешить на спектакль в театр «Политеама». Ясно, что такой образ жизни был вне всяких правил осторожности и благоразумия, но мне он доставлял много радости, тем более, что никаких забот у меня больше не было. Успех, который имел «Жаворонок», говорил о том, что веселье это пению не вредит. Должен заметить, что однажды после очередного небольшого пикника, когда рыба была особенно вкусна, я вынужден был прибегнуть к бутылке коньяку, чтобы как-нибудь дотянуть до конца «Манон». Но должен добавить так же, что подобного рода «подвиги» больше никогда не повторялись...
Я не могу сказать, что был когда-либо равнодушен к деньгам. Возможно оттого, что, родившись бедняком, я всегда придавал деньгам большое значение. Перебирая в памяти историю своей жизни, я не могу припомнить случая, когда бы что-либо купленное доставило мне такую же светлую радость, как те ливорнские дни и ночи, которые я проводил с рыбаками в открытом море под солнцем или звездами.
В репертуаре у меня было теперь девять опер, но мне не терпелось пополнить его. И хотя я с удовольствием принял приглашение синьоры Эммы Карелли (экспрессивной особы, руководившей в то время театром «Костанци») петь в Риме с января по апрель 1918 года, я был огорчен, что нашел в программе только свои любимые, но, увы, знакомые оперы: «Жаворонок», «Тоска», «Джоконда», «Мефистофель». Целых четыре месяца, и ни одной новой оперы! Это же просто пустая трата времени!
ГЛАВА XX
На деле, однако, сезон 1918 года в «Костанци» оказался более интересным, чем я предполагал. Благодаря изменениям, которые были сделаны в моей программе в последнюю минуту, я смог добавить к моему репертуару еще две оперы: «Ласточек» Джакомо Пуччини и «Адриенну Лекуврер» Франческо Чилеа.[19]19
Франческо Чилеа (1866—1950) – итал. композитор; получил известность благодаря своим операм «Адриенна Лекуврер» и «Арлезианка», которые и теперь идут в Италии.
[Закрыть].
«Ласточки» – одна из лучших небольших опер Пуччини; это нечто среднее между «Манон Леско», «Богемой», «Травиатой» и какой-нибудь венской опереттой. У этой оперы интересная история. В 1914 году Пуччини был в Вене, когда один музыкальный издатель уговорил его попробовать себя в новом жанре – в жанре музыкальной комедии. Либретто написал Франц Легар, но Пуччини не одобрил его. Планы еще обсуждались, как вдруг между Италией и Австрией в мае 1915 года началась война. Все переговоры с венским издателем, который превратился теперь в официального противника, прекратились сами собой. Но одно итальянское издательство решило поддержать это начинание и поручило Джузеппе Адами написать новое либретто. Действие оперы должно было теперь происходить не в Вене; но ритмы венского вальса прочно застряли в голове Пуччини и в конце концов вылились в партитуру.
Действие «Ласточек» происходит в Париже – в одном из бал-булье[20]20
В Париже к названию некоторых клубов и кабачков часто прибавляют слово «бал» (от франц, слова balet – балет).
[Закрыть], и на французской Ривьере во времена Второй империи. Это романтическая и патетическая история одного придворного, история одной любви, ошибки, отречения. В опере множество разных событий и драматических ситуаций. Музыка – нежная, шутливая, легкая или, точнее говоря, – она звучит обманчиво легко, но петь ее очень трудно.
Первое представление «Ласточек», когда пели Титта Скипа[21]21
Титта Скипа (р. 1889) – итал. певец (тенор). В 1957 г. принимал участие в качестве члена жюри Всемирного фестиваля молодежи в Москве.
[Закрыть] и Джильда далла Рицца, состоялось в Монте-Карло 27 марта 1917 года. Позднее, в том же году, когда оперу готовились поставить в Болонье, зашла речь о том, чтобы партию Руджеро дать мне, и я даже пять или шесть раз прошел партию с маэстро Розати. Но сам Пуччини решил все иначе. И по причине, не совсем лестной для меня: мой вид, говорил он, никуда не годится, я слишком круглый, чтобы достаточно хорошо сыграть романтического влюбленного. Его новая опера ставилась в Италии впервые, и он хотел, чтобы она произвела хорошее впечатление. Так что вместо меня пел Аурелиано Пертиле.
С тех пор я почти год не слышал больше ничего о «Ласточках». В феврале 1918 года я пришел однажды в театр «Костанци» послушать американского тенора Хаккета, который должен был петь в «Богеме». Хаккет только что вернулся из турне по Южной Америке, во время которого много раз пел в «Ласточках». Случилось так, что в зале был и Пуччини. Голос Хаккета ему понравился, и он спросил синьору Карелли, которая руководила театром, нельзя ли дать в текущем сезоне несколько внеочередных представлений «Ласточек», разумеется, с Хаккетом в главной роли. Синьора Карелли ответила ему очень уклончиво и сразу же направилась ко мне.
– Если уж мы будем ставить «Ласточек», – сказала она мне, – то я хочу, чтобы пели вы, а не Хаккет. Я уверена, что у вас это выйдет лучше. Но как убедить в этом Пуччини? Кроме того, не представляю, как это вам удастся – ведь я могу поставить премьеру только на будущей неделе. Другого времени нет. В спектакле заняты далла Рицца и другие солисты. Но я же не могу требовать, чтобы вы выучили новую оперу за неделю.
– Но, – ответил я, – давайте попробую.
Я знал, что память у меня блестящая, но все-таки даже не предполагал до сих пор, насколько на нее можно положиться. Когда мы с маэстро Розати прошли всю партию у фортепиано, выяснилось, что я уже знаю ее. Тех пяти или шести раз, когда я знакомился с ней раньше, хватило, чтобы она как бы отпечаталась в моей памяти. На следующее утро во время репетиции Пуччини ожидал сюрприз. Он думал увидеть Хаккета, но его удивление перешло в невероятное изумление, как только он обнаружил, что я уже знаю партию.
– Браво! Браво! —воскликнул он, когда я кончил. – Это великолепный Руджеро!
– С моей-то комплекцией, маэстро? – не без иронии спросил я.
– Публика забудет о вашей комплекции, как только услышит голос. Пуччини спустился в зал, чтобы продолжать репетицию с хором и оркестром. Хаккет приехал, когда я был уже на сцене. Удивленный и глубоко оскорбленный тем, что мне дали партию Руджеро – «его» партию, он тут же повернулся и, не говоря ни слова, вышел из зала. На другой день он уехал в Милан, и его долго потом не могли уговорить вернуться в Рим. Мне очень жаль, что так получилось, но, когда делаешь карьеру, нельзя отказываться от удобного случая.
Вопреки надеждам Пуччини, «Ласточки» не имели в Риме такого шумного успеха, какой выпал на их долю много лет спустя в Нью-Йорке, когда я пел в этой опере вместе с Лукрецией Бори. Римской публике больше правилась «Адриенна Лекуврер» Чилеа, в которой первый раз
я пел в апреле 1918 года вместе с Кармен Тоски, Видой Ферлуга и Джузеппе Данизе.
Я питал глубокую привязанность к Чилеа еще с нашей первой встречи в Палермо, где он руководил консерваторией. Это был человек строгой морали и художественной цельности, немного старомодный, и, возможно, даже лишенный какого-либо особого вдохновения. Больше всего меня привлекало в нем простодушие.
О музыке его не приходится много говорить. Мягкая, идиллическая, созерцательная, она порой напоминает Верди, порой Понкиелли, иногда и Бойто, а в целом перекликается с музыкой Альфредо Каталани. Музыка Чилеа лирична и отличается характерным мелодическим изяществом. И все это было мне особенно близко.
Певцу приходится судить о музыке в какой-то мере по личному ощущению, то есть довольно субъективно. И не всегда музыка, которая ему особенно нравится, бывает самая лучшая. Просто певец обычно предпочитает ту музыку, которая дает ему больше возможности выявить голос.
«Адриенна Лекуврер» – самое лучшее, что есть у Чилеа, – была написана в 1902 году. И хотя это была пора, когда оперную сцену завоевали «Сельская честь», «Паяцы», «Богема», «Андре Шенье», в ней больше всего чувствуется влияние Массне. В основе либретто – сюжет Эжена Сю. Я всегда надеялся, что мне выпадет случай петь в этой опере, еще с тех пор, когда услышал в Палермо, как Чилеа сказал однажды после концерта, в котором я пел знаменитый «Плач Федерико» из другой его оперы – «Арлезианы», – что голос мой идеально подходит для партии князя Маурицио ди Сассониа.
Замечание Чилеа оказалось совершенно правильным. Благородство и искренность плавной мелодии настолько вдохновили меня, что я отдавал этой партии всю душу. Много раз умолкал оркестр, ожидая, пока утихнут аплодисменты после арии «Милый образ», после арии «Усталая душа» из I акта и после дуэта с Адриенной. Но когда наступал момент самого полного единения со слушателями, то он был настолько сильным и напряженным, что аплодисменты оказались бы тут святотатством, и тогда наступала необычайная тишина. Это происходило в последнем акте. После смерти Адриенны я со всей страстностью и волнением, на какие только был способен, пел одно лишь слово: «Умерла!». Мне всегда казалось, что слушателей, застывших в леденящем молчании, при этом охватывает трепет.
Оперой «Адриенна Лекуврер» закончился мой второй сезон в театре «Костанци», отмеченный шумным успехом. Почти сразу же после этого я отправился в турне. Я пел в «Жаворонке» в Неаполе, Генуе, Турине, Бергамо и, наконец, приехал в Милан. Шел май 1918 года.
До сих пор я никогда не бывал в Милане. Турин и Генуя уже подготовили меня в какой-то мере к первой встрече с этим большим промышленным городом. Но Генуя и Турин, хотя и отличались от той Италии, которую я знал в детстве, были все же типично итальянскими городами. Милан же показался мне каким-то чужим, странным и суматошным городом. Он производил пугающее впечатление. Такой представлялась мне Америка. Удивляло даже, что люди здесь говорят по-итальянски.
Но все это было неважно, несущественно, главное для меня, как и для любого певца в Милане, это прежде всего «Ла Скала». Я пел во всех городах Италии, пел уже четыре года, у меня была уже определенная репутация, мне всюду рукоплескали, но я ни разу еще не пел в «Ла Скала». И теперь «Жаворонка» должны были давать в театре «Лирико». Сколько раз я останавливался на площади Ла Скала и смотрел на эту внешне ничем не примечательную неприступную крепость! Трамваи, резко, со скрежетом тормозя, останавливались перед зданием театра и затем рывком, со страшным шумом, двигались дальше. Я зажимал уши, спасаясь от этого грохота, и пытался представить, как зазвучит мой голос, когда я буду брать самую высокую ноту, перекрывая оркестр, расположенный под сценой. Все мои скромные успехи, казалось, улетучились, ушли в прошлое. Что значу я, если «Ла Скала» не принимает меня?! Я понимал, что пока не завоюю этот театр, ничего не достигну.