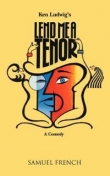Текст книги "Воспоминания"
Автор книги: Беньямино Джильи
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 21 страниц)
ГЛАВА XXVII
Всемогущий Гатти-Казацца подверг меня испытанию, и я не разочаровал его. Так я, во всяком случае, заключил из того, что в конце моего первого сезона в «Метрополитен» он предложил мне возобновить контракт сразу на целый год. Финансовые преимущества и профессиональный престиж были теми двумя очевидными и решающими причинами, по которым я согласился на его предложение. Но были и другие причины. Театр «Метрополитен» нравился мне все больше и больше. Нью-Йорк поражал меня, но не привлекал; я жил только театром и чувствовал себя почти как в Италии. В «Метрополитен» работали люди четырнадцати национальностей, но моих соотечественников в нем было так много, что итальянский язык стал почти официальным языком театра.
В художественном отношении «Метрополитен» был театром самого высокого класса. Он давал певцам очень большие возможности и требовал от них взамен высокохудожественного исполнения. Наконец, мне нравилась необычная перспектива работать целый год в одной и той же труппе, с одним и тем же дирижером. Ни один театр в Европе не мог предложить ничего подобного. Пусть я увижу тут меньше восторженных иностранцев на своих спектаклях, зато смогу научиться лучше петь. Реже мне придется укладывать чемоданы и спешить на вокзал, но зато я смогу наконец насладиться покоем домашнего очага.
Вот почему я и решил остаться в Нью-Йорке. Но я не видел свою семью уже больше года, почти не знал своих детей. Однако к тому, чтобы прочно обосноваться в Нью-Йорке, надо было еще подготовиться. И каковы бы ни были трудности, это несомненно лучше, чем совсем не иметь дома. Во всяком случае, что бы меня ни ожидало в будущем, мне нужно было жить вместе со своей семьей. Поэтому я написал Костанце, чтобы она наняла слуг, собрала чемоданы и приехала в Нью-Йорк.
Приехать она должна была не сразу, а только, осенью, потому что еще перед отъездом из Южной Америки, не предполагая, что я останусь так долго в «Метрополитен», я подписал с Вальтером Мокки контракт на турне в течение лета 1921 года по Южной Америке. После стольких месяцев непрерывной работы и нервного напряжения мне безумно хотелось побывать на могиле отца. Теперь, однако, было уже слишком поздно – я не мог отказаться от контракта. В начале июня я уехал в Рио-де-Жанейро. Многие месяцы напряженной работы давали себя знать. Все время, пока мы плыли на пароходе, я чувствовал себя очень плохо. В Рио-де-Жанейро меня срочно отправили в больницу из-за острого приступа урекемии. Это обстоятельство вызвало множество толков. Соперничавшая с нами другая итальянская труппа стала распространять упорные слухи, будто у меня навсегда пропал голос, будто я оглох, карьера моя окончена и т. п.
Я поправился как раз вовремя, чтобы положить конец всем этим разговорам. Я пел в Рио-де-Жанейро, Сан-Паоло и в Буэнос-Айресе всего в двадцати пяти спектаклях: в «Джоконде», «Лорнгрине», «Мефистофеле», «Тоске» и в новой опере Масканьи «Маленький Марат», которая до этого ставилась всего раз в театре «Костанци» в Риме. В Южной Америке «крещение» оперы состоялось в Буэнос-Айресе в театре «Сервантес» 20 сентября 1921 года. Так же, как «Андре Шенье», эта опера рассказывает об одном эпизоде французской революции. Серой оперы – санкюлот. Музыка, скорее драматическая, чем лирическая, меньше подходит моему голосу, чем музыка «Андре Шенье». Тем не менее наш спектакль имел в Буэнос-Айресе большой успех (Мариеллу пела Джильда далла Рицца, заглавную партию – я, дирижировал Джино Маринуцци). Масканьи прислал мне взволнованную поздравительную телеграмму, выражая надежду, что я провезу его «маленького санкюлота» по всему свету. Однако обстоятельства сложились так, что в «Маленьком Марате» мне больше никогда не пришлось петь.
В необычайном волнении вернулся я в Нью-Йорк. Это было 31 октября 1921 года. Волновали меня не только приятная перспектива встретиться наконец с семьей после долгой разлуки, но и новая забота – научить Костанцу, которая никогда еще не бывала за границей и никогда в жизни не имела горничной, вести большое хозяйство и устраивать приемы в нашей новой квартире неподалеку от «Карнеги-холл» (57 стрит, 140). Денежный вопрос тоже больше не тревожил меня – особенно с тех пор, как я передал ведение всех дел своему секретарю (которым обзавелся недавно) – Ренато Росси, моему старому приятелю еще по учебе в Риме.
Больше всего меня беспокоило и пугало совсем другое – заголовок, появившийся в одной из нью-йоркских газет: «Кто займет место Карузо?». Бедный Карузо скончался 2 августа в Сорренто. Споры, которые тотчас же разгорелись в газетах, думалось мне, были непочтительными и излишними. Это верно, как я уже говорил, что «Метрополитен» был царством Карузо. Но так было благодаря его величию, его личным достоинствам, а не в силу какого-то официального распоряжения. Нелепо было говорить о нем в таком тоне, будто он основал какую-то династию, и теперь надлежало избрать, венчать на царство и помазать священным елеем Карузо II. Шумиха, поднявшаяся вокруг всего этого, вынудила Гатти-Казацца поступиться своим презрением к прессе и дать интервью газетчикам. Я полностью согласен с тем, что он заявил тогда: «Есть только два фактора, которые могут решить, кто займет место певца, – это мнение публики и время. Современный театр перестал быть театром «звезд» и давно уже стал театром труппы, коллектива. Мы стремимся только к одному – к безупречному художественному исполнению».
Эти мудрые слова не смогли, однако, смягчить неистовства и ярости жесточайшего сражения, которое продолжалось между приверженцами кандидатов на место Карузо. Поклонники и друзья теноров, которые могли бы претендовать на корону, объединились в отдельные соперничавшие группировки. Сами же виновники споров, теноры, надо отдать им справедливость, не были повинны в том, что поднялся весь этот шум. Очень неловко было встречаться со своими коллегами – Мартинелли, Шамбле, Крими, Пертиле – в коридорах театра после того, как утром все наши достоинства и недостатки были подробнейшим образом расписаны и взвешены в газетах. II делалось это столь бесцеремонно и развязно, будто нам предстояло по крайней мере встретиться на ринге в «Медисон-сквер-гарден». Имя мое упоминалось в этой газетной полемике так часто (гораздо чаще, чем имена других певцов), что я почувствовал необходимость публично снять с себя ответственность за это. И я написал письмо в «Нью– Йорк Таймс», хотя никогда раньше не делал ничего подобного. Я писал: «Думаю, что говорить обо всем этом сейчас и называть кого-либо преемником Карузо – святотатство. Это значит осквернять память того, кого чтит вся Италия и весь мир. Ведь в наши дни стремление каждого артиста должно быть направлено к тому, чтобы удержать и сохранить художественное наследие, оставленное великим певцом, и каждый должен стараться сделать это не ради пустого тщеславия и желания приобрести известность. Упорным трудом мы должны добиться, чтобы торжествовало все чистое и прекрасное. За это боролся Карузо, и мы во славу нашего искусства должны достойно следовать его примеру».
А репортерам, которые не оставляли меня в покое, я неизменно повторял одно и то же:
– Я не хочу быть вторым Карузо. Я хочу быть только Джильи!
Специалисты по прогнозам в этой странной кампании сделали некоторые выводы из того факта, что Гатти-Казацца предложил мне открыть сезон в «Метрополитен». До сих пор это всегда было привилегией Карузо. Как только он стал петь в «Метрополитен» с 1903 года, он неизменно открывал сезон. Думаю, однако, что предсказатели эти заблуждались, потому что мне предстояло петь в «Травиате», а это опера, где главная партия – партия сопрано, а не тенора, и не было никаких оснований полагать, что таким образом на мою голову будет возложена корона Карузо. Я понял просто, что Гатти-Казацца мудро и предусмотрительно уклонился от необходимости немедленно сделать какой-то выбор. Как показало будущее, честь открывать оперный сезон в театре
выпала мне. Но случилось это лишь через несколько лет.
Зрительный зал «Метрополитен» довольно неудачный, точнее говоря, он не отличается какими-либо архитектурными достоинствами. Но в вечер открытия сезона – это было незадолго до «депрессии Гувера» – он представлял собой необыкновенно блистательное зрелище. В тридцати пяти пурпурных золоченых ложах знаменитой «подковы» – балкона, который снимали на весь сезон крупнейшие миллионеры – Вандербилты, Морганы, Витнеи, Рокфеллеры, – демонстрировались, словно на параде, самые роскошные драгоценности и туалеты, да и все остальное, что можно было видеть в театре, представляло собой потрясающее скопление богатств.
Когда вечером 14 ноября 1921 года занавес поднялся и началась «Травиата», я понял, что отвлекая внимание публики от партии тенора к партии сопрано, Гатти-Казацца поступал исключительно правильно и тактично. Ведь, кроме всего прочего, это был первый после смерти Карузо спектакль в «Метрополитен». Несмотря на множество сверкавших повсюду бриллиантов и украшений, заметно было, что публика в трауре. Певицу Гатти-Казацца тоже выбрал не случайно. Он рассчитывал, что имя ее вызовет интерес и ожидание: это была Амелита Галли-Курчи. Раньше она пела в Чикаго, а теперь впервые выступала в «Метрополитен».
Мне очень хотелось, чтобы сопрано удалось блеснуть и петь лучше меня. Еще больше, чем тогда, когда я заменил однажды Карузо в рождественском спектакле, я чувствовал неловкость, и мне не хотелось выпячивать себя. К несчастью, Галли-Курчи пела плохо. Какова бы ни была причина – не подходила ли партия Виолетты ее голосу, недостаточно ли хорошо она подготовила партию, нездоровилось ли ей или просто она слишком нервничала, остается фактом, что спектакль она провела невыразительно, бесстрастно. Публика из вежливости скрыла свое разочарование жидкими аплодисментами. Так что, несмотря на стратегические ухищрения Гатти-Казацца, вечер этот стал вечером моего успеха – так бывает, когда лавры достаются победителю лишь потому, что не явился противник.
ГЛАВА XXVIII
Под тем предлогом (очень слабым, правда, потому что у меня был теперь целый штат слуг), будто сам хочу сделать некоторые покупки, я исчезал время от времени из дому и отправлялся бродить по мрачным улицам Ист-Сайда.
На Малберри-стрит – главной улице «Маленькой Италии» – не было сияющих рекламой и блещущих чистотой магазинов самообслуживания, где американцы запасаются провизией сразу на целую неделю. Магазинчики, в которые я заходил, обычно ютились в какой-нибудь тесной конуре. Но это были итальянские магазины, где все говорили по-итальянски и все пахло Италией. Я покупал там кьянти, копченую пармскую ветчину, пармиджанский сыр, душистую зелень – базилик, майоран, розмарин, – оливковое масло, только что смолотый кофе и даже соломку к чаю – что касается еды, то тут я, простите, националист.
Но все это, я уже сказал, было только предлогом, чтобы побывать в этом районе, поговорить с людьми – с упрямыми и мужественными нью-йоркскими итальянцами, которых нужда заставила расстаться с голубым небом Италии и бороться за существование здесь, в этом мрачном, чужом городе. Как им, должно быть, тяжело, думал я, этим неграмотным калабрийским крестьянам, когда без денег, без друзей, не зная ни слова по-английски, они оказываются в этих мрачных местах! Как им, наверное, трудно, когда, надеясь найти утешение в молитве, они приходят в суровые ирландские католические церкви и обнаруживают, что даже религия стала здесь чужой, насмешливой, недоступной. Как они могут жить тут? – нередко спрашивал я себя. В каких глубинах отчаяния находят они силы для этого?
У меня редко находилось время, чтобы принять участие в заседаниях Общества итало-американской дружбы. Кроме того, итальянцы, которых я мог видеть там, давно уже не были ни бедными, ни скромными людьми, так что они мало интересовали меня. Мысль моя постоянно обращалась к тем эмигрантам, не имевшим никаких средств, которые узнавали Новый свет по неприкрытому уродству Ист-Сайда. Каждый год, пока я жил в Нью-Йорке, я часто выступал с концертами в пользу итальянской больницы и других благотворительных учреждений. Я делал что мог; но прекрасно понимаю, что этого было очень мало.
Спустя четыре дня после того, как Галли-Курчи так неудачно выступила в «Травиате», мы снова пели с ней вместе в «Лючии ди Ламмермур». На этот раз она выступила великолепно, прямо-таки блестяще. Ее голос особенно подходил для исполнения произведений Доницетти. Партия Лючии, во всяком случае, удавалась ей лучше других. 26 ноября я пел в «Мефистофеле» с Хозе Мардонесом, а вскоре после этого с группой артистов «Метрополитен» принял участие в концерте, посвященном памяти Карузо. Концерту предшествовала торжественная часть, во время которой Фьорелло ла Гуардия[29]29
Мэр города Нью-Йорка.
[Закрыть] преподнес театру от имени вдовы и дочери Карузо бюст великого певца. Сбор от концерта – почти двенадцать тысяч долларов – был послан в основанный Карузо дом отдыха для престарелых музыкантов имени Джузеппе Верди в Милане. Мне вспомнилось чествование Бойто в «Ла Скала». Почти все присутствовавшие – и публика, и артисты – были в слезах. И так же, как тогда, в зале ни разу не раздались аплодисменты. И это было очень тактично.
Из солистов в концерте принимали участие Франчес Альда, Амелита Галли-Курчи, Джеральдина Фаррар, Джованни Мартинелли, Джузеппе де Лука, Хозе Мардонес и я. Были исполнены Прелюдия из «Парсифаля», «Реквием» и «Кирие» из Реквиема Верди. Помню еще, что де Лука пел «Позволь мне плакать» Генделя, Франчес Альда – «Панис Ангеликус» Цезаря Франка, Галли-Курчи – «Аве Мария» Гуно, а я исполнил одно из самых любимых произведений Карузо – «Агнус Деи» Бизе. Затем прозвучал Траурный марш Шопена, хор исполнил «Пнфьямматус» из «Стабат Матер» Россини; закончился концерт исполнением «Диесире» из Реквиема Верди. Все это было необычайно волнующе, оставило неизгладимое впечатление и явилось ярчайшим примером того, как сильно может захватить музыка, как страстно она может выражать те человеческие чувства, которые слишком глубоко скрыты в наших душах, чтобы их можно было объяснить словами.
В декабре 1921 года я пел в «Богеме» с Франчес Альдой и в «Сельской чести» с Розой Понселле (она была уроженкой Нью-Йорка, но родители ее итальянцы, и настоящая фамилия ее – Понцилло). 21 декабря я пел в «Тоске». Тогда впервые моей партнершей была венская сопрано Мария Йеритца, великая артистка, но неугомонная и неспокойная натура. Йеритца и Титта Руффо[30]30
Титта Руффо (1877—1954)—обладатель выдающегося по силе и красоте баритона, талантливый певец-ак– тер. В начале XX в. часто выступал в России.
[Закрыть] – две находки Гатти-Казацца – составили новое пополнение театра в этом сезоне.
5 января 1922 года я спел первую новую партию в этом сезоне – партию Миллио в опере «Король города Из» франко-испанского композитора Лало. Гатти-Казацца ввел в театре «Метрополитен» непреложное правило – каждая опера должна исполняться на своем родном языке. В этот раз мне срочно пришлось заняться французским языком. Нужно ли говорить, что критики не упустили случая пройтись по этому поводу и отпустили в мой адрес далеко не лестные замечания о моем произношении.
В основе либретто оперы «Король города Из» – печальная бретонская легенда об одном затонувшем городе. Музыка оперы довольно приятная, настолько даже, что после первого представления в 1888 году опера долго оставалась в репертуаре и была очень популярна. Но по существу она не поднимается выше обыкновенной посредственности. Нью-Йоркская публика слушала ее сейчас впервые, но вообще в Америке она уже ставилась еще в 1890 году в знаменитом нью-орлеанском оперном театре, который потом сгорел. Лало, хоть он и известен как приверженец Вагнера
во Франции, был, в сущности, композитором лирического склада, и вагнеровский стиль, более или менее протяжного письма, который он выбрал для этой онеры, в общем выходит за рамки его возможностей.
Настоящая оперная музыка должна быть очень характерной, своеобразной, отличаться богатством и разнообразием тем и мелодий, наконец, должна отвечать законам сцены. Всего этого Лало явно недоставало. У него бы лучше получилось, если бы он последовал условной схеме итальянской опера-сериа, которая требует от композитора только умения связать воедино несколько привлекательных мелодий. Подлинные музыкальные достоинства этой оперы проявляются лишь в увертюре и в серенаде III акта – оба эти отрывка хорошо известны, потому что часто исполняются в концертах. Для увертюры Лало удачно нашел темы, которые сумел затем хорошо развить симфонически. Если же говорить о сюжете оперы, то действие в нем развивается само собой, как придется.
Состав исполнителей в нью-йоркской постановке этой оперы был самым великолепным, какой только мог дать «Метрополитен»: партию Розен пела Франчес Альда, Маргарет – Роза Понселле, принца Карнака – Джузеппе Данизе, короля – Леон Ротиер и Сан-Корентина – Паоло Апаниан. Не артисты были виноваты в том, что опера, несмотря на успех в Париже, нисколько не тронула нью-йоркскую публику. Только два раза равнодушие ее сменилось восторгом – после увертюры, которой великолепно продирижировал Альберт Вольф,[31]31
Альберт Вольф (р. 1884) много лет состоял глав– ным дирижером парижской «Опера-комик». В 1936 г. гастролировал в СССР.
[Закрыть] и после того, как я исполнил арию «Напрасно, любимая моя...». Мне очень повезло, что единственная большая ария во всей опере – ария тенора. И хотя я был рад этому, мне все же было немного неловко за бурные аплодисменты, которые выпали на мою долю, в то время как моим коллегам лишь изредка похлопывали из вежливости.
Опера «Андре Шенье» имела в предыдущем сезоне такой большой успех, что Гатти-Казацца решил повторить ее в этом сезоне с теми же исполнителями главных партий: с Клаудией Муцио и мною. И в самом деле впоследствии эта опера много лет неизменно входила в репертуар театра. Затем я снова пел в «Богеме», на этот раз с Лукрецией Бори. С ней же пел я впервые в «Метрополитен» в «Мадам Баттерфляй» и в «Манон» Массне.
«Манон» давала мне великолепную возможность показать себя. Партия де Грие всегда была одной из самых любимых моих партий – еще с тех пор, когда я впервые пел ее в Генуе, где моей партнершей была капризная Розина Сторкьо. Теперь, разумеется, мне предстояло петь на французском языке. И, к моему большому удивлению, труды мои были полностью вознаграждены одним очень приятным открытием – оказывается, петь на языке оригинала гораздо легче, потому что слова лучше ложатся на музыку;,
Необычайное уважение к оригиналу – подобного я никогда не встречал в Италии – сказывалось и в другой характерной особенности: в соответствии со стилем «опера-буфф» сохранялся разговорный диалог оперы в самом точном его звучании.
В большинстве же оперных театров, кроме Франции, разговорный диалог в «Манон» обычно заменяют речитативами, переделывая таким образом оперу и произвольно переводя ее в стиль «Гранд-опера», если придерживаться французской терминологии.
О «Манон» в «Метрополитен» у меня остались очень хорошие воспоминания. Когда опера ставилась в театре впервые – 1 января 1895 года, – партию де Грие пел великий французский тенор Жан де Решке.[32]32
Жан де Решке (1850-1925) – знаменитый польский певец (тенор); почти всю жизнь пел в оперных театрах Франции.
[Закрыть] Год спустя он снова пел в этой опере вместе с великой Мельбой.[33]33
Жан де Решке (1850-1925) – знаменитый польский певец (тенор); почти всю жизнь пел в оперных театрах Франции.
[Закрыть] И наконец, после нескольких посредственных постановок, в 1909 году состоялся великолепный спектакль с участием Карузо и Джеральдины Фаррар. Так что сравнение тут, видимо, было неизбежно, хотя это как раз тот вид критики, к которому я никогда не мог до конца привыкнуть. «У Джильи неподходящий вид для де Грие. Недосягаемое совершенство исполнения партии де Грие в «Метрополитен» навсегда останется за Решке...» Ну, а тот факт, что критики эти в то время, когда пел Решке, могли слушать еще только колыбельные песенки в своих кроватках, по-видимому, не имел для них никакого значения, – писали они об этом так, будто действительно слушали его сами. И все же критики признавали, что я «изумительно» пел «Арию мечты». Это было уже немало. И хотя я рассердился за то, что меня так безапелляционно осудили и навсегда лишили лестного эпитета «недосягаемое совершенство», отдав его Решке, меня все же утешил тот очевидный и волнующий факт, что давно уже отзвучавший голос может все-таки жить и сохраняться в памяти людей.
В феврале 1922 года я пел в опере Каталани «Лорелея», которая тогда впервые ставилась в «Метрополитен». Эта постановка отвечала планам Гатти– Казацца воссоздать некоторые небольшие оперы из репертуара XIX века и была намного лучше, чем постановка в Буэнос-Айресе. Партию Лорелеи пела Клаудиа Муцио, Рудольфа – Хозе Мардонес, Анны – Мария Сунделиус и барона Германа – Джузеппе Данизе. Опера имела столь же шумный успех, сколь сильным был провал «Короля города Из». Я еще раз порадовался, что творение Каталани живет.
В начале марта 1922 года я пел в «Тоске» с американской певицей Джеральдиной Фаррар. Это был ее прощальный спектакль – она уходила со сцены. В конце спектакля ее буквально засыпали цветами, и они, по крайней мере, помогли ей скрыть слезы. Последнее прощание с публикой мучительно для актера, это всегда очень трудный момент и как бы предвестие смерти.
Всех нас ждет этот час, и лучше, если он наступает слишком рано, чем слишком поздно. Лучше, чтобы публика сожалела о вашем уходе, чувствовала бы, что ее лишают чего-то дорогого и говорила: «Он еще так прекрасно поет!». Это лучше, чем если она будет пожимать плечами и говорить: «Наконец-то старик решил расстаться со сценой».
18 марта 1922 года я пел новую и в то же время не совсем новую для меня партию – партию де Грие в «Манон Леско» Пуччини. Элегическая «Манон» Массне гораздо лучше, на мой взгляд, передает настроение романа аббата Прево. Но вариант Пуччини, хоть это и не лучшее его произведение, имеет много отличительных преимуществ. Это непревзойденное музыкальное выражение страсти и горячности, свойственных молодости. И я думаю, что эту оперу хорошо можно петь только в молодые годы.
«Манон Леско» Пуччини написана на девять лет раньше «Манон» Массне и впервые поставлена в Турине в 1893 году. Опера эта имела большое значение для Пуччини. Тогда еще не были написаны «Богема», «Тоска», «Мадам Баттерфляй». Предыдущая его опера «Эдгард» провалилась, и Пуччини решил сделать последнюю попытку: если «Манон Леско» тоже не будет иметь успеха, больше никогда не писать опер. «Манон Леско» имела успех, правда, не блестящий, но все же достаточно большой, чтобы приободрить Пуччини и придать ему мужества продолжать писать музыку. В опере много очень выразительных мест. А III акт с его финалом – сценой у Гаврской тюрьмы – содержит самые драматические страницы современной итальянской оперы.
«Манон Леско» неизменно входила в репертуар «Метрополитен» с самой первой ее постановки в этом театре, когда в ней пели Карузо и красавица Лина Кавальери. Это было в январе 1907 года. Пуччини присутствовал на этом спектакле инкогнито. Но в антракте кто-то узнал его, и публика приветствовала композитора таким ураганом аплодисментов, что он вынужден был удалиться, чтобы не задерживать спектакль.
На этот раз критики были более снисходительны ко мне, когда делали свои сравнения. Они писали, что те, кто помнят Карузо в роли де Грие и кто опечален его смертью, теперь утешились, услышав, как спел эту партию я.
Сезон в «Метрополитен» закончился обычными весенними гастролями труппы в Балтиморе, Атланте и Кливленде. Вернувшись в Нью-Йорк, я слег из-за острого приступа ревматизма. В этом сезоне я спел сорок четыре спектакля, выступил в тринадцати разных операх, не считая концертов. Не могу даже припомнить теперь, когда я отдыхал в последний раз. Между тем Гатти-Казацца предложил новый контракт – на три года. И я поблагодарил самого себя за то, что не взял никакой работы на лето. С огромным облегчением сел я с семьей на пароход «Конте россо» и отправился в Неаполь. Уже два года я не был в Италии.