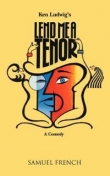Текст книги "Воспоминания"
Автор книги: Беньямино Джильи
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 21 страниц)
ГЛАВА XXXI
Распорядок моей жизни более или менее наладился и в основном следовал привычной схеме. Сезон в театре «Метрополитен» длился с начала ноября по конец апреля и ненадолго прерывался иногда концертными поездками в другие города Америки. Затем всегда следовали небольшие «сезоны» с труппой «Метрополитен» в Атланте, Кливленде, иногда в Балтиморе и Вашингтоне. Пока я жил в Нью-Йорке, я давал концерты в «Карнеги-холл», участвовал в музыкальных спектаклях в «Уолдорф Астория», которые устраивал синьор Бегби, или пел на частных приемах. Кроме того, меня записывали на грампластинках для фирмы «Виктор» в Камдене (штат Коннектикут). Короче говоря, без дела я не сидел.
Летом я мог выбирать между отдыхом и работой или даже сочетать и то, и другое. Если я думал работать, то это влекло за собой гастрольные поездки по всей стране, доходные, но утомительные. Когда же я сочетал отдых и работу, то получалось так: месяц или полтора пел в операх или концертах в разных городах Европы и месяц отдыхал в Реканати.
Летом 1923 года я почти все время отдыхал – сначала в Аньяно, где познакомился с Тетраццини, а затем в Реканати. Впервые после моего дебюта в «Метрополитен» я несколько раз соглашался петь для публики – как всегда с благотворительной целью. Это была «Тоска» в театре «Персиани» в Реканати, «Андре Шенье» с ирландской сопрано Маргарет Шеридан в роли Маддалены – в Римини, и концерт вместе с Джузеппе де Лука в театре «Аугустео» в Риме.
На сентябрь – октябрь 1923 года вместе с некоторыми другими артистами труппы «Метрополитен» меня пригласили принять участие в первых оперных спектаклях, которые должны были ставиться местными силами в Сан-Франциско. Задумал их один энергичный итальянец, живший там, маэстро Гаэтано Мерола. С усердием миссионера старался он привить своим согражданам любовь к оперной музыке. Но до берега Тихого океана в то время обычно добирались лишь некоторые провинциальные театры. И маэстро Мерола нашел другой выход из положения. Он пригласил известных певцов петь сольные партии в спектаклях, а сам позаботился о том, чтобы подготовить хор, который целиком состоял из любителей, пожелавших участвовать в спектаклях безвозмездно. Любителям понадобилось лишь немногим более семи месяцев упорной работы, чтобы подготовить восемь опер. И они хорошо подготовили их. В городе не было оперного театра, и спектакли проходили в зале муниципалитета. Начинание это не имело никакой поддержки, никаких субсидий, никакой финансовой помощи. Только кассовый сбор. Ничего не пришлось тратить на костюмы – у солистов были свои, а хористы выходили на сцену в повседневных платьях. Это смелое и безусловно единственное в своем роде начинание имело большой и заслуженный успех. Маэстро Мерола смог затем повторять спектакли и в последующие годы.
Приехав в Сан-Франциско, я немало удивился, узнав, что почетное звание капитана нью-йоркской полиции имеет силу и здесь, на берегу Тихого океана. На вокзале меня встретили самые высокие полицейские чины Сан-Франциско и эскорт мотоциклов с оглушительным воем сирен сопровождал меня до гостиницы.
Моими коллегами в Сан-Франциско были Джованни Мартинелли, Джузеппе де Лука, Адам Дидур и сопрано Квенна Марио. Я открыл сезон оперой «Андре Шенье» и закончил его оперой «Риголетто». Кроме того, я пел еще в «Мефистофеле» и в «Ромео и Джульетте». Очень волновала меня невероятная восторженность, с которой приветствовала нас публика.
Я уже рассказывал в предыдущих главах, как встретил в Сап-Франциско моего старого друга, бывшего повара Джованни Дзерри, который держал там небольшой итальянский ресторанчик. Свершилось наконец то, что он предсказывал мне, когда мы сидели с ним в беседке остерии в Реканати и он заклинал меня верить в будущее и уехать в Рим.
Эти юношеские годы вспомнились мне в связи с одним приятным знакомством, которое произошло уже когда я уезжал из Сан-Франциско. Мы переправлялись через бухту на другую сторону залива, чтобы сесть в чикагский поезд. Вместе с нами ехала девочка лет шестнадцати, которая пела итальянские песни. Девочка эта родилась в Сан-Франциско, но родители ее были итальянцы. Тетраццини[36]36
Ева Тетраццини (1862-1938) – знаменитая в XIX в. итал. певица, часто выступавшая в России.
[Закрыть] услышала ее впервые, когда девочке было четырнадцать лет. Она похвалила ее тогда и посоветовала учиться. Теперь я тоже пожелал ей больших успехов и спросил ее имя. Я помню его до сих пор. Это была Лина Пальюги. (Lina Pagliughi 1907-1980)
Из Сан-Франциско я проехал через весь континент в Монреаль и выступил там с концертом. Затем вернулся в Нью-Йорк и стал готовить новую партию – партию Лионеля в опере Флотова «Марта». Премьера должна была состояться в «Метрополитен» 14 декабря 1923 года. Вместе со мной в опере должны были петь Франчес Альда и Джузеппе де Лука.
«Марта» – наивная, старомодная, несколько ироническая, но мелодичная опера. Время от времени она почему-то сходит со сцены, но затем снова появляется и изумляет всех своим очарованием. Спустя тридцать лет после первого представления в Вене в 1847 году оперу уже совсем забыли, когда Аделина Патти, спев заглавную партию, вновь открыла ее публике. Это было примерно в 1880 году. Затем опера снова была забыта, и вторично ее возродили Карузо и Гатти– Казацца. Карузо совершенно по-новому толковал партию Лионеля; в его репертуаре она оставалась двенадцать лет, вплоть до 1920 года. Собираясь теперь петь эту партию, я как бы принимал наследие Карузо.
Написал «Марту» немецкий композитор, либретто оперы – французское, события в ней происходят в Англии времен королевы Анны (подзаголовок оперы – «Ричмондская ярмарка»), а поется она по традиции на итальянском языке. В опере очень много всяких глупостей, но тем не менее она все же нравится. Марта – в действительности леди Рарриет, придворная дама королевы Анны, – забавы ради переодевается служанкой и нанимается на службу к Лионелю, земледельцу из Суррея, которого она встречает на Ричмондской ярмарке. Лионель влюбляется в нее, но препятствий для их любви очень много. Трагедия, казалось, неминуема, но неожиданно и очень кстати выясняется, что Лионель – наследник графа Дерби, и все кончается очень благополучно.
Характерная деталь этой оперы – парафраз на мелодию Томаса Мура «Ты одна, девственная роза». Лирическому тенору, как это верно понял Карузо, большое удовольствие доставляет исполнение партии Лионеля. В моем репертуаре она оставалась с тех пор почти всегда. А большая ария тенора «Мне явилась» еще раньше входила в мой концертный репертуар. Когда я пел ее на премьере в «Метрополитен», маэстро Дженнаро Папи, который дирижировал оперой, был вынужден нарушить правила и отступить перед ураганом аплодисментов, настойчиво требовавших бис. Критики благоприятно отозвались о спектакле. «Никто, кроме Карузо,– писал один из них,– не пел эту арию с таким успехом».
В тот сезон была повторена опера «Андре Шенье», в которой я пел с Розой Понселле и Титта Руффо. Партию Флевиля пел новый исполнитель – американ– ский баритон Лоуренс Тибетт. 9 января 1924 года состоялось торжественное представление оперы «Любовь трех королей». На спектакле присутствовал автор оперы композитор Нтало Монтемецци. В опере выступали Лукреция Бори, Дидур и я. После спектакля состоялась торжественная церемония, во время которой композитору преподнесли лавровый венок из чеканного серебра.
Позднее – но все еще в январе – я пел с Элизабет Ретберг, Дидуром и Анджело Рада в новой итальянской опере «Компаньяччи» Примо Риччителли. Она ставилась в Нью-Йорке впервые. Опера эта получила первую премию, установленную в 1921 году итальяпским министерством просвещения. Впервые она была поставлена 10 апреля 1923 года в театре «Костанци» в Риме и имела большой успех. И хотя опера эта новая, нельзя сказать, что музыка ее была современной. Риччителли – ученик Масканьи, и опера его отличается мелодичностью, разнообразием музыкальных тем, часто перекликающихся с музыкой Масканьи и Пуччини. Мне такая музыка не могла не нравиться. К тому же я всегда считал, что настоящие современные оперы почти невозможно петь.
«Компаньяччи» шла в «Метрополитен» в один вечер с другой небольшой современной оперой – «Хабанерой», после невероятных кровопролитий которой публика приняла ее, конечно, с удовольствием. Действие оперы происходит во Флоренции во времена Савонароды. Казалось бы, обстановка там должна быть мрачной и тяжелой. Но сюжет оперы, напротив, очень комический; вокруг известного «испытания огнем» разыгрываются всякие смешные сценки, дело не обхо– дится, конечно, без любовных интриг, и все кончается очень счастливо.
В партии Вальдо не было ничего, кроме единственной сольной лирической арии и дуэта, который я пел с Элизабет Ретберг. Но критики, должно быть, потому что на этот раз нельзя было кольнуть меня каким-либо сравнением с Жаном Решке,– восторгались безмерно, «интереснее всего то, – писали они,– что в Джильи неожиданно раскрылся талант комика!»
В начале марта 1924 года я совершил небольшое концертное турне по городам Центральной и Восточной Америки: Буффало, Итак, Кливленд и т. д. Вернувшись в конце месяца в Нью-Йорк, я спел наконец теноровую партию в одноактной опере Пуччини «Джанни Скикки» – ту самую, которая послужила причиной невероятного переполоха, когда я отказался петь ее для первого выхода в Буэнос-Айресе. Дело не в том, что в Нью-Йорке мое отношение к этой партии изменилось, просто я решил, что лучше спеть ее, чем противиться желаниям Гатти-Казацца.
ГЛАВА XXXII
В Европе, если не считать Испанию и Италию, меня знали до сих пор лишь по имени, а голос мой звучал там только с граммофонных дисков. Макс фон Шиллингс [37]37
Макс фон Шиллингс (1868-1933) – австр. композитор. Его опера «Монна Лиза» шла в Ленинградском Малом оперном театре в 1926 г.
[Закрыть], генеральный директор Берлинской оперы, послушав меня в начале 1924 года в «Метрополитен», уговорил приехать летом в Берлин. Я знал, что берлинская публика очень любит оперу и известна своим строгим и критическим музыкальным вкусом, поэтому был рад встрече с ней и расценивал это как очередное новое испытание.
Билеты на все спектакли во время моих шестнадцатидневных гастролей в «Штаатсопер» на Унтер ден Линден были раскуплены еще задолго до моего приезда, и понадобилось вмешательство полиции, чтобы публика не разнесла кассу. Начались мои гастроли в Берлине с оперы «Богема», в которой партию Мими исполняла русская певица Зинаида Юрьевская. Меня заранее предупредили, что в германии существует строгое правило – никогда не прерывать музыку и аплодировать только в конце акта. Поэтому я был буквально ошеломлен взрывом аплодисментов после пер вой же арии – «Холодная ручонка». Мне говорили потом, что это совершенно беспрецедентный случай в истории берлинской оперы.
«Тоску», в которой я пел с Маддаленой Сальватини, публика встретила несколько иначе. Первые два акта все сидели довольно спокойно. Не было никаких аплодисментов и после первой сцены. Но в III акте, особенно после арии «Сияли звезды», зал неистово потребовал бис. А потом, когда занавес опустился в последний раз, зал аплодировал еще минут двадцать. Это была «настоящая буря по мощи и продолжительности, – писала «Фоссише Цайтунг», – которая превзошла даже то, что выпало когда-то на долю Баттистини». В «Риголетто» мне пришлось дважды бисировать арию «Сердце красавицы». И каждый раз я пел ее по-новому, иначе говоря, в тот вечер я исполнил ее в трех вариантах. Критики заявили, что это была смелость, равной которой еще никогда не было в истории берлинской оперы.
Из-за моего концерта в Филармонии произошла невероятная путаница. Кто-то сфабриковал множество фальшивых билетов, и в зал прорвалась целая толпа лишних зрителей, запрудивших все проходы. Публика, у которой были настоящие билеты, не могла занять свои места и шумно выражала свое возмущение. Наконец подоспела полиция, и мне пришлось ждать минут пятнадцать, пока в зале водворяли порядок. Все это совершенно не походило на мое представление о сдержанной и холодной берлинской публике.
Телеграммы с приглашениями посыпались на меня изо всех городов центральной Европы – из Лейпцига, Праги, Будапешта, Монако, – но я всем отвечал отказом. Я сделал только одно исключение – для Копенгагена, где выступил с концертом. Мне не терпелось вернуться в Реканати. Меня ожидало там другое, более приятное занятие, о котором я мечтал уже давно. Я собирался наконец заняться строительством своего дома. Моя квартира на 57-й стрит вполне устраивала меня, но я прекрасно понимал, что настоящий дом, мой домашний очаг – в Реканати. Поэтому я выбрал подходящее место и решил устроить себе там приют и место уединения. Примерно на половине пути от Реканати к морю высится небольшой холм, который у нас в округе называют Кастеллетто. Вот там-то я и решил построить свой дом. С холма открывается великолепный вид на Адриатическое море и на раскинувшуюся вдали долину. Все лето мы с Катерво – он жил в Реканати – занимались планами строительства. Он же взял на себя заботу о строительстве во время моего отсутствия.
2 сентября 1924 года я снова был в Сан-Франциско. Там в «Аудиторио чивико» открывался второй оперный сезон, которым руководил маэстро Мерола. Из Сан-Франциско вся труппа, презрев страшные циклоны, которые бушевали над Калифорнией, отправилась на юг, чтобы дать несколько спектаклей в Лос– Лнжелосе.
Тем временем я получил телеграмму от Пуччини из Виареджо. Он просил меня спеть партию Калафа в его новой опере «Турандот», премьера которой намечалась в «Ла Скала» на апрель будущего года. Польщенный таким вниманием великого композитора, я, конечно, согласился. Но спустя два месяца после этого Пуччини скончался, и все планы расстроились. В конце концов на премьере «Турандот» партию князя Калафа пел Джакомо Лаури Вольпи, и честно говоря, я был ему весьма благодарен за то, что он снял с меня эту обязанность, потому что партия Калафа совершенно не подходила моему голосу.
Вернувшись к зиме в Нью-Йорк после концертов в Денвере и Детройте, я пел в «Марте» на открытии сезона в Музыкальной академии в Бруклине и в «Джоконде» на первом дневном спектакле в этом сезоне в «Метрополитен». Как и тогда, когда я в первый раз выступил перед нью-йоркской публикой в партии Энцо, во мне снова всколыхнулись далекие и забытые воспоминания – дебют в Реканати, милые старушки-акушерки, у которых я снимал комнату, и ужасное си-бемоль в конце арии «Небо и море». На этот раз вся трудность была не в си-бемоль. Всем снова вспоминался Карузо, известно было, как великолепно исполнял он арию «Небо и море». И в 1915 году, когда «Джоконда» ставилась в «Метрополитен» последний раз, партию Энцо пел он. Наш спектакль, я считаю, тоже был очень удачным, хотя в последний момент и заболела Роза Понселле, и ее пришлось заменить Флоренс Истон. Кроме нас, в спектакле принимали участие Джузеппе Данизе и Хозе Мардонес. Дирижировал Туллио Серафин – он впервые выступал в «Метрополитен». Критики благосклонно отозвались обо мне, но превосходство Карузо в этой партии, добавляли они, не подлежит никакому сомнению.
7 декабря 1924 года в «Метрополитен» состоялся большой концерт, посвященный памяти Пуччини. В зале собралось четыре тысячи человек, причем многие стояли, а тысяч пять желающих попасть на концерт ушли ни с чем. Дирижировали попеременно Туллио Серафин, Дженнаро Папи и Джузеппе Бамбошек. Были исполнены арии почти из всех опер Пуччини. В спектакле приняли участие едва ли не все ведущие актеры труппы. Мы с Марией Йеритца спели дуэт из I акта «Тоски» и арии из «Манон Леско». Часть сбора от концерта – сто тридцать семь тысяч лир Гатти-Казацца послал в Италию. Из них сто тысяч предназначались дому отдыха для престарелых артистов имени Верди в Милане, двадцать пять тысяч – муниципалитету города Лукка, где родился Пуччини, и двенадцать тысяч – на возведение ему памятника.
2 января 1925 года я впервые пел в «Фальстафе» Верди. Нужно ли говорить, что мне много пришлось работать над своей партией? Ведь опера написана в основном для баритона, и теноровая партия Фентона мало заметна. Партия Фальстафа всегда была одной из коронных партий Антонио Скотти. И в самом деле, и Верди, и Бойто считали, что никто, за исключением Мореля,[38]38
Виктор Морель (1838-1923) – франц, певец (баритон), которого Верди ставил выше итальянских. Верди настоял па том, чтобы именно Морелю было поручено первое исполнение роли Яго в опере «Отелло», как несколько лет спустя в заглавной партии оперы «Фальстаф».
[Закрыть] который пел на первом представлении оперы в «Ла Скала», не превзошел его. Скотти (о нем я упоминал в предыдущей главе) был уже стар и его немилосердно ругали за нежелание покинуть сцену. Однако в этот раз друзья его остались очень довольны, а критикам нечего было возразить – даже самым пылким своим противникам Скотти неопровержимо доказал, что может еще петь Фальстафа намного лучше любого молодого соперника.
Триумфальный вечер Скотти был несколько омрачеи одним неприятным эпизодом. Американский баритон Лоуренс Тибетт пел небольшую партию Форда, которая, на мой взгляд, вполне подходила ему, потому что не имела ничего общего с бельканто. Все, что требовалось от него, – это петь во весь голос. В конце сцены, когда Скотти и Лоуренс вместе вышли на вызов публики, Скотти встретили вполне заслуженной овацией. Он великодушно настоял на том, чтобы Тибетт вместе с ним выходил и на другие вызовы. Однако, к величайшему удивлению, в публике вдруг раздались требования, чтобы Тибетт вышел на сцену один. Сам Скотти ничего не имел против, но Гатти-Казацца нашел это нелепым, не позволил Тибетту выходить одному и потребовал, чтобы Скотти один выходил на сцену до тех пор, пока не утихнут аплодисменты.
Не совсем было ясно: дело ли это хорошо сработавшейся клаки Тибетта, или же сами зрители действительно загорелись вдруг патриотическим желанием устроить небольшой «кошачий концерт» заокеанскому певцу? Как бы то ни было, думаю, что в любом случае, упорствуя на своем, Татти-Казацца допустил ошибку. Публика моментально поняла, что Тибетту не позволяют выходить на вызовы одному, и это взбудоражило ее еще больше, и она в конце концов не очень достойно выразила свое возмущение директором «Метрополитен». Чтобы затянувшийся спектакль мог продолжаться, надо было как-то положить конец всему этому. И Гатти-Казацца очень неохотно и только раз разрешил все-таки Тибетту выйти на вызов публики одному.
Ясно, что этот неприятный эпизод стал отличной пищей для журналистов. На другой день отчеты о спектакле во всех газетах были совершенно забиты кричащими заголовками о новом «открытии», новом великом баритоне, молодом американце Лоуренсе Тибетте. Паблисити – мощное оружие. И Гатти-Казацца в невероятном гневе – мне даже не описать его – вынужден был перевести Тибетта из баритона-дублера с понедельной оплатой в ведущего исполнителя с астрономическим гонораром.
Нужно добавить, что Гатти-Казацца не ошибся в своей оценке Тибетта – об этом говорит карьера певца. Он не смог долго продержаться на положении «звезды» и через несколько лет снова стал исполнителем второстепенных партий.
ГЛАВА XXXIII
24 ноября 1924 года я был у себя в уборной в «Метрополитен» в антракте между I и III актами «Мефистофеля», в котором пел с Шаляпиным, когда мне принесли письмо, напечатанное на пишущей машинке по-итальянски. Был указан и адрес отправителя: «Нью-Норк, императорский дворец. Невидимая империя. Кавалеры ордена ку-клукс-клан, ноябрь 1924 года».
В письме требовалось, чтобы я в течение двадцати четырех часов послал в Лос-Анжелос по указанному адресу пятьсот долларов. Деньги, пояснялось в письме, нужны для того, чтобы освободить нескольких членов клана, которые находились в тюрьме. Меня предупреждали также, чтобы я не обращался в полицию. Письмо заканчивалось обещанием, что если я вышлю деньги, то в будущем меня никогда больше не будут беспокоить.
Сначала я попросту испугался. Мне уже представилось, что украли моих детей и прячут их в ожидании, пока я не заплачу выкуп. Когда же спустя несколько минут я снова вышел на сцену, мне показалось, что правдивый облик дьявола – Шаляпина стал еще страшнее, чем обычно. После спектакля я сразу же позвонил моему другу, комиссару полиции Энрайту. И с тех пор в течение двух месяцев вся моя семья и я сам непрестанно днем и ночью охранялись полицией. По правде говоря, Энрайт и его коллеги сомневались, что все это дело рук ку-клукс-клановцев. Они больше были склонны думать, что это действует «Черная рука» – банда итальянских гангстеров в Америке, которые еще двенадцать лет назад точно так же угрожали Карузо. Следствие показало, что указанного в письме адреса в Лос-Анжелосе в действительности нет. А так как время шло, и ничего со мной не случалось, то я решил, что это, должно быть, была чья-то шутка. Неужели есть люди, думал я, которые так сильно ненавидят меня, что способны унизиться до подобных вещей? По-видимому, есть.
14 января 1925 года я пел впервые в «Метрополитен» партию Лориса Иванова в опере Джордано «Федора». Партию должен был петь Джованни Мартинелли, но он заболел, и мне за несколько дней до спектакля предложили заменить его. Со мной пела венская сопрано Мария Йеритца. Было известно, что партия Федоры – одна из коронных в ее репертуаре.
Между мной и этой синьорой с самого начала наших совместных выступлений в «Метрополитен» всегда существовала какая-то скрытая борьба характеров. В ее присутствии нервы у меня всегда бывали взвинчены. Вообще у меня никогда не было никаких столкновений с коллегами, я не замечал неприязни ко мне. Но знаменитый «характер» синьоры Йеритцы был для меня истинным наказанием. И как только он хоть немного давал себя знать, я чувствовал, что во мне все закипает, и я могу выйти из себя так же, как она.
На премьере «Федоры» во время сцены обручения в конце II акта синьора Йеритца так энергично бросилась в мои объятия, что я чуть не упал от ее стремительного толчка и устоял на ногах только потому, что изо всех сил уперся спиной в кулису. На следующем спектакле синьора Йеритца так извивалась в моих объятиях, изображая страстную влюбленную, что я шатался и с трудом держался на ногах. А публика хохотала над тем, что должно было глубоко волновать ее. В другой раз, в том же II акте, я являлся, как это следовало по либретто, к героине с официальным визитом. Случайно я уронил свой цилиндр на пол. Точно рассчитанным ударом синьора Йеритца незамедлительно отправила его ножкой на другой конец сцены.
Наконец, настал вечер 26 января. Спектакль уже подходил к концу, шла сцена моего последнего диалога с Федорой. Я узнавал, что она шпионка, и должен был преисполниться презрения к ней. Однако того, что произошло на самом деле, я так никогда и не понял до конца. Возможно, что мое долго сдерживаемое возмущение тем, как она все время старается поставить меня в неловкое положение, нашло неожиданно выход. Может быть, я плохо рассчитал свои силы и слишком сильно оттолкнул ее от себя, а может быть, она просто сама поскользнулась... Единственное, что я понял тогда хорошо, – это то, что синьора Йеритца кубарем покатилась по сцене и чудом удержалась на краю рампы, чуть не свалившись в оркестр. Я увидел, что она ушиблась, и, конечно, поспешил к ней на помощь, но она сердито оттолкнула меня. Сцену она все-таки довела до конца, а потом с плачем бросилась за кулисы.
Синьора Йеритца вывихнула большой палец на правой руке, когда ухватилась за светильник у рампы, и ноги у нее были покрыты ссадинами.
– Это он нарочно! – кричала она, указывая на меня. Мне было неприятно, что так получилось. Я долго извинялся, уверяя, что все произошло случайно, но тщетно: – Это он нарочно сделал! Он хотел убить меня! Убийца! Убийца! – кричала синьора Йеритца, синьора Йеритца заявила, что никогда больше не будет петь с «этим типом». Но Гатти-Казацца спокойно произнес свое излюбленное словечко «глупости» и напомнил ей, что контракт обязывает ее петь со мной через две недели в «Тоске». Не знаю, какие он приводил еще доводы, но в конце концов сумел добиться от нее согласия
Нет нужды добавлять, что в тот вечер, когда должен был состояться спектакль, я предпринял все возможные меры предосторожности, чтобы ничем и никак не обидеть свою чувствительную партнершу. 11 до самого конца все прошло хорошо. Во всяком случае, без серьезных неприятностей.
Когда спектакль окончился и занавес опустился, я остался на сцене, ожидая, пока он снова поднимется после первых аплодисментов. Синьора Йеритца была в это время за кулисами. Я сделал ей знак, чтобы она подошла ко мне, и мы могли бы вместе поблагодарить публику. Но синьора Йеритца отрицательно покачала головой. Занавес поднялся, и я поклонился один. Не придавая никакого значения тому, что я один ответил на первые аплодисменты зрителей, я ушел за кулисы и отправился к себе в уборную. Теперь, думал я, она может выйти на все остальные вызовы. Ведь в первом и втором антрактах синьора Йеритца выходила на вызовы одна. И поэтому теперь, в III акте, в котором главная ария – это ария тенора «Сияли звезды», я решил, что, отказавшись выйти на вызовы вместе со мной, она просто хотела сказать, что теперь моя очередь кланяться одному.
Увы, я ошибся! Оказывается, она не захотела выйти вместе со мной совсем по другой причине – она была убеждена, что я не должен был выходить на вызовы до тех пор, пока не откланяется на все вызовы она. Когда же я ушел со сцены, раздались крики: «Йеритца! Йеритца!». Но она, заявив сквозь слезы, что ее оскорбили, отказалась выйти из-за кулис. Дважды поднимался и опускался занавес, а она так и не вышла. Большинство зрителей стало расходиться, но в разных местах зала остались кое-где небольшие группки – ее клака, как выяснилось потом, которая слаженно и в такт настойчиво вызывала: «Йеритца! Йеритцу на сцену!».
Прошло минут пятнадцать, и ни она, ни зрители не хотели уступить. Наконец Джузеппе Бамбошек – он дирижировал в тот вечер – ласково взял ее за руку и вывел на сцену перед занавесом. Приверженцы Йеритцы выходили из себя, бешено аплодируя ей. Она жестом остановила их, давая понять, что хочет говорить. И сказала она буквально следующее: «Gigli not nice to me!» («Джильи груб со мной!»). Затем разразилась рыданиями и упала на руки маэстро Бамбошеку.
За кулисами рыдания ее превратились в истерику. Бамбошек, видя, что ситуация слишком осложнилась, позвонил Татти-Казацца, который был уже дома и засыпал в постели. Тот немедленно приехал в театр на такси, и только через несколько часов ему удалось успокоить оскорбленную героиню и вызвать на ее лице улыбку. А барон Леопольд фон Пеппер только стоял и смотрел на все, не зная, что делать.
– Ну хорошо, – примирительно сказал Гатти-Казацца, когда увидел на следующей день заголовки газет. – Я не буду больше просить их петь вместе.
И я думаю, действительно хорошо, что он этого больше никогда не делал.