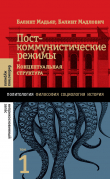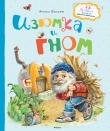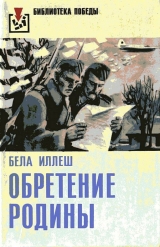
Текст книги "Обретение Родины"
Автор книги: Бела Иллеш
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 42 страниц)
– Матушка моя называет звезды небесными светлячками – сказал он и глубоко вздохнул.
При мысли о матери Дюла невольно поднял вверх голову но сегодня там звезд не было. Порывы ветра гнали с востока на запад темные тучи. Ветер дышал влагой, дождем и крепким ароматом хвои.
В лагере царила глубокая тишина. Шаги часовых почти не были слышны.
Вот уже два десятка лет был Балинт вдали от родины. Многое повидал он за эти годы, многому научился. И всякий раз, когда узнавал что-то новое, отмечал про себя: «Это пригодится дома… там, в Венгрии».
Встречи с пленными гонведами, как и любое услышанное венгерское слово, глубоко западали ему в душу. Они напоминали ему прошлое и собственную юность, но еще больше говорили о том, какая исполинская работа ожидает его и его товарищей, когда все они в конце концов вернутся в родную страну.
Сейчас, беседуя с Пастором, он испытывал большое желание сказать этому парню что-то теплое. Слова готовы были сорваться с его губ, но он все время себя останавливал. Балинт и сам не отдавал себе отчета, в чем тут причина, только не клеился этот разговор. Сознание подсказывало, что красивыми словами сейчас ничего не выразишь.
– Освободим родину? – вдруг совсем тихо спросил он Пастора.
Освободим, – ответил коротко Дюла, боясь выдать волнение, которое им овладело.
* * *
Большой зал лагерного клуба украшен гирляндами из еловых веток. Зажжены все огни. В глубине сцены флаги – красный и красно-бело-зеленый, привезенный майором Балинтом из Москвы.
Конвойные в клубе отсутствовали, за порядком наблюдали сами венгры. Балинт и Тулипан заняли места в зале среди военнопленных. На сцене за покрытым красной тканью столом сидели пятеро гонведов.
Собрание открыл краткой речью Мартон Ковач, после чего предоставил слово Пастору.
Услыхав свое имя, Дюла резко поднялся и вышел на самый край сцены. Он остановился в правом ее углу, широко расставив ноги, словно готовясь к схватке.
Речь свою Пастор начал очень тихо. Первым делом назвал тех, что на протяжении столетий вновь и вновь поднимали борьбу за свободу венгерского народа: Дожа, Зрини [30]30
Зрини, Миклош (1620–1664) – венгерский поэт, полководец в освободительной войне против турецких завоевателей.
[Закрыть], Ракоци, Тамаша Эсе, Кошута, Петефи…
Затем сказал о венграх, которые в годы гражданской войны сражались на советской земле за свободу всех народов… Не забыл Пастор и памятный для Венгрии тысяча девятьсот девятнадцатый год и героев Венгерской коммуны.
Когда Дюла заговорил о разделе земли, его голос зазвучал сильнее.
Страшное проклятье произнес Пастор по адресу венгерских господ – он слышал его еще в детстве от деда. А дед узнал его от своего далекого прадеда. С той самой поры, как господа посадили на раскаленный «престол» отважного Дьёрдя Дожа, ходит это страшное проклятье по венгерской земле. И подобно оно не тлеющим под пеплом углям, не мигающему огоньку костра, а живущей в черных тучах молнии, готовой в любую минуту ударить в надменные башни графских дворцов:
«…Да извергнет их гниющие останки венгерская земля и да не осмелится никто даже произнести их позорного имени!»
Пастор задыхался от возбуждения.
Затаив дыхание, слушали его речь гонведы.
Лицо оратора пылало огнем, когда, положив правую на сердце, давал он слово до последней капли крови бороться за свободу родины.
– К оружию! К оружию! – крикнул кто-то из гущи рядов.
– К оружию! К оружию! – эхом отозвались сотни голосов.
Все повскакали с мест, захлопали, затопали ногами.
– К оружию! К оружию! – стоял всеобщий крик.
Наконец буря утихла. Но после короткой передышки поднялась с удесятеренной силой.
– К оружию! К оружию!
Когда зал окончательно успокоился и Пастор опустился на свое место между Ковачем и Шебештьеном, слова попросил Берци Дудаш.
– Опять услышим о милостивом герцоге, – шепнул кто-то за спиной Балинта.
Однако бывший батрак заговорил на этот раз совсем по-иному.
Сначала Дудаш запинался, но очень быстро с этим справился и вместо «милостивого» поминал теперь лишь «кровожадного» герцога.
Высокий крепыш с медлительными движениями, он тяжело ворочал языком, а разгоряченные чувства неслись стремительным потоком, так что речь за ними поспевала с трудом. Порой, не сразу найдя нужное слово, Дудаш замолкал и только высоко взмахивал своим увесистым огромным кулаком, словно перед ним воочию стоял пресловутый герцог. Ораторствуя, Дудаш произносил слова, которые прежде не встречались в его речи.
– Да будет проклят и тот подлец, – закончил он свое выступление, – который уйдет на покой, прежде чем мы уничтожим последнего кровососа из господ, этих гнусных паразитов на измученном теле бедняка-мадьяра.
Мосле Дудаша выразили желание выступить еще четырнадцать человек. Правда, ни один из них уже не сказал ничего нового. Вместо того чтобы прояснять мысль и нагнетать чувства, речи начинали всех утомлять.
Когда желающих говорить больше не оказалось, на сцену поднялся капитан Тулипан. Ему захлопали. Тулипан улыбнулся, пригладил правой рукой усы и шагнул вперед, на то самое место, откуда произносил свою речь Пастор. Недолго смог он выстоять неподвижно на месте. Не прошло и двух минут, как он уже бегал взад и вперед по сцене и продолжал эту беготню до последнего слова своего выступления.
Капитан не ораторствовал, он как бы беседовал с гонведами.
Выступал он, в сущности, по тому же вопросу, по которому говорил и Пастор. Но делал это на свой собственный лад. Фантазия советского капитана из венгерской деревни Ижаки летела, не считаясь ни с какими преградами, ни с временем, ни с пространством.
Он то погружался в прошлое, то совершал разведку в будущее, то странствовал по просторам Сибири, то тут же мгновенно переносился на берега Тисы, то он был среди крестьян Дьёрдя Дожа, то в рядах пехотинцев Ракоци или же вместе с патриотами-антифашистами спускался в долину с Карпатских гор. Вот он уже достиг Тисы, а затем вдруг снова очутился на русском севере, в Сибири; заговорил о сегодняшнем дне и о том, как народы своей кровью вписали в историю тысяча девятьсот сорок третий, потом еще раз повернул колесо времени и возвратился в семнадцатый год, к самому себе, военнопленному в Сибири.
В его рассказе эпохи, страны, люди с такой неимоверной быстротой сменяли друг друга, что его слушателям не хватало времени ни приветствовать вновь прибывшего, ни попрощаться с тем, кто уже уходил. Капитан умел так обрисовать в двух-трех словах страну и людей, о которых говорил, что каждый, кто его слушал, как бы видел все собственными глазами.
Тулипан говорил негромко.
В зале стояла немая тишина.
«А мы-то при первом знакомстве считали его вралем», – думал со смущением Ковач.
Все, что рассказывал Тулипан, не допускало никакого ложного истолкования. Приземистый усач говорил, как опытный учитель. Он утверждал, что только свободный человек заслуживает имени человеческого, а свободы достоин только тот, кто смеет и умеет за нее постоять.
Утомившись, Тулипан закончил свою речь так же тихо, как и начал, и присел на стул позади Пастора.
Никто не захлопал.
В самую глубину сердец заронил великую правду этот неутомимый рассказчик и шутник. И внушенная им правда вызвала молчаливые слезы на глазах мадьяр.
Собрание единодушно избрало пять делегатов: Пастора, Шебештьена, Ковача, Дудаша и бывшего учителя Шандора Телекеша. Телекеш попал в плен, будучи вольноопределяющимся сержантом. Он долгое время принадлежал к так называемым «камышам» и наконец перешел на сторону Шебештьена.
Когда Ковач объявил собрание закрытым, все поднялись и запели венгерский национальный гимн. Балинту вспомнилось, как семь месяцев назад в Давыдовке на похоронах Аттилы Петщауэра несколько сот гонведов стояли и молчали, сжав губы, а он, советский офицер, пел этот гимн один.
«Да, кое-чему они научились с тех пор», – подумал Балинт.
* * *
Ранним утром, еще задолго до подъема, майор Балинт покинул лагерь. Он держал путь на Урал, в другие лагеря для военнопленных.
А после обеда прибыла машина за пятью делегатами. Она должна была доставить их к ближайшей железнодорожной станции.
По распоряжению начальника лагеря всех пятерых еще с утра одели с головы до ног в новое обмундирование. Кладовщик, капрал-австриец, пришел в ярость, узнав, что у него хотят взять пять пар новехонького, с иголочки, гонведского обмундирования. Он даже попытался отговорить делегатов от переодевания. Но капитан Тулипан сурово отчитал каптенармуса, и тот быстро успокоился, проявил даже чрезвычайную предупредительность. Даже предложил выдать всем пяти гонведам взамен полагающихся им жалких форменных ботинок румынские кавалерийские сапоги. Но венгры отклонили это великодушное предложение.
– Если в нашей армии, то есть в тех частях, которые мы организуем, будут введены уставом сапоги, тогда мы их наденем. А до тех пор хороши и ботинки, – сказал Ковач.
«Прямо все с ума посходили!» – решил про себя австрияк, довольный, что венгры не злоупотребили минутной вспышкой его великодушия.
Машина с пятью делегатами выехала из лагеря, когда все находились на лесоповале. Так распорядился Тулипан, противник всяких чувствительных расставаний.
Пронюхав об этом плане, гонведы начали было жаловаться на недомогание. Но Тулипан, хотя и принял к сведению их заявления, приказал провести врачебный осмотр «хворых» не в лагере, а в лесу.
Дойдя до места, «больные» сразу исцелились.
– Лесной воздух творит чудеса! – заключил Тулипан.
Когда с наступлением сумерек пленные возвратились в лагерь, пятеро делегатов уже укатили.
Стемнело. Гонведы ходили по бараку на цыпочках, даже переругивались вполголоса. Они вдруг почувствовали себя покинутыми. Тоскливое настроение порождало противоречивые мысли.
– Значит, снова на войну? – прошептал один из тех, кто вчера в клубе взывал: «К оружию!»
Сколько из них мечтало о том, как с винтовкой в руках прибудут они на родину! Ограждавшая лагерь проволока давно перестала напоминать им о том, что они в плену. Но почему-то именно сегодня каждый гонвед вновь почувствовал себя военнопленным. Да, пожалуй, еще острее, чем семь-восемь месяцев назад, когда он бросил оружие и поднял вверх руки, прося о пощаде.
– Много утечет воды, пока мы увидим свою Тису!
– Если вообще когда-нибудь ее увидим!
После отбоя в барак пришел Тулипан и присел на край постели Кишбера.
– Ну, ребята, – сказал он, – наши уже подъезжают к Москве. В полночь будут на месте.
Единственным ответом на его слова были раздавшиеся тут и там вздохи.
Тулипан сделал вид, что не расслышал их и не заметил глубокого молчания гонведов.
Пленные уже привыкли видеть, что капитан с утра до ночи не выпускает изо рта холодную, пустую трубку с коротким чубуком. Даже нервничая, он лишь прикусывал его и все-таки не закуривал. Однако сегодня Тулипан вдруг сам попросил табаку и набил трубку. Табак и спичку подал ему Кишбер. Когда трубка разгорелась, Тулипан обратился к нему:
– Над чем ты все размышляешь, Кишбер? Уж не изобрел ли ты какое-нибудь чудо-оружие? Как тот австриец, что просил у начальника лагеря пять килограммов свинины – хотел, видишь ли, изготовить взрывчатку, какой не знавал еще мир.
– За такие опыты и я готов взяться! – откликнулся кто-то из гонведов.
Однако даже этой шутке ответили смехом лишь немногие, да и то совсем не так, как откликаются обычно веселые люди.
Кишбер почему-то неожиданно вспомнил, что когда он посещал среднюю школу в Дьёндьёше – следует заметить, он не раз похвалялся, что закончил второй класс городского училища и ушел только из третьего, – словом, что во втором классе учитель венгерского языка Брендорфер учил его, Кишбера, будто историческая миссия Венгрии – защищать Запад от Востока.
– Как же это, выходит, – спрашивал теперь Кишбер у Тулипана, – что мы хотим завоевывать венгерскую свободу в содружестве с Востоком?
Ответить на этот вопрос вызвались сразу многие.
Однако ни один гонвед так и не сумел дать правильного ответа. Это не очень огорчило Тулипана, хоть он и знал, что вовсе не случайно никто из пленных до конца убежденно не опроверг старую лживую теорию, которой было одурманено в Венгрии великое множество голов. Капитан понимал: сейчас, когда гонведов обуяло тоскливое чувство заброшенности, не только какой-то там солдатик Кишбер, но и большинство из них, людей, прочитавших за всю свою жизнь одну-единственную книжку, естественно, должны вспомнить именно то, о чем она им поведала.
– Восток и Запад… Что, собственно, означают два эти слова? – задал вопрос Тулипан, напрасно прождав, когда сами гонведы рассеют сомнения Кишбера. – Да-да, что они значат?.. На востоке встает солнце, на западе оно садится. Но где точное место востока и запада? По отношению к России – Венгрия запад, по отношении к Франции – она уже восток. Если находишься в Венгрии – востоком будет Россия, а очутишься в Китае – Россия станет западом.
Мир делится не на Восток и Запад, а на угнетенных и угнетателей. Больше того, в настоящее время в мире уже существует народ, не знающий ни угнетателей, ни угнетенных. Это советский народ. В чем же историческая миссия венгерского народа? Разве не в том, чтобы бороться и отвоевать себе свободу, а отвоевав, защитить ее?
По общему молчанию Тулипан понял, что на вырвавшийся у Кишбера совершенно невольно, без какого бы то ни было дурного умысла вопрос он не дал пока удовлетворительного ответа, а ведь иные могут спросить его об этом отнюдь не праздно, а со злым умыслом. Слушая его рассуждения насчет Востока и Запада, все большее число гонведов начинало в раздумье припоминать, что ведь и они где-то когда-то слыхали, будто Венгрия – бастион Запада…
– Кажется, слова мои на вас нагоняют скуку? – спросил Тулипан. – Сказать по правде, они и на меня тоску наводят.
Он поскреб седую, с редеющими волосами голову и глубоко вздохнул. Потом тыльной стороной ладони разгладил в обе стороны свои усы.
– Вот послушайте-ка, ребята! Сейчас я кое-что вам расскажу. Только глотку драть мне неохота, а потому давайте поближе.
Все сбросили с себя одеяла и присели на корточки возле Тулипана. Другие перебрались на ближайшие койки.
– Мне, ребята, уже не раз случалось сетовать, что, живя в Венгрии, я не имел возможности много читать. Знаете вы также и то, что, как только отцовский дом пошел с торгов, я подался в подпаски. Было бы, конечно, ложью утверждать, будто подпасок ничему не учится. Бедняку подпаску, если он не хочет погибнуть, необходимо знать многое. Вот я и набирался ума-разума и от гуртовщика, и от старшего пастуха, и от пастушьей овчарки, и даже от самих овец.
Но когда в учителях состоят мастера такого рода, их наука представляет интерес, так сказать, местного значения. Пока живешь на одном месте, все это непререкаемая истина, а сорвал тебя ветер, и от нее остается один только прах. Впрочем, обрел я там и некоторые не совсем бесполезные знания. Назову хотя бы одно: научился варить пастушеский гуляш. Вот это, знаете ли, блюдо! Попрошу как-нибудь разрешения у майора Филиппова и состряпаю вам заправский венгерский пастушеский гуляш. Приготовить его по-настоящему можно только на свежем воздухе. Вот пойдем с вами в лес, там этим делом и займемся. Сало, картошка имеются, лук тоже есть, паприка… гм… Паприку попрошу прислать из Москвы. Лапшу заменим вермишелью здешнего производства. Словом, ребята, сварю вам как-нибудь отменнейший гуляш.
Про пастушеский гуляш большинство пленных слышали впервые. Но при одном упоминании об отечественном, хотя бы и неведомом блюде, у всех потекли слюнки.
– Когда император Франц-Иосиф забрил меня в солдаты и я попал в число гусар, или, как их называли, «красных дьяволов», мне довелось и там многому научиться. Однако и гусарская наука не пошла мне впрок, когда я очутился в плену в Сибири. Ведь я уже говорил вам, ребята, что в Сибири у нас было два вида лагерей. А вот о том, каким образом из бедного пасынка Ижака превратился я в законного сына Венгрии, как начал отстаивать свои права, – такой истории вы еще от меня не слышали.
Итак, в царское время в Сибири существовало два вида лагерей для военнопленных. В одних жили господа офицеры, в других изнывали пленные солдаты и унтеры. Господа офицеры получали за счет венгерской казны по шестидесяти рублей жалованья ежемесячно, а мы, рядовые, – ровно ничего. Большие деньги представляли собой тогда шестьдесят рублей. Их хватало и на мясо, и на рыбу, и на хлеб, чай и сахар, словом, на все, что имелось в лагерной лавочке. Не исключая водки с вином и даже женщин, которых конвойные тайком приводили к господам офицерам.
Мы же получали продовольствие, как говорится, натурой Что такое была выдача натурой? Я бы соврал, сказав, что значило не получать ничего. Кое-что нам перепадало… Ну, например, давали нам суп. Только варился он не из картофеля, а из картофельной шелухи. Давали и кашу. Однако мышиного помета было в ней больше, чем крупы. Вместо муки мы получали хлеб, состоявший почти из одной плесени. Его у нас так и звали: не плесневелый хлеб, а хлебная плесень. Всем этим мы и жили.
Иной от такой кормежки протянет три-четыре месяца и непременно скапутится. Не сотни, а тысячи венгров погибли в те времена в царской Сибири от голода, холода, грязи, эпидемий… Господа офицеры не раз высказывали нам свое «сожаление». А мы в ту пору были до того забиты, что никому даже в голову не приходило бросить им в ответ: нам, дескать, требуется не ваша жалость, а еда, дрова, мыло, лекарства…
Не помню точно когда, только в соседний с нами офицерский лагерь прибыл молодой прапорщик. Шептались про него по углам, будто там, в Венгрии, он слыл, как тогда говорилось, большим социалистом. Прапорщик тут же увидел, что дела в нашем солдатском лагере из рук вон плохие, вовсе даже прескверные дела. Он понял: надо не просто пожалеть попавших в беду людей, а как-то им помочь. И он тут же взялся за спасение гибнущих гонведов. Однако начало вышло неважное. На офицерском собрании, первом и последнем, в котором он участвовал, прапорщик предложил господам офицерам пожертвовать из своего шестидесятирублевого месячного жалованья по три рубля на провиант для голодающих солдат. Сам же дал на это дело не три, а тридцать рублей.
Господ офицеров предложение прапорщика не на шутку возмутило. Один заявил, что он действует не по уставу, другой обвинил его в антипатриотизме, ибо своим предложением он якобы выставляет венгерское офицерство в смешном виде перед лицом немецких и австрийских офицеров. Словом, все, кто как умел, обрушились на молодого прапорщика с различными обвинениями. А что до денег, никто давать их не соглашался. Господа офицеры устроили нашему прапорщику настоящий бойкот.
Может, вы думаете, что наш прапорщик после всего этого нос повесил? Как бы не так… Правда, он сгорал от стыда, что венгерские офицеры оказались такими себялюбивыми и эгоистическими людишками, но отлично сознавал, что изменить их нрав ему не под силу. Его занимали совсем не они. Он стремился помочь простым гонведам. Сделать это было нелегко, но совершенно необходимо…
Несмотря на свою молодость, прапорщик этот много чего успел повидать и услышать, изъездил немало стран и знал множество людей, как хороших, так и дурных. Каждому из нас такие люди знакомы тоже. Но этот молодой человек обладал исключительной способностью не путать одних с другими. За годы своих странствий он встретился с большевиками и многому от них научился. И вот, увидав, как венгерские господа безучастно и сложа руки смотрят на гибель одетых в военную форму венгерских рабочих и крестьян, он подумал, что ведь и здесь, в Сибири, находится множество большевиков, которых сослали сюда на поселение царские жандармы.
«Уж кто-кто, – размышлял он, – а большевики погибающим солдатам помогут!» Ему удалось связаться с ними. В те времена он только думал о том, чтобы они помогли ему спасти военнопленных от голодной смерти. Он, вероятно, лишь смутно предчувствовал, что те связи, которые он налаживал с русскими большевиками, в конечном счете могут решить и решат судьбу всего венгерского народа… Вот как оно было!
Тулипан замолчал. Барак тоже безмолвствовал.
Никто не нарушал тишину.
Широко раскрытые глаза гонведов не отрывались от лица капитана.
– Потом прапорщик начал проводить в нашем лагере беседы, – снова заговорил Тулипан. – Тогда-то я впервые и узнал, что такое социализм, коммунизм… и еще многое-многое другое, что до той поры никогда не западало мне в голову.
Неторопливо набив свою трубку, Тулипан зажег спичку и держал ее над трубкой так долго, что огонек добрался чуть не до ногтей.
Может, он ждал, не заговорит ли кто из пленных? Ожидания были напрасны. Гонведы лишь молча смотрели ему в лицо, в течение нескольких секунд озаренное желто-красным огоньком горящей спички.
Тулипану не оставалось ничего другого, как продолжить свое повествование.
– После победы Великой Октябрьской революции я вступил добровольцем в ряды Красной гвардии, из которой впоследствии выросла Красная Армия. Не скоро кончился бы мой рассказ, если бы я вздумал подробно перечислять, в каких местах пришлось мне повоевать за три года гражданской войны. Видел я обращенных в бегство солдат многих армий: и англичан, и американцев, и французов, и даже греков… Но вот гражданская война кончилась, мы победили. Будучи солдатом, я не ведал других забот. А после победы появились и они. Что теперь делать, куда податься? Сбросил я военную форму, товарищи спрашивают: что умею делать? А я в ответ только в затылке почесал – кудри у меня тогда были густые-прегустые и каштановые – да усы подкрутил – они еще не были такими длинными и седыми, как сейчас. Словом, когда вопрос был повторен, оставалось еще раз почесать за ухом. Товарищи все поняли.
– Пойдешь учиться, Тулипан! – сказал мне один седой большевик.
– Учиться? На старости-то лет! – изумился я.
– У нас нет старости! – ответил седоволосый. – Пойдешь в университет.
– В университет? – воскликнул я в испуге. – Да ведь я с грехом пополам пишу и считаю…
– Вот потому-то и необходимо учиться.
Дальше все произошло именно так, как предсказал седоволосый, – продолжал Тулипан. – Меня, бедного крестьянского парня, которого в Венгрии после разорения отца не пустили даже на порог начальной школы, теперь послали в Москву, в университет. Да еще в какой!.. Почему же ты, Кишбер, не спрашиваешь, что это за университет, где я учился? Ну, раз не спрашиваешь, скажу сам: поступил я в так называемый Западный университет Опять ничего не спрашиваешь? Что ж, добро! Словом, в Москве в те времена был организован специальный университет для обучения рабочих и крестьян, попавших в Советскую Россию с запада, которых у себя на родине, в Англии там, во Франции или Германии, вообще во всех западноевропейских странах, на пушечный выстрел не подпускали ни к каким учебным заведениям.
Вот таким, значит, образом и получилось, что сыновья так называемого «цивилизованного Запада» первые начатки знаний о том, что Земля вращается вокруг Солнца, приобретали в Москве. После годичных подготовительных курсов был в этот университет принят и я. Но хочу вам сейчас рассказать не об этом, а о том, как в летние каникулы послали нас, слушателей Западного университета, путешествовать по Советскому Союзу. Узнайте, мол, советских людей поближе. Вместе с большой группой студентов я отправился в Баку. Скорым поездом езды до него от Москвы три дня и три ночи. А известно ли вам, ребята, где находится Баку?.. Город этот далеко на востоке, у границы с Азией, на самом берегу Каспийского моря.
Добрались мы туда и глазам не верим! Такого нам еще в жизни видеть не приходилось. Под бледно-голубым сияющим небом, на берегу темно-синего моря, позади ветхих грязных трущоб вздымался целый лес высоченных нефтяных вышек. До революции бакинская нефть принадлежал банкирам: бельгийцам, шведам, французам, англичанам На свои баснословные барыши они строили себе дворцы в Париже, Брюсселе, Стокгольме и еще черт знает где. А бакинские рабочие-нефтяники жили в те времена в выдолбленных по горному склону пещерах или ютились в дощатых конурах.
По улицам города, как в старых-престарых сказках проходили караваны верблюдов, разъезжали люди на мулах, шагали ослы-водоносы, мелькали одетые в черные до пят платья, закрытые паранджой женщины, шествовали длиннобородые муллы в тюрбанах, кричали нищие, рыскали бездомные собаки… И всюду – грязь, мусор, распространявшие такое ужасное зловоние, что у нас с непривычки кружилась голова. Тут же, на улице, ковал железо кузнец, а какой-то пожилой подмастерье раздувал ему мехи; сапожник латал под открытым небом сапоги или сандалии, а рядом терпеливо дожидался босой клиент; на улице шил и кроил портной; здесь же стирала прачка, стряпал повар, а в двух шагах от них учил ребят учитель… Эх, чего только ни делали на этих узких, грязных, вонючих улочках!
– Восток! Настоящий средневековый Восток! – качали головой студенты-западники.
В городском совете, в бакинской ратуше, нам показали план реконструкции города и дали подробные объяснения. Мы и верили и не верили в чудо, которое должно произойти с городом согласно этому плану. Признаться, скорее не верили. Один мой однокурсник, француз, сказал:
– Сначала нас учили не верить, что бог творит чудеса, а сейчас хотят внушить, что чудеса могут творить люди.
С тяжелым сердцем легли мы спать в тот вечер. В огромном зале старой царской казармы на полу были постланы для нас соломенные тюфяки. В полночь мы заснули, но солнце еще не успело взойти, как нас разбудили. Пришел некий ранний гость, престранный человек. С лица он напоминал не то китайца, не то японца, но не был, видимо, ни тем, ни другим. От настоящего китайца он чем-то отличался, но чем, я понять никак не мог.
Наш гость, еще очень молодой человек, приземистый, желтолицый, с глазами как миндалины, оказался – это выяснилось позже – тоже студентом. Одет он был… Трудно даже описать, как он был одет, но я все же попробую… В общем, наш гость был наряжен так, как это было принято у венских извозчиков первых лет правления императора Франца-Иосифа, когда еще не существовало автомобилей: пиджак в крупную клетку, такиё же брюки, вишневого цвета жилет, желтые туфли и белые гамаши. На шее ярчайший галстук бантиком, на голове черный котелок. Гость не снял его, даже присев на предложенный ему стул. В Советском Союзе подобный головной убор можно откопать разве лишь в музее, да и то навряд.
Словом, увидав такого посетителя, я еле удержался от смеха, и то лишь потому, что еще в Венгрии знал, что такое подлинное гостеприимство. Но многие из моих товарищей не выдержали и расхохотались. Остальные натянули на голову одеяла. Проглотив смех и досаду, я дружелюбно обратился к нашему раннему гостю по-русски, спрашивая, кто он такой, откуда и зачем к нам прибыл? Он назвал свое имя – я его и тогда-то еле разобрал, а сейчас и вовсе не помню – и на очень странном языке, который он, но всей видимости, принимал за русский, сообщил, что родом из Тувы, откуда приехал сюда, в Баку. Разыскал он нас потому, что слышал, будто мы студенты с Запада, а это, мол, как раз его специальность.
Меня несколько удивила подобная специальность, но я не стал вдаваться в подробности, только поинтересовался, где, собственно, находится Тува? Он с готовностью объяснил, что родина его лежит где-то на востоке, неподалеку от Китая и совсем рядом с Монголией. Ответ был дай вполне ясный и четкий, но я из него понял лишь то, что гость наш приехал откуда-то очень издалека и добираться до Баку ему пришлось то на поезде, то на верблюдах, то пароходом, а случалось, и пешком.
– Для чего же вы проделали такой огромный путь от Тувы до Баку? – задал я второй вопрос.
– Я совершил мое паломничество в Баку, – с приятной улыбкой ответил гость, – чтобы здесь, на месте, изучить западную культуру. Ведь это моя специальность.
За десять дней, проведенных нами в Баку, я частенько встречался с этим тувинцем. Мы подолгу беседовали, и немало мудрых вещей довелось мне от него узнать. В том числе и то, как глупо делить мир на Восток и Запад. Вначале меня смешила его одежда. Однако, узнав его ближе и ознакомившись с его планами, я уже не только не смеялся, но восхищался им. Тувинский товарищ беззаветно любил свой народ.
Пока Тулипан при помощи своего красноречия переносил гонведов то в Сибирь, то в раскинувшийся по берегу темно-синего Каспия город Баку, тяжелые облака заволокли луну и на лагерном дворе закрапал, напоминая о приближении осени, ленивый дождик.
Но гонведы не слышали этого тихого накрапывания. Не замечали они и того, что давно сидят в кромешной тьме.
– Полночи, пожалуй, проговорили, – очнулся наконец Тулипан. – Наши, должно быть, добрались уже до Москвы. Будем надеяться, они нас там не подведут! Славные ребята, орлы! Хорошо, что вы избрали именно их.
– Пастор, Шебештьен…
Кишбер перебирал имена всех пятерых посланцев и, называя каждого, неизменно добавлял:
– Малый что надо!
Гонведы поддакивали:
– Парень хоть куда!
Кто-то сказал:
– Хороший товарищ!
– Ну, ребята, пора и честь знать! Давайте поспим, – попрощался Тулипан. – Спокойной ночи. Пусть всем вам приснится новая Венгрия, наша Венгрия – та, которую мы будем вместе строить.
* * *
Темный, с погашенными огнями поезд, на котором ехали Пастор и его друзья, в полночь прибыл на один из московских вокзалов. Матово-лиловые лампочки указывали пассажирам, где находится выход, а бледно-красные огоньки обозначали, что «хода нет». Вокзал был тускло освещен, и можно было лишь догадываться о его огромных размерах.
Возле выхода на привокзальную площадь пятерых делегатов и их сопровождающего ожидала грузовая машина. В кабине рядом с шофером сидел молодой офицер. Он спросил у сопровождающего капитана пароль. При свете карманного фонарика офицер тщательно изучил предъявленные капитаном документы и, найдя их в полном порядке, сказал:
– Садитесь в машину!
Город, погруженный в темноту, был полон звуков. Со звоном и звяканьем проносились трамваи без огней, гудя, мчались автомобили. Заводы и фабрики, мимо которых пробегал грузовик с венгерскими военнопленными, свистели, ухали, стучали, грохотали.
Не было тишины и в беззвездном небе… Над городом кружили самолеты. Слепящие лучи прожекторов лизали и ощупывали небосвод. Какой-то луч равномерно, как часовой маятник, качался из стороны в сторону, другой вонзался кинжалом в облака, третий стоял неподвижно, похожий на громадную заводскую трубу.
Под облаками висели огромные воздушные шары, напоминавшие по форме то мяч, то колбасу, то самую обыкновенную кухонную скалку. Стоило одному из прожекторов осветить такой воздушный шар, и он мгновенно начинал сверкать, подобно алмазу.
Уловив в свои сети самолет, сноп прожекторных лучей сопровождал машину и не выпускал до тех пор, пока летчик не подтверждал условной ракетой, что он «свой».