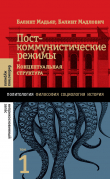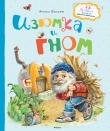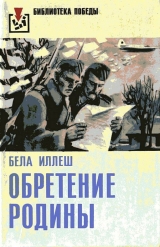
Текст книги "Обретение Родины"
Автор книги: Бела Иллеш
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 42 страниц)
Жизнь военнопленных была заполнена борьбой.
Сначала им приходилось воевать с голодом, что оставило глубокие следы в душе у каждого. Даже теперь, когда голод отступил, среди пленных все еще встречалось немало таких, которые продолжали буквально трястись над едой, хотя лагерь-стационар был оборудован хорошо, питание налажено и кормили весьма сносно. В лагере кое-кто жил даже сытнее, чем у себя в Венгрии, когда был батраком или чернорабочим. После того как эпопея голодовки канула в Лету, беседы среди пленных велись уже не просто о пище, а об отечественной кухне.
Но по существу, мечта о гуляше или клужских голубцах была лишь одной из форм, в которую выливалась их общая тоска по родине.
У Берци Дудаша, который еще в давыдовской церкви поведал однажды товарищам историю, как по приказу герцога Фештетича избивали розгами батраков, появилась теперь новая, довольно странная привычка. Он доставал откуда-то из заповедных глубин своего кармана поблекшую фотографию жены и двух малолетних сыновей и подолгу рассматривал ее, пускаясь при этом в пространные перечисления всего необходимого для приготовления рыбацкой ухи.
Он подробнейшим образом обсуждал сам с собой, как заправлять эту уху, когда и что именно нужно опускать в бурлящий кипяток (а котелок при этом должен быть поставлен на открытый огонь, – вот именно на открытый огонь!).
Тоска по родине, порой совершенно нестерпимая, вызывала у людей и тяжкие вздохи, и скупую мужскую слезу. Однако мысли гонведов в такие минуты были заняты не Венгрией вообще – они думали лишь о собственной деревне, о доме, в котором жили до войны, о жене, о невесте.
Уже с первых дней стало ясно, что попавшие в плен гонведы не составляют какой-то единой семьи. Очутившись в лагере, они объединялись в разные мелкие группы: в одну подбирались земляки, знакомые еще с довоенных времен, в другую – бывшие однополчане, в третью – просто соседи по койке.
Эти группки и группочки распадались так же быстро, как и складывались. Вместо них возникали новые объединения единомышленников. А случалось, что люди целыми группами сближались между собой, постепенно сливаясь в одну.
Именно так обрисовал создавшуюся в лагере обстановку Ковач в беседе с одним советским капитаном спустя три дня после того, как майор Филиппов принял от гонведов адресованное наркому обороны послание.
Мартон отметил, что к осени 1943 года в лагере, в сущности, образовались две большие группы. Инициатива послать письмо исходила от одной из них. К ее сторонникам принадлежало свыше двухсот военнопленных. Однако, кроме них, письмо подписали еще с полсотни гонведов, которых все в лагере звали «камышом болотным» из-за их готовности склоняться то на одну, то на другую сторону, в зависимости от обстановки.
Военнопленные из второй группы, а их насчитывалось больше сотни, на деятельность приверженцев первой группы смотрели враждебно и всячески старались тайно ей противоборствовать. Они презирали своих противников, потому что заводилами в этой группе были коммунисты, потому что она приняла в свои ряды солдат из рабочего батальона и, наконец, по той причине, что все ее члены дружили с румынами и безоговорочно верили всем известиям о военных поражениях немцев.
Коммунистов военнопленные из этой второй группы считали предателями родины, евреев презирали, румын, словаков и чехов люто ненавидели, а в победу Гитлера верили слепо. Им не только было «в точности известно», где и на сколько именно километров продвинулись вперед гитлеровские войска, но они ухитрились даже высчитать, когда именно дойдут немцы до их лагеря – это произойдет второго сентября, не раньше и не позже! – и составили втихомолку список тех военнопленных, которых по приходе сюда нацистов следует обвинить в измене родине, предать чрезвычайному трибуналу и безотлагательно повесить.
Когда Мартон рассказал все это приземистому советскому капитану, тот после некоторого раздумья задал ему вопрос:
– По вашему мнению, обе группы в лагере сложились на основе классового различия и имущественного неравенства?
– До известной степени да. Правда, во второй группе имеется и сын крупного помещика, и несколько сынков деревенских богатеев, и бывший крупный торговец, и домовладелец. Однако к числу самых яростных составителей черного списка относится, например, буфетчик из захудалого трактира, который у себя дома жил, пожалуй, хуже, чем живет здесь. И тем не менее он изо всех сил цепляется за господ.
– Ну а «камыш болотный»? Так, кажется, называете вы колеблющихся? Почему из них присоединились к вам только немногие?
– Как вам сказать?.. Надо думать, людям, по крайней мере некоторым, легче не занимать вообще никакой позиции, чем выбрать четко определенную.
Советский капитан помолчал, затем скептически хмыкнул.
– Это всецело зависит, – заметил он, – от тех людей, которые уже заняли определенную позицию и отлично знают, чего хотят.
* * *
Через час после того, как трое венгерских посланцев передали начальнику лагеря письмо на имя Сталина, к майору Филиппову явились с просьбой новые венгерские посетители. Это были Янош Риток и Эмиль Антал-младший.
Риток был чертовски элегантен. Его представительную, статную фигуру плотно облегал китель, ловко перекроенный и перешитый из итальянской зеленой шинели – оригинальная комбинация аристократического охотничьего костюма с непритязательной формой рядового гонведа. На ногах бывшего трактирщика красовались начищенные до зеркального блеска кавалерийские ботфорты. Только головной убор оставался на нем форменный. Но, едва переступив порог кабинета Филиппова, Риток поспешно сдернул его с головы и зажал под мышкой.
Своим видом Риток был обязан особому обстоятельству. Дело в том, что, живя в лагере, пленные гонведы спиртного вообще не получали, а между тем к выпивке на фронте пристрастились даже те, кто у себя дома были убежденными трезвенниками. И вот после недолгих экспериментов Ритоку удалось открыть секрет изготовления напитка из хвои и крапивы, про который при сильном желании можно было сказать, будто в нем содержится некая доза спирта. Мутная и горькая, хотя и бесспорно благоухающая хвоей, самогонная «еловая водка» Ритока стала пользоваться большим спросом. И вот благодаря этому дивному пойлу Риток, еще не столь давно захолустный трактирщик, сделался вдруг самым видным щеголем из обитателей лагеря. Чего только не было теперь в бездонных недрах его карманов: там хранились серебряный портсигар, одиннадцать зажигалок, три пакетика с кремнями и две авторучки, а на шее под рубахой болталась тоненькая серебряная цепочка с тремя серебряными крестиками и четырьмя золотыми кольцами.
Эмиль Антал-младший попал в плен, будучи солдатом рабочего батальона, но в лагере (это было еще в Давыдовке) решительно объявил себя лейтенантом, впрочем не совсем безосновательно. Осенью 1941 года Антал нес службу непосредственно в западноукраинской ставке венгерского генерал-полковника, кавалера ордена Витязей Белы Миклоша-Дальноки. Наследственное поместье супруги Белы Миклоша расположено было в комитате Фейер, по соседству с огромным, в три тысячи хольдов, фамильным поместьем семьи Анталов. Как и полагается доброму соседу, генерал-полковник при каждом удобном случае оказывал покровительство молодому Анталу. Однако злые языки болтали, будто не последнюю роль при этом играло и то, что еще в бытность капитаном Миклош успешно приударял за матушкой Эмиля. Не будем разбираться в причинах, но факт покровительства остается фактом. За какие-то пустячные три месяца военной службы Эмиль Антал-младший достиг звания лейтенанта запаса и, не понюхав пороху, не услыхав ни единого выстрела, был награжден двумя венгерскими боевыми орденами и одним германским.
Лейтенант Антал после выпивки любил порассуждать о том, каким образом Венгрия сможет вновь обрести свое былое могущество, величие и славу, утраченные ею со времен битвы при Мохаче [22]22
Мохач – старинный город на правобережье Дуная в южной части Венгрии. В битве при Мохаче (1526 год) турки разбили венгерскую армию.
[Закрыть]. По его убеждению, это произойдет лишь в том случае, если бразды правления возьмет нилашистская партия Салаши [23]23
Салаши, Ференц (1897–1946) – главарь венгерской фашистской партии «Скрещенные стрелы».
[Закрыть].
Историческая миссия его высочества правителя Венгрии Хорти – восстановить Венгрию времен Франца – Иосифа! И наш правитель разрешит ее с честью, – любил повторять лейтенант Антал. – Но какой истинный мадьяр способен удовлетвориться только этим? – с театральным надрывом продолжал он. – Кто склонен забыть, что в эпоху короля Лайоша Великого [24]24
Лайош I Великий (1326–1382) – король из Анжуйской династии, правившей в Венгрии с 1342 по 1382 год и в Польше с 1370 по 1382 год.
[Закрыть]мадьяры владычествовали на трех морях? Поднимем же, господа, наши бокалы за Венгрию трех морей!
Эмилю Анталу превосходно было известно, что подполковник генерального штаба Кальман Кери – большеротый, как сом, наодеколоненный начальник армейского отдела контрразведки, дальний родственник и верный приверженец регента Хорти, – хотя и явно придерживался пронемецкой ориентации, но был противником нилашистов. Кери всюду стремился унюхать предательство и подкоп под непоколебимый авторитет высокой персоны регента. Плохо приходилось тому, кого он брал под подозрение.
Тем не менее Антал не переставал в открытую, во всеуслышание объявлять себя единомышленником Салаши. По всей вероятности, лейтенант проявлял столь поразительную храбрость, всецело полагаясь на заверения генерал-полковника Миклоша, сказавшего в свое время его мамаше:
– Даю слово, мадам, позаботиться о вашем сыне. После захвата Москвы обещаю доставить его домой целым и невредимым. К тому времени у молодого героя скопится столько наград, что они едва уместятся на его груди…
Вполне возможно, что, строя планы на будущее, Эмиль Антал-младший совершенно сознательно желал быть заподозренным в симпатиях к нилашистам. Когда один из его сослуживцев, старший лейтенант, предупредил его однажды: «Не мешало бы вам, лейтенант, чуточку попридержать свой язычок», – Эмиль на это только усмехнулся и ответил:
– Что может со мной случиться, господин старший лейтенант? Мой папенька – гусарский капитан запаса, крупный помещик, правительственный обер-советник. А если даже что и произойдет… Само будущее, сама история подтвердят мою правоту! Будущее за Салаши…
В марте 1942 года Бела Миклош-Дальноки отбыл в Будапешт для личного доклада регенту Хорти о положении на фронте. Не успел специальный поезд генерал-полковника пройти и половины пути, а вездесущий Кальман Кери уже арестовал лейтенанта Эмиля Антала-младшего.
Он допрашивал дрожавшего от страха молодого человека самолично и предъявил ему обвинение отнюдь не в принадлежности к нилашистам, а в еврейском происхождении, которое тот якобы скрыл. Обвинял подполковник не голословно, у него имелись на руках доказательства.
Кери продемонстрировал трепещущему Анталу копию свидетельства о рождении его матери Амалии, урожденной Лангфельдер. Мать горячо сочувствовавшего венгерским нилашистам лейтенанта Эмиля Антала оказалась ни больше ни меньше, как единственной дочерью и наследницей некоего крупного еврейского суконщика Марка Лангфельдера, одного из столпов будапештской еврейской общины. В распоряжении Кери очутились также документы и о том, что так называемое «фамильное» имение семьи Анталов было куплено Марком Лангфельдером у обанкротившегося австрийского биржевика.
Специальный поезд генерала Миклоша едва достиг Будапешта, а Эмиля Антала уже успели разжаловать в рядовые и отчислить в рабочий батальон, направлявшийся на Восток. Подполковник Кери не преминул позаботиться даже о том, чтобы соответствующим образом отрекомендовать бывшего лейтенанта его новому начальнику, командиру рабочего батальона.
Будучи лейтенантом, Эмиль Антал-младший проявил себя весьма неразумным и взбалмошным, отчаянно легкомысленным юношей. Главным источником этих его качеств была, по всей вероятности, роскошная офицерская форма и чертовски удачливая карьера. Но едва сняли с него офицерский мундир, как он мгновенно поумнел.
Фамильное поместье в две тысячи семьсот девяносто шесть хольдов помогает человеку переносить выпавшую ему судьбу, если даже в злобности своей она загнала его в штрафной батальон. В конце концов оказалось, что и сам Антал-младший далеко не дурак и что достаточно башковит его новый начальник – деловой и смекалистый командир батальона, сумевший за несколько недель туго набить себе карманы, не прибегая к откровенному грабежу и насилию.
Получая очередной отпуск на родину, молодчики из конвойных рабочего батальона регулярно наведывались в родовое имение Анталов. Вот уж где на собственном опыте познали они, что такое настоящее венгерское гостеприимство, въявь ощутили, какой щедрой может быть истинная барыня-мадьярка! Мать Эмиля не жалела денег для дорогих друзей единственного, бесценного сыночка. «Дорогими друзьями» единственного сына Амалия Антал называла фашистских громил.
Таким нехитрым способом Эмилю удалось сделаться почти неприкосновенным для садистов-конвойных, а следовательно, и отвести непосредственную угрозу для жизни. Тогда он стал спасать свою благородную душу. Бывший лейтенант – и вдруг штрафник!.. Это вызывало в нем душевную боль. Дабы ее смягчить, Эмиль принялся распространять слух, будто разжаловали его единственно по той причине, что он сугубо убежденный нилашист, доверенный человек самого Салаши, и даже супругу Хорти не побоялся назвать с издевкой Ревеккой.
Верят ему или нет, мало интересовало Антала. Гораздо важней было то, что он сам весьма скоро уверовал, будто, во-первых, действительно является мучеником, принявшим кару за участие в нилашистском движении, а во-вторых, и впрямь состоит в числе ближайших друзей Салаши и потому, когда придут к власти нилашисты – а этот момент совсем не за горами, – его ждет блестящая курьера.
В плен Эмиль попал вместе с Дюлой Пастором, Мартоном Ковачем и Шебештьеном, причем как раз в тот самый день, когда его заботливой мамаше всеми правдами и неправдами удалось наконец выхлопотать в Будапеште приказ об отзыве бывшего лейтенанта, ныне штрафника, в Венгрию и о его демобилизации. Антал-младший ничего об этом не знал. Да если бы и знал, теперь решение его судьбы там, в Будапеште, потеряло всякое значение – он уже мерз в Давыдовке! И помочь ему согреться уже не могли никакие фамильные поместья в комитате Фейер…
Еще в Давыдовке Эмиль Антал написал ходатайство к Советскому правительству, доводя до его сведения, какая его, Антала, постигла вопиющая несправедливость в венгерской армии, и просил признать за ним его офицерский чин. Письмо это, написанное на коричневой оберточной бумаге чернильным карандашом, Эмиль передал советскому лейтенанту Владимиру Олднеру. Ответа на это послание он так и не получил.
Когда его перевели в тамбовский распределительный лагерь, Антал снова настрочил письмо, причем более развернутое, и представил его уже местному начальству. К просьбе признать его звание он теперь присовокупил предложение своих услуг Советскому правительству. На это заявление также не последовало ответа.
Эмиль Антал-младший был высокий, стройный молодой человек с каштановой шевелюрой. Так как в лагере платье его окончательно обветшало, он пытался занять у кого-нибудь из лагерников более приличную одежду – разумеется, под залог своего имущества там, дома. Он мечтал о прославленных пештских актрисах, опереточных дивах и пуще всего заботился о том, чтобы содержать в образцовом порядке свои ногти.
С людьми, в которых он нуждался, Эмиль говорил так, словно всю жизнь был с ними на короткой ноге. Вот и сейчас, явившись в сопровождении Ритока к начальнику лагеря, он на приличном немецком языке и самым панибратским тоном сообщил, что он явился сюда вместе с Ритоком в качестве представителя от большинства находящихся в лагере венгерских военнопленных.
– Чего же вы хотите? – спросил Филиппов тоже по-немецки.
– Мы пришли договориться относительно формирования новой венгерской армии, – самодовольно заявил Антал.
– Не понимаю, – удивился Филиппов.
– Наши однолагерники, господин майор, только что вручили вам заявление военнопленных, в котором предлагается создать новую венгерскую армию. Но они действовали от лица меньшинства. Мы же считаем своим долгом и – более того – уполномочены сообщить вам, что, во-первых, упомянутое меньшинство не вправе говорить от лица всех гонведов, а во-вторых, что и мы, большинство, также являемся сторонниками создания венгерской армии. Исходя из этого я по поручению большинства военнопленных выработал принципы создания такой армии, на основе которых…
Майор Филиппов, что бывало с ним не часто, проявил некоторое нетерпение.
– Короче, – перебил он Антала.
– Что он сказал? Что он сказал? – с тревогой спрашивал Эмиля буфетчик Риток, который ни слова не понимал по-немецки.
– Потом! Пока помолчи! – отмахнулся от своего спутника Антал и вновь обратился к майору:
– Как я полагаю, господин майор, поскольку вы, русские, разрешаете, то есть я хотел сказать, поддерживаете идею формирования венгерских воинских частей, вы, конечно, не можете не быть заинтересованы в том, чтобы эти части обладали боеспособностью и ударной силой. Вождение войск, как вы, господин майор, знаете не хуже меня, является на сегодня уже наукой, притом весьма серьезной. Армия без кадров, без хорошо подготовленных специалистов…
Филиппову начинала окончательно изменять его обычная выдержка.
– Скажите, что вам надо?
– Я как венгерский офицер…
– Вы офицер? Но если это так, почему вы молчали об этом до сих пор?
– Я действительно офицер. То есть был офицером… То есть…
– И ваш спутник офицер?
– Нет, господин майор. Он рядовой, крестьянин. То есть… Он, собственно говоря, рабочий…
– Понятно, – произнес Филиппов. – Понятно, – повторил он, нервно постукивая пальцами по столу. – Если вы желаете ко всему здесь сказанному что-либо добавить, изложите в письменной форме. Карандаш есть? Хорошо. Вот вам лист бумаги. Можете писать по-немецки или, если угодно, по-венгерски.
В лагере прозвонили к обеду.
– Что он сказал? – не унимался Риток.
– Молчи!.. Мне бы только хотелось добавить, господин майор…
– Я больше вас не задерживаю.
После обеда Антал засел за составление новой бумаги. Риток распустил в своей группе слух, что его об этом попросил сам начальник лагеря. Риток полагал, что столь доверительное сообщение привлечет на их сторону многих колеблющихся. Но он ошибся.
Когда в «камышах» узнали, что группа Антала – Ритока тоже составляет прошение, люди заволновались: очевидно, и для них настал момент сделать выбор, чтобы не очутиться между двух стульев. А раз так, то уж лучше Шебештьен и Ковач с Пастором, нежели Риток с Анталом. Почему именно лучше, объяснить смогли бы лишь немногие, но чувствовали это почти все.
Гонведы, еще вчера не решавшиеся поставить свою подпись под заявлением, составленным Ковачем, теперь один за другим отзывали в сторону то Шебештьена, то Мартона и объявляли о своем желании подписать письмо.
– Поздно! Письмо уже отправлено!
– Зачем же так поспешили? Даже подумать не дали!
– На обдумыванье вам времени не хватило, а слушать бредни Ритока и Антала вы успеваете! – подтрунивал в ответ Ковач.
– Чего ты обижаешь ребят, Марци? Не смейся над ними, – вмешался в разговор Шебештьен. – Образумились, ну и прекрасно. Лучше поздно, чем никогда.
– Что верно, то верно!
Колеблющиеся обратились с жалобой к Пастору. Ведь он не только умел сам говорить, но и обладал удивительной способностью выслушивать других.
– С этими ребятами надо что-то предпринять, – заявил Дюла Пастор. – Пусть с опозданием, но они все-таки пришли. И если уж они в конце концов хотят идти с нами…
– А что тут можно придумать, Дюла? Нельзя же просить вернуть наше письмо обратно. Оно наверняка давно в пути…
– Дюла, в сущности, прав, – сказал Шебештьен. – Нужно что-то предпринять.
– Я знаю, что именно! – после короткой паузы воскликнул Ковач. – Мы попросим майора Филиппова разрешить нам то самое, что устроили румыны: провести конференцию и у нас. И пусть на этой конференции к нам присоединятся все желающие.
Все трое в молчаливом раздумье стояли на задворках прачечной.
Ковач лузгал семечки. Он здорово навострился в этом деле: набирал в рот целую щепотку, а грыз по одному зернышку.
Семечками были набиты оба его кармана. Он выменял их у одного австрийца на самый обыкновенный ластик.
– Угощайтесь, ребята!
Шебештьен взял полную горсть. Пастор отрицательно покачал головой.
– Скажите, – проговорил вдруг он, и на лице Пастора проступило несвойственное ему выражение нерешительности. – Но только откровенно… Как, по-вашему, коммунист я или нет?
Оба изумленно уставились на него.
– Чего молчите?
– Да сам-то ты кем себя считаешь, Дюла? – переспросил Шебештьен.
– Что ты понимаешь под словом «коммунист»? – добавил Ковач.
Пастор перевел дыхание.
Прежде чем заговорить, он проверял в уме каждое слово. Начал торжественно, как гимназист на экзаменах. Приподнятость как-то не шла Пастору и плохо вязалась с его обычным тоном. Но даже и тут он, как всегда, был искренен, говорил без обиняков.
– Как я считаю? Коммунист – это такой человек, который не только любит свой народ, свободу и, разумеется, правду, но и борется за народ. Он готов принести любую жертву, сделать все ради народа – трудового народа и его свободы. Он не потерпит никакой несправедливости.
– Ну что ж, сказано от души, – заметил Ковач.
– Дюла, считаешь ли ты себя таким? – спросил Шебештьен.
– Хочу быть, – тихо ответил Пастор. И громко добавил, почти выкрикнул: – Буду!
На щеках его выступил румянец. Дюла тревожно посмотрел на Шебештьена, потом опустил голову.
– Если ты сам, Дюла, считаешь себя коммунистом, рано или поздно непременно им будешь, – серьезно сказал Ковач, которому в свою очередь передалось торжественно-приподнятое настроение Пастора.
– Спасибо, Мартон. Но я не хочу ловить вас на слове. Прежде чем дать решительный ответ, выслушайте меня до конца. Ведь вы еще многого про меня не знаете, не все я вам рассказал о себе. Человек – это такая сложная штука… Надеюсь, вы правильно меня поймете…
Он умолк.
– Говори, Дюла. Говори совершенно спокойно… Ты среди друзей… О чем хотел ты нам рассказать?
– О двух вещах. Не знаю… быть может…
Пастор снова замолчал. Гмыкнул. И наконец, собравшись с духом, заговорил легко и быстро.
– Первое, о чем вам следует знать, относится к 1939 году, когда хортистская армия вторглась в Закарпатье. Очень я тогда радовался, что туда пришли венгры. Кричал до хрипоты, орал «ура». Через несколько дней орать перестал – уразумел, в чем тут дело… Как говорит Мартон, добрался до сути. Мне стало ясно, что пришли к ним не просто венгерские братья, а прежде всего солдаты Хорти. И до этого времени чешские баре притесняли простой народ Закарпатья, но солдаты и, конечно, офицеры Хорти обращались с людьми еще хуже. Тут долго можно рассказывать, но ведь речь сейчас обо мне, о тогдашней моей ошибке. Повторяю, в момент, когда передо мной появился хортистский солдат, я искренне радовался и кричал ему «ура». Это и есть то, о чем первым делом должны вы знать.
Излагая эту историю, Пастор то в упор глядел в глаза Шебештьену, то пытливо всматривался в выражение лица Мартона Ковача. Закончив рассказ, он снова опустил голову.
– Ну а каково твое второе дело, Дюла? – спросил Шебештьен. – Если оно не более серьезно, чем первое…
– Второй случай произошел со мной в Давыдовке. Это было в феврале нынешнего года. Я там трижды сверх положенного раздобыл себе по паре полных котелков супа и по двойной порции хлеба. И это в то время, когда большинство моих товарищей по плену были счастливы получить одну-единственную миску! А в другой раз, в той же Давыдовке, я принял предложенные поваром полтарелки жареной картошки, хотя в тот день ни один гонвед ничего подобного и не нюхал. Только слопав эту картошку, сообразил я наконец, что дело-то, выходит, нечистое. И так меня совесть замучила, что глаз не мог всю ночь сомкнуть. Ворочался с боку на бок да вздыхал. Помнишь, Мартон, ты еще говорил: «Спи, спи, почему не спишь». До утра мы тогда проговорили. Впрочем, говорил больше ты, а я лишь поддакивал. Сколько раз готово было сорваться у меня с языка: «Не надо со мной так говорить, Мартон! Ведь я обманул вас… И недостоин того, чтобы ты рассуждал со мной о родине, о чести…». Но я тогда попросту струсил. И хотя терзался, промолчал-таки. Однако решил… дал себе слово… Ну вот… Теперь вы знаете обо мне все.
Шебештьен и Ковач переглянулись.
– Ты будешь коммунистом! Обязательно будешь! – приподнятым тоном произнес Ковач. – Дай руку.
А Шебештьен молча обнял друга.
– И я, и Шебештьен – оба коммунисты, члены партии. Но само собой разумеется, у нас нет полномочий говорить или действовать от ее имени. Мы двое ни тебя, ни кого другого принять в члены партии не можем. Но за это время и он, и я хорошо тебя узнали и засвидетельствуем, что как мысли твои, так и действия, поступки достойны коммуниста.
И Мартон Ковач тоже обнял Пастора.
* * *
Пастор не спал всю ночь. Чтобы не беспокоить соседей по койкам, он старался лежать неподвижно. Он чувствовал настоятельную потребность собраться с мыслями, найти ответ на многие терзавшие его «что» и «почему», но только напрасно себя мучил.
Едва забрезжил рассвет, Дюла босиком бесшумно прокрался через гулко храпевший барак и вышел во двор. Присев на мусорный ящик возле лагерной прачечной, сладко зевая, оглядывал он пустой двор, хотя, по существу, там не было ничего достойного внимания.
Немного погодя Пастор встал, подошел к колодцу и, сбросив потрепанный, выцветший китель, стал стаскивать с себя нижнюю рубаху. Он вымылся до пояса холодной водой и, так как не прихватил с собой полотенца, лишь чуть-чуть обтер мускулистое, упругое тело носовым платком.
Натянув снова рубашку, набросив на плечи китель, Пастор медленным шагом возвратился к ящику. Сел. Вынул из кармана штанов ломоть серого солдатского хлеба – в карман вмещалось не меньше четверти буханки – и складным ножом с деревянной ручкой сначала аккуратно разрезал его на продолговатые ломтики. Затем каждый ломтик разделил на квадратные кусочки, будто это были дольки сала. Воображение рисовало: квадратик побольше хлеб, поменьше – сало. Он клал их поочередно в рот и, казалось, даже ощущал вкус сала с паприкой.
В сотый раз внутренне переживал Дюла вчерашний разговор. В его памяти прочно и последовательно хранились все главные события жизни, начиная с самого детства и вплоть до сегодняшнего дня. А вот связь между ними ускользнула.
Если бы кто-нибудь вздумал понаблюдать сейчас за Пастором, ему нетрудно было бы прочитать его думы. Для этого стоило лишь взглянуть на открытое, незнакомое с притворством, красно-смуглое от ветра и солнца лицо Пастора, которое за последнее время несколько осунулось, но выглядело еще более твердым и решительным. Пастор сидел, прикусывая зубами нижнюю губу.
Вдруг он спрыгнул с ящика на землю, козырьком приставил левую ладонь ко лбу и стал всматриваться вдаль, туда, где край неба уже заалел.
* * *
Каждое утро, как только звонкие удары гонга будили пленных, Мартон Ковач резким движением сбрасывал одеяло и, вскочив с койки, бежал к окну – взглянуть, какова нынче погода. Там же он делал зарядку и одевался. Его привычка к утренней зарядке у окна с течением времени превратилась в своеобразный ритуал.
Это случилось через несколько дней после того памятного события, когда начальник лагеря майор Филиппов принимал у себя гонведов и обещал им подумать и оказать содействие в организации их конференции; он выразил при этом надежду, что никаких препятствий не будет. В то утро Ковач, совершая перед окном свою обычную церемонию, заметил незнакомого пожилого человека в форме советского капитана, проходившего мимо барака вместе с майором Филипповым.
– Гляньте, ребята, – воскликнул Ковач, – какие усищи у этого человека!
Военнопленный всегда преисполнен любопытства. На зов Мартона к окну кинулись другие. Гонведы с таким изумлением разглядывали длинноусого капитана, словно перед ними был огнедышащий дракон о семи головах.
– Усы как у гусарского ротмистра! – заключил Кишбер. – Вот только фасон другой. У гусар они закручены острием кверху, ну уж в крайнем случае топорщатся в стороны. А у этого опущены книзу – чего доброго, скоро дорастут до пупа!
– Это типично славянские усы! – выразил свое мнение Эмиль Антал.
Мартон Ковач имел стародавнюю привычку по одному внешнему виду разгадывать каждого прохожего: сколько ему лет от роду, какой он нации, какая у него профессия, женат он или нет, много ли у него детей и какое его любимое блюдо. Большой живот, шрам от сабельной раны, криво посаженная голова или еще что-нибудь в этом роде – любой такой черты было достаточно, чтобы Ковач сочинил целую биографию этого человека, притом с такими подробностями, которые не только обосновывали шрам от сабельной раны или разросшийся живот, но даже характеризовали среду, самую местность, откуда происходил незнакомец. Составляя биографию худого, сухопарого капитана, который в этот ранний час прогуливался с начальником лагеря по пустому двору, Ковач опирался главным образом на более или менее правдоподобные домыслы о его необыкновенных усищах.
– Усы у капитана действительно типично славянские. – начал он. – Даже старославянские. Такие усы встречались главным образом у фельдфебелей сверхсрочной службы, подвизавшихся на поприще каптенармусов. Ставлю собственную голову против кремня для зажигалки, что и этот старикан был когда-то царским унтером, а в гражданскую войну или, вернее, после нее перешел на сторону красных. С тех пор он так и плесневеет на интендантских складах. Думается, сейчас его немножко перетряхнули, повыбили пыль… и послали к нам – либо чтобы он усовершенствовал наше интендантское хозяйство, либо… вконец его развалил. Точнее говоря, он, без всякого сомнения, получил приказ наладить у нас провиантское снабжение. Но чует мое сердце, здорово испоганит нашу кухню этот молодцеватый старичок! Мне довелось прочитать немало русских романов, и я знаю, что царские каптенармусы былых времен умели воровать похлеще даже, чем австрийские и венгерские. Не хочу быть пророком и портить вам настроение, ребята… Однако предсказываю: в ближайшем будущем нам придется, пожалуй, довольствоваться только ароматом хлебной корки!
– Ты полагаешь, что этот старикашка способен по-настоящему воровать? – удивленно возразил Антал. – Да если он станет ежедневно поедать из наших пайков столько, сколько весит сам, это же будет сущая малость!
– Мала блоха, да больно кусается! – вставил Риток.
– Ну ладно, пошутили, и хватит! – вмешался Шебештьен.
Во время утренней раздачи завтрака усатый капитан представился венгерским военнопленным:
– С добрым утречком, ребята! Дай вам бог, дай вам бог! Меня зовут Янош Тулипан. Я родом из Ижака, что под Кечкеметом. Из той самой деревни, где гонят наивкуснейшую абрикосовую палинку, а девушки такие певуньи, лучше и не сыщещь. Вот уж двадцать девять лет, как я покинул родину. Но может кто из вас бывал в тех краях? Пусть тогда расскажет, как там нынче: так ли хороши ижакские девчата, как в ту пору, когда я там процветал?