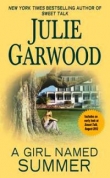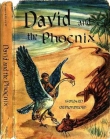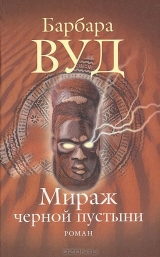
Текст книги "Мираж черной пустыни"
Автор книги: Барбара Вуд
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 52 страниц)
Мона поставила чайник на стол, отыскала жестяную коробку с остатками печенья и присела рядом с гувернанткой.
– Вы только представьте себе, – продолжала миссис Уадделл, наливая себе чай, – они собираются расширять здание Законодательного собрания, и это обойдется им более чем в четверть миллионов фунтов. Этого потребовали африканские члены Собрания. Что ж, действительно, горячий африканский воздух занимает много места!
Мона задумчиво глядела в окно на освещенные солнцем, покрытые пылью цветы, пожухшие газоны, буйные заросли сорняков. Ей едва удавалось удержать достаточное количество рабочих рук для работы на кофейных плантациях; она больше не могла позволить себе приличного садовника.
– Вы слышали, что Том Вестфолл продал ферму? Одному из этих кикую, ни больше ни меньше! Теперь его хозяйству придет конец.
Мона прекрасно знала, что имеет в виду миссис Уадделл. Передача власти и имущества происходила стремительно, европейцы спешно покидали свои земли, а африканцы тут же хватали ее, и такой резкий переход губительно сказывался на состоянии дел на фермах.
Три месяца назад Джомо заявил, что в целях предотвращения второго пришествия May May, идеи которого вновь начали витать в воздухе, тридцати тысячам африканцев необходимо передать землю белых поселенцев еще до объявления независимости. После этого заявления две сотни белых семей со всей долины Рифт передали в руки африканцев свои фермы, которые они выстроили собственными руками много лет назад, и получили от британского правительства денежную компенсацию. Надо ли говорить, что африканцы набежали на их фермы, как саранча.
– Говорят, это просто катастрофа, – продолжала миссис Уадделл. – По каминным полкам у них разгуливают куры, в спальнях – козы! Естественно, ни о каком ремонте и речи нет. На прошлой неделе я проезжала мимо дома Колье – кошмар! Розы бедной Труди все вытоптаны, огород заброшен. Окна разбиты, двери висят на одной петле. А посреди гостиной они устроили очаг! Если бы ей довелось это увидеть, у нее сердце бы разорвалось. Но Труди-то теперь в Родезии, и слава богу, что она отсюда выбралась. Вот скажите мне, миссис Тривертон, если уже сейчас все так плохо, что же будет при независимости?
Мона понятия не имела, как будут обстоять дела дальше, но именно это больше всего тревожило тех белых, которые все еще оставались в Кении. С каждым днем африканцы, некогда послушные и исполнительные, становились все более дерзкими и нахальными. Она слышала истории о том, как белых сталкивали с тротуаров и оскорбляли, как их скот воровали и увозили прямо среди бела дня. Внезапное умопомрачение поразило весь африканский народ, будто независимость опьянила их и лишила рассудка. «Теперь это наша страна, – говорили они. – А вы, белые, можете выметаться отсюда, потому что мы больше не собираемся вас терпеть».
Неужели это и было то прекрасное будущее, которое Дэвид рисовал для себя и для Моны?
– В декабре, – продолжала тем временем гувернантка, – британская полиция передаст полномочия африканцам. К кому тогда мы будем обращаться за помощью?
Именно поэтому Эллис Хопкинс продала свое огромное ранчо в Рифте – то ранчо, которое она спасла, когда ей было всего шестнадцать, и перебралась в Австралию. Она предвидела, что впереди их ждут плохие времена, что африканцы, движимые жаждой мщения и более не сдерживаемые твердой рукой британского закона, направят весь свой гнев против белых. А теперь и Тони собирался переехать к сестре и помогать ей на ее новой овечьей ферме. «Продавай ферму, Мона, – говорил он ей. – Ты здесь долго не протянешь. Белладу уже давно не приносит дохода. Оставь ее черномазым, пусть сами с ней мучаются. Переезжай к нам с Эллис в Танзанию».
Но Мона не собиралась ничего продавать. Даже если она будет последней белой, оставшейся в Кении, она не продаст свою ферму.
– Ну что ж, миссис Тривертон, – продолжала гувернантка, допивая чай и думая о том, что неплохо было бы получить к чаю еще и сандвичей. – Сейчас, думаю, самое время сообщить вам и мои собственные новости. Мы с мистером Уадделлом решили перебраться в Южную Африку, к дочери. Вы знаете, мы уже более тридцати лет живем в Кении. Наши дети здесь родились. Мы превратили некогда дикие земли в райские кущи, возделывали землю там, где до того были бесплодные камни, вкладывали свои деньги и свои умения в эту колонию. Но теперь мы им больше не нужны. Мы продали свою ферму африканцам, а я хочу убраться отсюда раньше, чем увижу, что они с ней сделают.
Мону эта новость не удивила. За последние несколько месяцев миссис Уадделл была уже третьей гувернанткой, которую она нанимала для Деборы. Кения тонула, как корабль, и команда бежала с него.
– Когда вы уезжаете?
– Через две недели. Просто хотела заранее вас предупредить ради вашей дочери.
Однако ее работодательница больше ничего не сказала, и между ними воцарилось гробовое молчание. Миссис Уадделл взяла еще одно печенье и мысленно пожала плечами. «Странная она штучка, эта миссис Тривертон, – думала гувернантка, – живет тут одна, в этом богом позабытом старом поместье, изо всех сил пытается удержать его на плаву, тогда как всякий, имеющий глаза, видит, что все ее усилия тщетны. Миссис Тривертон не смогла найти достаточно африканцев для работы, потому что все они требовали платить им больше. В результате качество ее кофе ухудшилось и она уже не смогла получить за него хорошую цену, соответствующую мировым стандартам. Для миссис Уадделл оставалось загадкой, почему миссис Тривертон так упорно держится за погибающую ферму, живет одна-одинешенька в этом большом доме из белого камня, без мужа, но с незаконнорожденной дочерью – совершенно неуправляемым созданием, между прочим, в то время как орды глупых африканцев кружат вокруг ее фермы, готовые в любой момент выкупить у нее землю.
Если бы Мона сочла нужным объяснить миссис Уадделл свою позицию, она сообщила бы ей, что она потому так упрямится и не хочет уезжать, что Белладу – это все, что теперь есть у нее в этой жизни, земля, которая не предаст и не осудит. В одинокой жизни Моны не осталось близких людей: ни друзей, ни родных. Вся любовь, все сочувствие, вся преданность, на которые она была способна, умерли вместе с Дэвидом и их ребенком.
Когда на следующее утро после той страшной ночи Мона проснулась и ей рассказали о ее странном кратковременном помешательстве, которое заставило ее броситься в спальню своих родителей, она почувствовала в груди тупую, ноющую боль и поняла, что отныне эта боль будет с ней всегда.
В отличие от тети Грейс, которая после потери своего горячо любимого Джеймса Дональда сумела найти в себе силы, чтобы жить дальше, Мона так и не перестала горевать. Несгибаемая тетушка Моны позволила себе лишь полгода скорби; потом она собралась с силами, расправила плечи и снова взяла в свои руки управление миссией и заботу о ее нуждающихся обитателях. «Все дело в том, что Грейс обладает завидной способностью вновь возрождаться для любви, – думала Мона, – в точности как ящерица, у которой отрастает новый хвост взамен оторванного». Сама Мона такой способностью не обладала и прекрасно знала, что больше не способна любить кого бы то ни было. А без любви ей в жизни никто и не нужен. Кроме ее фермы.
Теперь-то она хорошо понимала, почему после смерти Карло Нобили ее мать выбрала самоубийство.
И хотя у самой Моны не хватало духу покончить с собой, она тем не менее совершила над собой своего рода моральное самоубийство. И хотя время от времени она виделась с тетей и крайне редко – с Джеффри и Тимом, она совершенно замкнулась в себе и вела чрезвычайно уединенный образ жизни, целиком посвятив себя своим пяти тысячам акрам земли и погибающим кофейным деревьям, которые были всем, что у нее осталось. Что касается ее ребенка, Деборы, то она передала ее заботам няньки в тот самый день, как девочка родилась, и больше к ней не прикасалась. Она считала, что этот ребенок появился на свет в результате бесплодного, неестественного акта и потому не имел права на жизнь.
Но сейчас Дебора жила дома, потому что школы закрывались, а гувернантка скоро уедет. Неожиданно Мона оказалась в крайне неприятной для себя ситуации.
– Если вы позволите мне высказать свое мнение, – начала миссис Уадделл, – лучше бы вам все продать и уехать вместе со всеми, миссис Тривертон. Скоро декабрь, а это не лучший сезон для тех, у кого белая кожа.
Но Мона возразила:
– Я никогда не продам ферму. – Она принялась мыть чашки. – Я родилась в Кении, здесь мой дом. Мой отец сделал для этой страны больше, чем могли бы сделать для нее миллионы африканцев. Это он построил Кению, миссис Уадделл. У меня гораздо больше прав находиться в этой стране, чем у всех людей там, за стенами этого дома, которые всю жизнь влачили жалкое существование в своих убогих глинобитных хижинах, а ничего полезного не сделали.
Мона немного постояла у раковины, затем резко обернулась.
– На самом-то деле, – продолжала она негромко, и в темных ее глазах горел огонь, – кому и следовало бы отсюда уехать, так это самим африканцам. Они не заслужили эту богатую и прекрасную землю. Они ничего не сделали для Кении. Они здесь все только разрушат и превратят в руины. Когда мой отец приехал сюда, все они жили в хижинах из коровьего навоза и носили звериные шкуры. Они влачили жалкое существование, как много веков назад, и ни к чему не стремились, разве что к тому, как бы выпить пива. Они и сегодня жили бы точно так же, если бы белые не приехали в Кению. Мы устроили здесь фермы, построили плотины и проложили дороги, дали им медицину и книги! Черт, да благодаря нам Кения появилась на карте мира, и теперь они говорят нам, чтобы мы убирались!
Миссис Уадделл с изумлением глядела на свою работодательницу. Это была самая длинная речь, которую она когда-либо слышала от миссис Тривертон. И какая эмоциональная! Кто бы мог подумать, что эта женщина, которую вся колония считала жесткой и бесчувственной, способна на такое!
Гувернантка вдруг вспомнила одну непристойную сплетню, которую она слышала много лет назад и которая касалась Моны Тривертон и какого-то африканца. Но даже миссис Уадделл, не любившая отказывать себе в удовольствии посмаковать иногда подобные пикантные подробности, не смогла поверить в такую отвратительную историю. Нет, это было просто немыслимо, чтобы дочь графа завела интрижку со своим черным управляющим!
И вот сейчас, услышав горечь в голосе миссис Тривертон и увидев, каким страстным огнем горят ее глаза, миссис Уадделл нутром почувствовала, что в ее работодательнице кипит глубокая, необычайно сильная ненависть к африканцам, и поневоле призадумалась: не была ли та ужасная сплетня на самом деле правдой?
Когда гувернантка наконец ушла, Мона осталась одна. Она все так же стояла у раковины, схватившись за ее край, будто боялась утонуть. В ее груди снова вырос холодный ком боли, поднялся кверху, застрял в горле, не давал дышать.
Она попыталась собраться с силами и вскоре сумела овладеть собой. Эти приступы начались девять лет назад, сразу после смерти Дэвида, и очень насторожили Грейс, которая сделала племяннице электрокардиограмму. Исследование, однако, показало, что сердце Моны – его физическое состояние – было превосходным. Постоянные боли и приступы удушья были вызваны совсем другими причинами, источник которых находился в той сфере, к которой у современной медицины не было доступа.
– Ты должна выплакаться, Мона, – сказала тогда Грейс. – Ты запираешь боль в себе, не даешь ей выхода, и это очень плохо.
Но Мона потеряла способность плакать. Когда Дэвид умер в ее объятиях, ее душа будто спряталась ото всех в каком-то глухом сером углу и продолжала оставаться там еще очень долго после того, как мертвые были преданы земле и с May May было покончено. После той ночи, которую она провела с Тимом, Мона не проронила ни одной слезинки по Дэвиду и их ребенку.
Вдруг Мона услышала наверху какой-то звук. Она подняла лицо к потолку и прислушалась. Еще один звук, затем чьи-то приглушенные голоса. Это в спальне ее родителей! Мона выбежала из кухни и помчалась на второй этаж.
В школе Деборе объясняли, как управляться с замками и ключами. Это было на тех же уроках, где их учили, как завязывать шнурки, аккуратно наливать себе молоко, правильно нести ножницы, чтобы случайно не пораниться. Несколько месяцев назад, когда Дебора была дома совсем одна и занималась увлекательным исследованием его уголков, она наткнулась на связку старых, покрытых ржавчиной ключей, спрятанных в дальнем углу буфета. Она попробовала их на разных замках, как учила ее мисс Нэйсмит, и таким образом ей удалось отпереть дверь этой волшебной комнаты.
Когда Дебора впервые увидела кровать с балдахином, всю в оборках, подоконник, заваленный шелковыми подушками, покрытое слоем пыли трюмо, заставленное красивыми бутылочками из-под духов, она подумала, что наткнулась на секретную башню сказочной принцессы. Но затем Дебора поняла, что здесь давно никто не живет, а поэтому она может спокойно исследовать все замечательные сокровища, которые спрятаны в этой комнате.
Она обнаружила старые пеньюары с блестками и платья из кружев и газа, тиары, усыпанные драгоценными камнями, боа из перьев. Она играла с коробочками, где хранилась высохшая пудра, и с помадами, которые рассыпались, стоило дотронуться до них. Она открывала бутылочки и вдыхала аромат давно высохших изысканных духов. Она придумывала сказки о принцессе, которая здесь жила, и ее детское воображение рисовало ей Златовласку и Спящую красавицу.
А теперь она показывала свою секретную комнату Кристоферу Матенге, своему новому лучшему другу.
Они сидели на полу и рассматривали содержимое того, что Дебора называла «коробочка с документами», – небольшой деревянной шкатулки, в которой хранились пачки старых пожелтевших фотографий, письма, открытки, программки каких-то мероприятий, о которых Дебора не имела ни малейшего представления. Так как она не знала, кто были все эти люди на фотографиях, она придумывала им имена и разные истории.
– Вот это я, – показала она одну из фотографий Кристоферу, на которой была запечатлена маленькая девочка в забавной одежде и старомодном шлеме от солнца. Эту девочку она идентифицировала с собой – не осознавая при этом, что и вправду на нее очень похожа. Девочка сидела среди деревьев, рядом с белокурой женщиной с печальными глазами, и держала на коленях обезьяну. Что-то было в их лицах, что заставляло Дебору часами смотреть на них; обе они выглядели такими несчастными. На обратной стороне фотографии была надпись: «Роуз с дочерью, 1927 год».
– О! – воскликнула Дебора, вытаскивая из коробки тоненькую книжечку. – А вот кем можешь быть ты! Видишь? Ты даже похож на него!
Кристофер с удивлением рассматривал книжечку, которую протягивала ему Дебора, – очень похожую на ту, которую его мать носила с собой столько лет. Он уставился на лицо на фотографии.
– Кто это? – спросила Дебора. – Ты можешь прочитать имя?
Кристофер был ошеломлен. Человека на фотографии звали Дэвид Матенге.
– Но это же твоя фамилия! – воскликнула Дебора. Она не очень разбиралась в фамилиях и семейных отношениях, не понимала, что у нее должна быть другая фамилия, не такая, как у родителей ее матери. Дебора ничего не знала про брак и про отцов, что женщины меняют свои фамилии, когда выходят замуж. Она полагала, что у всех матерей и дочерей такая же ситуация, как и у них.
Кристофер не мог оторвать глаз от фотографии. Да, он и вправду был очень похож на этого мужчину, но больше его поразило другое: в пропуске было указано место проживания владельца – это был округ Найэри. Были еще и имена его родителей – вождь Кабиру Матенге и Вачера Матенге.
Кристофер ничего не знал о своем собственном отце – ни как его звали, ни кем он был, ни когда и почему умер. Его мать наотрез отказывалась говорить о нем. Когда она рассказывала разные истории Кристоферу и Саре, сначала в лагере Камити, который Кристофер почти не помнил и в котором родилась его сестра, а потом в лагере Хола, где они прожили пять лет, то в ее рассказах фигурировала лишь его бабушка-знахарка, и вождь, который жил давным-давно, самый первый Матенге.
Но этот человек, Дэвид…
– Можешь оставить себе, если хочешь, – великодушно разрешила Дебора, заметив, как жадно он схватил книжечку.
Мальчик аккуратно спрятал ее за поясом своих шорт.
Только Дебора полезла в ящик за очередным сокровищем, как чей-то силуэт вдруг закрыл свет, льющийся в комнату из открытой двери.
Мона не могла поверить своим глазам.
Комната, которую она заперла девять лет назад, стояла теперь открытая, освещенная светом, льющимся из коридора. Знакомые вещи, так давно не виданные ею, теперь, казалось, разом набросились на нее, принесенные безжалостными волнами памяти. Трюмо ее матери, за которым Роуз часами сидела, не обращая на нее никакого внимания, в то время как Нджери расчесывала ее длинные платиновые волосы. Кнут Валентина на стене с ручкой из кости носорога – символ его абсолютной власти над ней и над Белладу. Большая кровать с балдахином, на которой были зачаты поколения Тривертонов – сама Мона, еще в Англии, сорок пять лет назад, и Дебора, ее дочь, в ту ночь, когда погиб Дэвид.
Ошеломленная Мона опустила глаза и увидела маленькую босую девочку с загорелыми руками и ногами и копной черных волос, которая подняла свое лицо навстречу свету, как скромный лесной цветочек.
– Здравствуй, мама, – произнесла девочка.
Мона же будто потеряла дар речи. Девять лет назад она закрыла эту дверь и повернула ключ в замке, навсегда спрятав внутри все свои невыносимые воспоминания, накрепко заперла всех преследующих ее демонов. Она вышла тогда из этой ужасной комнаты, с ее пыльными секретами, женщиной, свободной от своего прошлого. И могла чувствовать себя в относительной безопасности лишь тогда, когда знала, что этих демонов никто и никогда не выпустит на свободу.
Но сейчас дверь в комнату была широко распахнута, из нее изливалась угроза. Хрупкая безопасность Моны была нарушена маленькой девочкой, которая появилась на этот свет лишь потому, что Дэвид погиб.
– Да как ты посмела! – закричала Мона.
На лице Деборы появилось выражение растерянности.
– Я просто показывала своему новому другу… – только и успела она сказать, потому что мать наклонилась, больно ухватила ее и рывком подняла на ноги. Дебора от неожиданности вскрикнула. Когда мать принялась бить ее наотмашь, она попыталась закрыться рукой.
– Нет! – закричал Кристофер на суахили. – Перестаньте!
Мона подняла глаза и в свете, падающем из коридора, разглядела африканского мальчика. Она уставилась на него, рука ее разжалась и выпустила Дебору.
Мона озадаченно нахмурилась.
– Дэвид? – прошептала она.
И тут на нее разом нахлынули воспоминания – старые, запрятанные в самой глубине ее сознания: пылающая хижина, ожерелье из Уганды.
Казалось, комната закачалась. В груди вновь нарастал ком невыносимой боли, поднимался кверху, к горлу, душил ее. Она схватилась за дверной косяк.
Дебора, потирая руку и изо всех сил стараясь не плакать, принялась объяснять:
– Это мой лучший друг, мама. Его зовут Кристофер Матенге, он живет со знахаркой – она его бабушка.
Мона не могла дышать. Она прижала руку к груди. Сын Дэвида!
Кристофер расширившимися от страха глазами смотрел на женщину, стоящую в проеме двери. Она странно смотрела на него полными слез глазами, затем шагнула к нему, и он отступил.
– Дэвид, – прошептала она.
Он вспомнил о книжечке, заткнутой у него за поясом. Мона протянула к нему руку, и Кристофер подался назад, споткнулся, ударился о кровать.
Она медленно приближалась к мальчику, ее руки тянулись к нему, слезы струились по лицу. Дети смотрели на нее со страхом и не могли сдвинуться с места. Когда между ней и мальчиком оставалось всего несколько сантиметров, Дебора и Кристофер замерли в испуге.
А потом вдруг, к великому изумлению Деборы, нежная улыбка осветила лицо ее матери – лицо, которое, сколько помнила себя девочка, всегда оставалось бесстрастным и жестким.
– Сын Дэвида, – ласково произнесла Мона с некоторым удивлением.
Кристофер, прижавшись к кровати, весь сжался и будто окаменел, когда она подняла обе руки и нежно обхватила его лицо.
Не замечая слез, струившихся из глаз, Мона смотрела и не могла насмотреться на такие знакомые и любимые черты: морщинку между бровями, миндалевидные глаза, упрямо выдвинутый вперед подбородок – наследие воинов масаи. Кристофер был еще ребенком, но в его чертах уже проступал образ того мужчины, которым он станет. И Мона даже сейчас видела, что он будет очень похож на Дэвида.
– Сын Дэвида, – произнесла она опять с горестной улыбкой. – Он живет в тебе. Получается, что он не умер…
Сердце Кристофера заколотилось, как бешеное, когда лицо женщины еще больше приблизилось к нему. Она наклонилась и очень нежно поцеловала его прямо в губы.
Когда Мона подалась назад, в ее лице что-то переменилось, и из груди вырвался стон. Она в последний раз прикоснулась к нему – провела пальцем по линии от носа до краешка губ, затем повернулась и бросилась вон из комнаты.