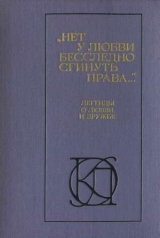
Текст книги "Нет у любви бесследно сгинуть права..."
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 34 страниц)
Десять жрецов в белых одеждах, испещренных красными пятнами, вышли на середину алтаря. Следом за ними шли еще двое жрецов, одетых в женские одежды. Они должны были изображать сегодня Нефтис и Изиду, оплакивающих Озириса. Потом из глубины алтаря вышел некто в белом хитоне без единого украшения, и глаза всех женщин и мужчин с жадностью приковались к нему. Это был тот самый пустынник, который провел десять лет в тяжелом подвижническом искусе на горах Ливана и нынче должен был принести великую добровольную кровавую жертву Изиде. Лицо его, изнуренное голодом, обветренное и обожженное, было строго и бледно, глаза сурово опущены вниз, и сверхъестественным ужасом повеяло от него на толпу.
Наконец вышел и главный жрец храма, столетний старец с тиарой на голове, с тигровой шкурой на плечах, в парчовом переднике, украшенном хвостами шакалов.
Повернувшись к молящимся, он старческим голосом, кротким и дрожащим, произнес:
– Сутон-ди-готпу. (Царь приносит жертву.)
И затем, обернувшись к жертвеннику, он принял из рук помощника белого голубя с красными лапками, отрезал птице голову, вынул у нее из груди сердце и кровью ее окропил жертвенник и священный нож.
После небольшого молчания он возгласил:
– Оплачемте Озириса, бога Атуму, великого Ун-Нофер-Онуфрия, бога Она!
Два кастрата в женских одеждах – Изида и Нефтис – тотчас же начали плач гармоничными тонкими голосами:
«Возвратись в свое жилище, о прекрасный юноша. Видеть тебя – блаженство.
Изида заклинает тебя, Изида, которая была зачата с тобою в одном чреве, жена твоя и сестра.
Покажи нам снова лицо твое, светлый бог. Вот Нефтис, сестра твоя. Она обливается слезами и в горести рвет свои волосы.
В смертельной тоске разыскиваем мы прекрасное тело твое. Озирис, возвратись в дом свой!»
Двое других жрецов присоединили к первым свои голоса. Это Гор и Анубис оплакивали Озириса, и каждый раз, когда они оканчивали стих, хор, расположившийся на ступенях лестницы, повторял его торжественным и печальным мотивом.
Потом, с тем же пением, старшие жрецы вынесли из святилища статую богини, теперь уже не закрытую наосом. Но черная мантия, усыпанная золотыми звездами, окутывала богиню с ног до головы, оставляя видимыми только ее серебряные ноги, обвитые змеей, а над головою серебряный диск, включенный в коровьи рога. И медленно, под звон кадильниц и систр, со скорбным плачем двинулась процессия богини Изиды со ступенек алтаря, вниз, в храм, вдоль его стен, между колоннами.
Так собирала богиня разбросанные члены своего супруга, чтобы оживить его при помощи Тоота и Анубиса:
«Слава городу Абидосу, сохранившему прекрасную голову твою, Озирис.
Слава тебе, город Мемфис, где нашли мы правую руку великого бога, руку войны и защиты.
И тебе, о город Саис, скрывший левую руку светлого бога, руку правосудия.
И ты будь благословен, город Фивы, где покоилось сердце Ун-Нофер-Онуфрия».
Так обошла богиня весь храм, возвращаясь назад к алтарю, и все страстнее и громче становилось пение хора. Священное воодушевление овладевало жрецами и молящимися. Все части тела Озириса нашла Изида, кроме одной, священного Фаллуса, оплодотворяющего материнское чрево, созидающего новую вечную жизнь. Теперь приближался самый великий акт в мистерии Озириса и Изиды…
– Это ты, Элиав? – спросила царица юношу, который тихо вошел в дверь.
В темноте ложи он беззвучно опустился к ее ногам и прижал к губам край ее платья. И царица почувствовала, что он плачет от восторга, стыда и желания. Опустив руку на его курчавую жесткую голову, царица произнесла:
– Расскажи мне, Элиав, все, что ты знаешь о царе и об этой девочке из виноградника.
– О, как ты его любишь, царица! – сказал Элиав с горьким стоном.
– Говори… – приказала Астис.
– Что я могу тебе сказать, царица? Сердце мое разрывается от ревности.
– Говори!
– Никого еще не любил царь, как ее. Он не расстается с ней ни на миг. Глаза его сияют счастьем. Он расточает вокруг себя милости и дары. Он, авимелех и мудрец, он, как раб, лежит около ее ног и, как собака, не спускает с нее глаз своих.
– Говори!
– О, как ты терзаешь меня, царица! И она… она – вся любовь, вся нежность и ласка! Она кротка и стыдлива, она ничего не видит и не знает, кроме своей любви. Она не возбуждает ни в ком ни злобы, ни ревности, ни зависти…
– Говори! – яростно простонала царица, и, вцепившись своими гибкими пальцами в черные кудри Элиава, она притиснула его голову к своему телу, царапая его лицо серебряным шитьем своего прозрачного хитона.
А в это время в алтаре вокруг изображения богини, покрытой черным покрывалом, носились жрецы и жрицы в священном исступлении, с криками, похожими на лай, под звон тимпанов и дребезжание систр.
Некоторые из них стегали себя многохвостыми плетками из кожи носорога, другие наносили себе короткими ножами в грудь и в плечи длинные кровавые раны, третьи пальцами разрывали себе рты, надрывали себе уши и царапали лица ногтями. В середине этого бешеного хоровода у самых ног богини кружился на одном месте с непостижимой быстротой отшельник с гор Ливана в белоснежной развевающейся одежде. Один верховный жрец оставался неподвижным. В руке он держал священный жертвенный нож из эфиопского обсидиана, готовый передать его в последний страшный момент.
– Фаллус! Фаллус! Фаллус! – кричали в экстазе обезумевшие жрецы, – Где твой Фаллус, о светлый бог! Приди, оплодотвори богиню. Грудь ее томится от желания! Чрево ее как пустыня в жаркие летние месяцы.
И вот страшный, безумный, пронзительный крик на мгновение заглушил весь хор. Жрецы быстро расступились, и все бывшие в храме увидели ливанского отшельника, совершенно обнаженного, ужасного своим высоким, костлявым, желтым телом. Верховный жрец протянул ему нож. Стало невыносимо тихо в храме. И он, быстро нагнувшись, сделал какое-то движение, выпрямился и с воплем боли и восторга вдруг бросил к ногам богини бесформенный кровавый кусок мяса.
Он шатался. Верховный жрец осторожно поддержал его, обвив рукой за спину, подвел его к изображению Изиды и бережно накрыл его черным покрывалом и оставил так на несколько мгновений, чтобы он втайне, невидимо для других, мог запечатлеть на устах оплодотворенной богини свой поцелуй.
Тотчас же вслед за этим его положили на носилки и унесли из алтаря. Жрец-привратник вышел из храма. Он ударил деревянным молотком в громадный медный круг, возвещая всему миру о том, что свершилась великая тайна оплодотворения богини. И высокий поющий звук меди понесся над Иерусалимом.
Царица Астис, еще продолжая содрогаться всем телом, откинула назад голову Элиава. Глаза ее горели напряженным красным огнем. И она сказала медленно, слово за словом:
– Элиав, хочешь, я сделаю тебя царем Иудеи и Израиля? Хочешь быть властителем над всей Сирией и Месопотамией, над Финикией и Вавилоном?
– Нет, царица, я хочу только тебя…
– Да, ты будешь моим властелином. Все мои ночи будут принадлежать тебе. Каждое мое слово, каждый мой взгляд, каждое дыхание будут твоими. Ты знаешь пропуск. Ты пойдешь сегодня во дворец и убьешь их. Ты убьешь их обоих! Ты убьешь их обоих!
Элиав хотел что-то сказать. Но царица притянула его к себе и прильнула к его рту своими жаркими губами и языком. Это продолжалось мучительно долго. Потом, внезапно оторвав юношу от себя, она сказала коротко и повелительно:
– Иди!
– Я иду, – ответил покорно Элиав.
И была седьмая ночь великой любви Соломона.
Странно тихи и глубоко нежны были в эту ночь ласки царя и Суламифи. Точно какая-то задумчивая печаль, осторожная стыдливость, отдаленное предчувствие окутывали легкою тенью их слова, поцелуи и объятия.
Глядя в окно на небо, где ночь уже побеждала догорающий вечер, Суламифь остановила свои глаза на яркой голубоватой звезде, которая трепетала кротко и нежно.
– Как называется эта звезда, мой возлюбленный? – спросила она.
– Это звезда Сопдит, – ответил царь. – Это священная звезда. Ассирийские маги говорят нам, что души всех людей живут на ней после смерти тела.
– Ты веришь этому, царь?
Соломон не ответил. Правая рука его была под головою Суламифи, а левою он обнимал ее, и она чувствовала его ароматное дыхание на себе, на волосах, на виске.
– Может быть, мы увидимся там с тобою, царь, после того как умрем? – спросила тревожно Суламифь.
Царь опять промолчал.
– Ответь мне что-нибудь, возлюбленный, – робко попросила Суламифь.
Тогда царь сказал:
– Жизнь человеческая коротка, но время бесконечно, и вещество бессмертно. Человек умирает и утучняет гниением своего тела землю, земля вскармливает колос, колос приносит зерно, человек поглощает хлеб и питает им свое тело. Проходят тьмы и тьмы тем веков, все в мире повторяется, – повторяются люди, звери, камни, растения. Во многообразном круговороте времени и вещества повторяемся и мы с тобою, моя возлюбленная. Это так же верно, как и то, что если мы с тобою наполним большой мешок доверху морским гравием и бросим в него всего лишь один драгоценный сапфир, то, вытаскивая много раз из мешка, ты все-таки рано или поздно извлечешь и драгоценность. Мы с тобою встретимся, Суламифь, и мы не узнаем друг друга, но с тоской и восторгом будут стремиться наши сердца навстречу, потому что мы уже встречались с тобою, моя кроткая, моя прекрасная Суламифь, но мы не помним этого.
– Нет, царь, нет! Я помню. Когда ты стоял под окном моего дома и звал меня: «Прекрасная моя, выйди, волосы мои полны ночной росою!» – я узнала тебя, я вспомнила тебя, и радость и страх овладели моим сердцем. Скажи мне, мой царь, скажи, Соломон: вот, если завтра я умру, будешь ли ты вспоминать свою смуглую девушку из виноградника, свою Суламифь?
И, прижимая ее к своей груди, царь прошептал, взволнованный:
– Не говори так никогда… Не говори так, о Суламифь! Ты избранная богом, ты настоящая, ты царица души моей… Смерть не коснется тебя…
Резкий медный звук вдруг пронесся над Иерусалимом. Он долго заунывно дрожал и колебался в воздухе, и когда замолк, то долго еще плыли его трепещущие отзвуки.
– Это в храме Изиды окончилось таинство, – сказал царь.
– Мне страшно, прекрасный мой! – прошептала Суламифь. – Темный ужас проник в мою душу… Я не хочу смерти… Я еще не успела насладиться твоими объятиями… Обойми меня… Прижми меня к себе крепче… Положи меня, как печать, на сердце твоем, как печать, на мышце твоей!..
– Не бойся смерти, Суламифь! Так же сильна, как и смерть, любовь… Отгони грустные мысли… Хочешь, я расскажу тебе о войнах Давида, о пирах и охотах фараона Суссакима? Хочешь ты услышать одну из тех сказок, которые складываются в стране Офир?.. Хочешь, я расскажу тебе о чудесах Викрамадитья?
– Да, мой царь. Ты сам знаешь, что, когда я слушаю тебя, сердце мое растет от радости! Но я хочу тебя попросить о чем-то…
– О Суламифь, – все, что хочешь! Попроси у меня мою жизнь – я с восторгом отдам ее тебе. Я буду только жалеть, что слишком малой ценой заплатил за твою любовь.
Тогда Суламифь улыбнулась в темноте от счастья и, обвив царя руками, прошептала ему на ухо:
– Прошу тебя, когда наступит утро, пойдем вместе туда… на виноградник… Туда, где зелень, и кипарисы, и кедры, где около каменной стенки ты взял руками мою душу… Прошу тебя об этом, возлюбленный… Там снова окажу я тебе ласки мои…
В упоении поцеловал царь губы своей милой.
Но Суламифь вдруг встала на своем ложе и прислушалась.
– Что с тобою, дитя мое?.. Что испугало тебя? – спросил Соломон.
– Подожди, мой милый… сюда идут… Да… Я слышу шаги… – Она замолчала. И было так тихо, что они различали биение своих сердец.
Легкий шорох послышался за дверью, и вдруг она распахнулась быстро и беззвучно.
– Кто там? – воскликнул Соломон.
Но Суламифь уже спрыгнула с ложа, одним движением метнулась навстречу темной фигуре человека с блестящим мечом в руке. И тотчас же, пораженная насквозь коротким, быстрым ударом, она со слабым, точно удивленным криком упала на пол.
Соломон разбил рукой сердоликовый экран, закрывавший свет ночной лампады. Он увидал Элиава, который стоял у двери, слегка наклонившись над телом девушки, шатаясь, точно пьяный. Молодой воин под взглядом Соломона поднял голову и, встретившись глазами с гневными, страшными глазами царя, побледнел и застонал. Выражение отчаяния и ужаса исказило его черты. И вдруг, согнувшись, спрятав в плащ голову, он робко, точно испуганный шакал, стал выползать из комнаты. Но царь остановил его, сказав только три слова:
– Кто принудил тебя?
Весь трепеща и щелкая зубами, с глазами, побелевшими от страха, молодой воин уронил глухо:
– Царица Астис…
– Выйди, – приказал Соломон, – Скажи очередной страже, чтобы она стерегла тебя.
Скоро по бесчисленным комнатам дворца забегали люди с огнями. Все покои Осветились. Пришли врачи, собрались военачальники и друзья царя.
Старший врач сказал:
– Царь, теперь не поможет ни наука, ни бог. Когда извлечем меч, оставленный в ее груди, она тотчас же умрет.
Но в это время Суламифь очнулась и сказала со спокойною улыбкой:
– Я хочу пить.
И когда напилась, она с нежной, прекрасной улыбкой остановила свои глаза на царе и уже больше не отводила их; а он стоял на коленях перед ее ложем, весь обнаженный, как и она, не замечая, что его колени купаются в ее крови и что руки его обагрены алою кровью.
Так, глядя на своего возлюбленного и улыбаясь кротко, говорила с трудом прекрасная Суламифь:
– Благодарю тебя, мой царь, за все: за твою любовь, за твою красоту, за твою мудрость, к которой ты позволил мне прильнуть устами, как к сладкому источнику. Дай мне поцеловать твои руки, не отнимай их от моего рта до тех пор, пока последнее дыхание не отлетит от меня. Никогда не было и не будет женщины счастливее меня. Благодарю тебя, мой царь, мой возлюбленный, мой прекрасный. Вспоминай изредка о твоей рабе, о твоей обожженной солнцем Суламифи.
И царь ответил ей глубоким, медленным голосом:
– До тех пор, пока люди будут любить друг друга, пока красота души и тела будет самой лучшей и самой сладкой мечтой в мире, до тех пор, клянусь тебе, Суламифь, имя твое во многие века будет произноситься с умилением и благодарностью.
К утру Суламифи не стало.
Тогда царь встал, велел дать себе умыться и надел самый роскошный пурпуровый хитон, вышитый золотыми скарабеями, и возложил на свою голову венец из кроваво-красных рубинов. После этого он подозвал к себе Ванею и сказал спокойно:
– Ванея, ты пойдешь и умертвишь Элиава.
Но старик закрыл лицо руками и упал ниц перед царем.
– Царь, Элиав – мой внук!
– Ты слышал меня, Ванея?
– Царь, прости меня, не угрожай мне своим гневом, прикажи это сделать кому-нибудь другому. Элиав, выйдя из дворца, побежал в храм и схватился за рсга жертвенника. Я стар, смерть моя близка, я не смею взять на свою душу этого двойного преступления.
Но царь возразил:
– Однако, когда я поручил тебе умертвить моего брата Адонию, также схватившегося за священные рога жертвенника, разве ты ослушался меня, Ванея?
– Прости меня! Пощади меня, царь!
– Подними лицо твое, – приказал Соломон.
И когда Ванея поднял голову и увидел глаза царя, он быстро встал с пола и послушно направился к выходу.
Затем, обратившись к Ахиссару, начальнику и смотрителю дворца, он приказал:
– Царицу я не хочу предавать смерти, пусть она живет, как хочет, и умирает, где хочет. Но никогда она не увидит более моего лица. Сегодня, Ахиссар, ты снарядишь караван и проводишь царицу до гавани в Иаффе, а оттуда в Египет, к фараону Суссакиму. Теперь пусть все выйдут.
И, оставшись один лицом к лицу с телом Суламифи, он долго глядел на ее прекрасные черты. Лицо ее было бело, и никогда оно не было так красиво при ее жизни. Полуоткрытые губы, которые всего час тому назад целовал Соломон, улыбались загадочно и блаженно, и зубы, еще влажные, чуть-чуть поблескивали из-под них.
Долго глядел царь на свою мертвую возлюбленную, потом тихо прикоснулся пальцем к ее лбу, уже начавшему терять теплоту жизни, и медленными шагами вышел из покоя.
За дверями его дожидался первосвященник Азария, сын Садокии. Приблизившись к царю, он спросил:
– Что нам делать с телом этой женщины? Теперь суббота.
И вспомнил царь, как много лет тому назад скончался его
отец, и лежал на песке, и уже начал быстро разлагаться. Собаки, привлеченные запахом падали, уже бродили вокруг него с горящими от голода и жадности глазами. И, как теперь, спросил его первосвященник, отец Азарии, дряхлый старик:
– Вот лежит твой отец, собаки могут растерзать его труп… Что нам делать? Почтить ли память царя и осквернить субботу или соблюсти субботу, но оставить труп твоего отца на съедение собакам?
Тогда ответил Соломон:
– Оставить. Живая собака лучше мертвого льва.
И когда теперь, после слов первосвященника, вспомнил он это, то сердце его сжалось от печали и страха.
Ничего не ответив первосвященнику, он пошел дальше, в зал судилища.
Как и всегда по утрам, двое его писцов, Елихофер и Ахия, уже лежали на циновках, но обе стороны трона, держа наготове свертки папируса, тростник и чернила. При входе царя они встали и поклонились ему до земли. Царь же сел на свой трон из слоновой кости с золотыми украшениями, оперся локтем на спину золотого льва и, склонив голову на ладонь, приказал:
– Пишите!
«Положи меня, как печать, на сердце твоем, как перстень, на руке твоей, потому что крепка, как смерть, любовь и жестока, как ад, ревность: стрелы ее – стрелы огненные».
И, помолчав так долго, что писцы в тревоге затаили дыхание, он сказал:
– Оставьте меня одного.
И весь день, до первых вечерних теней, оставался царь один на один со своими мыслями, и никто не осмелился войти в громадную, пустую залу судилища.
(1908)
ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ
КЛЕОПАТРА
Нет, как раб не буду распят,
Иль как пленный враг казнен!
Клеопатра! – Верный аспид
Нам обоим принесен.
Вынь на волю из корзины,
Как союзницу, змею,
Полюбуйся миг единый
На живую чешую.
И потом на темном ложе
Дай припасть ей нам на грудь,
Сладким холодом по коже
В быстрых кольцах проскользнуть.
Не любовь, но смерть нам свяжет
Узы тягостные рук,
И, скрутись, меж нами ляжет
Наш последний тайный друг.
Губы в губы, – взгляд со взглядом,—
Встретим мы последний суд.
Два укуса с жгучим ядом
Сжатых рук не разомкнут.
И истома муки страстной
Станет слабостью конца,
И замрут, дрожа согласно,
Утомленные сердца.
Я как раб не буду распят,
Не покорствуй как раба!
Клеопатра! – Верный аспид —
Наша общая судьба.
1905
АНТОНИЙ
Ты на закатном небосклоне
Былых, торжественных времен
Как исполин стоишь, Антоний,
Как яркий, незабвенный сон.
Боролись за народ трибуны
И императоры – за власть,
Но ты, прекрасный, вечно юный,
Один алтарь поставил – страсть!
Победный лавр, и скиптр вселенной,
И ратей пролитую кровь
Ты бросил на весы, надменный,—
И пересилила любовь!
Когда вершились судьбы мира
Среди вспененных боем струй, —
Венец и пурпур триумвира
Ты променял на поцелуй.
Когда одна черта делила
В веках величье и позор,—
Ты повернул свое кормило,
Чтоб раз взглянуть в желанный взор.
Как нимб, Любовь, твое сиянье
Над всеми, кто погиб, любя!
Блажен, кто ведал посмеянье,
И стыд, и гибель – за тебя!
О, дай мне жребий тот же вынуть,
И в час, когда не кончен бой,
Как беглецу, корабль свой кинуть
Вслед за египетской кормой!
Апрель 1905
ВОСТОК
Тесно переплелись на путях истории не только судьбы народов Индии, Ирана, Закавказья, Средней Азии и Аравии, но и судьбы их литератур. Арабские легенды подхватывали иранские сказители, узбекский поэт воспевал армянскую царевну, грузинский прозаик перерабатывал в роман персидскую поэму, а на персидском языке (как и на арабском) долго слагали стихи азербайджанские, турецкие, индийские поэты, как и поэты Средней Азии.
Открывающая раздел «индейская повесть» В. А. Жуковского «Наль и Дамаянти» представляет собой пересказ одного из сюжетов самой большой в мире поэмы «Махабхараты», сложившейся в Индии в основном в I тысячелетии до н. э. Известная нам редакция поэмы записана уже в первые века н. э. Рассказ о Нале и Дамаянти по времени создания ближе к античности, чем к Средневековью.
Однако в индийском повествовании есть психологическая черта, резко отделяющая его от древних сказаний Средиземноморья и роднящая с художественными произведениями Средневековья. Опасность, угрожающая любви и жизни Гектора и Андромахи, Орфея и Евридики, Геро и Леандра, Суламифи и Соломона, приходит извне – это война, буря, несчастный случай, тайный враг; даже то, что Тезей покидает Ариадну, миф приписывает повелению бога. Между тем главный враг Наля, разлучающий его с Дамаянти, – он сам, и адский бог Кали выступает здесь как воплощение страсти индийского царя к игре в кости. Собственные слабости и пороки человека – вот что опасно для его любви, а преодоление пороков возвращает человеку счастье.
Каждому индийцу, грамотному и неграмотному, это сказание знакомо. Многочисленные переводы сделали его известным во всем мире. Явлением в русской литературе оно стало, когда В. А. Жуковский в 1837–1841 гг. переложил легенду с ее немецкого перевода, «стараясь найти в языке моем выражения для той девственной, первообразной красоты, которою полна индейская повесть о Нале и Дамаянти».
Сюжет для многих художественных произведений дала и легенда о любви Вис, жены иранского шаха Мубада (Моабада), и Рамина, младшего брата этого шаха. Первым написал о Вис и Рамине на основе древнеиранских народных преданий персидский поэт XI в. Фахриддин Гургани. Он создал поэму не только трогательную, но и озорную, соединил возвышенное с обыденным, трагедию с фарсом. Все это характерно и для романа «Висрамиани», прозаического переложения поэмы на грузинский язык, принадлежащего перу грузинского писателя конца XII в. Саргиса Тмогвели. В сборник включен (с большими сокращениями) перевод романа Тмогвели, сделанный в 1938 г. Б. Т. Руденко под редакцией академика И. А. Орбели, крупнейшего советского историка-востоковеда. (В 1960 г. появился более полный и точный перевод романа, принадлежащий С. Иорданишвили; предпочтение в данном случае отдано переводу Б. Т. Руденко лишь потому, что он уже сделан с сокращениями и с кратким изложением содержания пропущенных глав.)
И. А. Орбели в предисловии к книге, вышедшей в 1938 г., подчеркивает, что «Висрамиани» – не просто перевод персидской поэмы, здесь появились чисто грузинские детали и выражения, чувствуется дух Грузии XII в.; роман – памятник сотрудничества двух могучих культур. Да только ли двух? Специалисты отмечают тут признаки, например, влияния арабской литературы. И уже давно замечено поразительное сходство ряда ситуаций и образов в двух знаменитейших произведениях Средневековья – западноевропейском «Романе о Тристане и Изольде» и восточном сказании о Вис и Рамине. Что здесь естественно вытекает из общности сюжета о «незаконной любви» подданного и жены властителя, а что связано с культурными контактами – не так-то просто выяснить. Во всяком случае, к «Роману о Тристане и Изольде» тоже можно отнести слова, сказанные академиком В. М. Жирмунским о поэме «Вис и Рамин»: здесь проявился «типичный конфликт эпохи, столкновение индивидуальной любви (в сословно-поэтизированной форме рыцарского «служения даме») с супружескими обязанностями, которые в феодальном обществе основывались не на личном чувстве, а на семейно-политических интересах».
В сказании о Вис и Рамине духовный мир героев представлен гораздо более сложным, чем в античных преданиях и даже в легенде о Нале и Дамаянти. Тут любви угрожают собственные недостатки, слабости героев, порою побеждающее в каждом из них стремление к покою, к отдыху от чувства, которое им прямо-таки жить иногда мешает; но в еще большей степени враг любви Вис и Рамина – общество, где Вис поневоле становится женой бессильного старика, общество, для которого взаимная страсть – прямой вызов. Врагами любящих оказываются самые близкие люди, в том числе мать Вис, а потом – и подкупленная шахом кормилица. Рамин разрешает проблему, свергнув старшего брата, – уж очень, видно, хотелось древним сказителям любой ценой дать повествованию «счастливый конец». А вот сюжет «Лейли и Меджнуна» заведомо и определенно кончается смертью обоих героев, разлученных судьбой. Но эта судьба – результат столкновения, опять-таки, между сильным и искренним чувством и обществом. Лейли и Меджнуну мешают соединиться не враги и бури, не разница в социальном положении, не то (во всяком случае поначалу), что она «другому отдана»; нет! сама сила чувства Меджнуна, обезумевшего от любви, пугает родных Лейли.
О Лейли и Меджнуне писали на протяжении долгих веков – азербайджанцы Низами и Физули, индиец Амир Хосров Дехлеви, таджик Абдурахман Джами, туркмен Андали Гариб, узбек Алишер Навои и многие, многие другие. А раньше всех – сам Меджнун, он же Кайс ибн Аль-Мулаввах. Он-то сам был прозван Меджнуном – «одержимым», «безумцем», когда отец возлюбленной предпочел для нее более богатого жениха. Время и поэты Аравии, Индии, Ирана и Средней Азии исправили сюжет…
В сборник включены отрывки из поэмы «Лейли и Меджнун» великого азербайджанского поэта XII в. Низами. В горе его героев отразилась собственная скорбь поэта: Низами только что потерял любимую жену; когда-то эту юную и прекрасную половчанку с севера купил ширван-шах, правитель небольшого азербайджанского государства, для своего гарема; но гордая красавица не пожелала стать даже и царской наложницей; шах подарил девушку поэту, ставшему ее мужем. И вот она умерла. Горе потери сделало старый печальный сюжет особенно близким поэту – хотя писал он поэму по «заказу» ширван-шаха.
Создавая свою поэму, Низами во многом следовал уже ставшему традиционным подходу к сюжету о Лейли и Меджнуне. А вот великий узбекский поэт XV в. Алишер Навои в огромной степени видоизменил другой традиционный сюжет, представленный в сборнике его поэмой «Фархад и Ширин» (в отрывках). Самое название тут – уже вызов традиции; прежде, в том числе и у Низами, поэмы с героиней по имени Ширин делали ее возлюбленным иранского шаха Хосрова, вводя его имя и в заглавие.
Фархада в первых вариантах легенды, дошедших до нас из раннего Средневековья, попросту нет. Речь там идет о взаимной любви армянской царевны Ширин и иранского шаха Хосрова Парвиза. Хосров – у предшественников Навои – сложный, переменчивый, колеблющийся, гонится за сиюминутными политическими выгодами и земными благами, но все-таки выглядит в конечном счете человеком не слишком плохим. В такой роли он выступает и в поэме «Хосров и Ширин» Низами. В этой поэме уже есть – на втором плане – Фархад, молодой богатырь и труженик, взявшийся провести канал в безводную местность. Фархад благороден, влюблен в Ширин – но безответно; губит юношу бессмысленная ревность Хосрова, который потом раскаивается. Когда же сын шаха от первой жены свергает с престола отца, Хосров видит в своем падении расплату за собственное коварство.
В поэме же Навои Фархад уверенно занимает место главного героя, и это его любит Ширин, а Хосров силой и коварством разлучает влюбленных и губит героя. Фархад – царевич, но и работник, в ранней юности по доброй воле овладевший искусством кузнеца и каменотеса.
Многое поражает исследователей поэмы: здесь средством добиться любви царевны объявляется трудовой, а не воинский подвиг, Фархад же не только стремится к миру, но даже бережет, вынужденный к обороне, жизни вражеских подневольных воинов и, захваченный обманом в плен, отказывается бежать, чтобы шах не казнил приставленных к нему стражей.
Присущие Навои любовь к истории, ощущение связи времен в этой поэме достигают своих вершин: не только «Румский Искандер», то есть греческий Александр Македонский, введен в поэму, но в числе действующих лиц оказывается Сократ, упоминаются Платон, высокочтимый на Востоке отец древнегреческой медицины Гиппократ. Поэт сближает эпохи, подчеркивает равенство и близость людей всех наций и любых вер.
Несколько арабских легенд о любви представлено в сборнике в переложении Стендаля; тут помещен отрывок из главы «Аравия» его книги «О любви». Стендаль указывает, что он перевел здесь несколько отрывков из старого арабского литературного сборника.
С одной из легенд, изложенных Стендалем, перекликается стихотворение Генриха Гейне «Азра», завершающее раздел.








