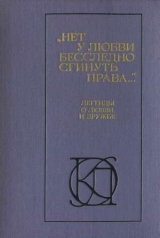
Текст книги "Нет у любви бесследно сгинуть права..."
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 34 страниц)
– Осторожно! – Павел, подавая меч. – Расколоться может.
С обнаженным мечом Петр вышел от Павла.
Крадучись – не спугнуть бы! – подошел к дверям Ольги. Не предупредя, переступил порог.
В его глазах Ольга и с ней Павел. Задохнувшись, подошел ближе. И оглянул. Нет, это не чудится: это Павел! И странно: сквозь Павла видит он окно, в окне золотая береза. И догадался: огонь! – огненный Змей.
Они сидели тесно: губы его вздрагивали, а она улыбалась.
Петр подошел еще ближе, и ноги его коснулись ее ног. Вскрикнув, поднялась она – и вслед за ней поднялся Павел.
В глазах Петра резко золотилось, и он сам поднялся в золотом вихре и ударил мечом по голове Змея.
Кровью брызнул огонь – сквозь огненный туман он видел, как Павел, содрогнувшись, склонился к земле, орошая кровью Ольгу, и Ольга, как и Павел, склонясь, клевала землю.
Петру мерещилось: кольчато-кровавое ползет на него, душит, грозя, и он махал мечом, пока не разлетелся меч на куски и куском железа его очнуло.
Со Змеем покончено – в мече нет нужды: Агриков меч отошел в богатырскую память.
* * *
Муромский летописец запишет, теперь всем известно: жена князя Павла Ольга, к которой прилетал огненный летучий Змей, захлебнулась змеиной кровью, а князь Петр, Змееборец, от брызнувшей на него крови весь оволдырил, как от ожога.
Говорили, что волдыри пошли по телу от испуга и от испугу саданул Петр Ольгу. Так думал и Павел, но брату не выговаривал «чего-де бабу укокошил», как между бояр говорилось с подмигом. Павел был доволен, что Петру она под руку попалась: какая она ему жена – змеиная!
За Петром осталось: Змееборец. Так он и сам о себе думал, терпеливо перенося свою телесную скорбь – безобразие: исцарапанный, скривя шею и корча ноги, скрехча зубами, лежал он, на его груди горел струпный крест, жигучий пояс стягивал его, и глаза и рот разъедала ползучая сыпь – кости хрястают, суставы трескочут.
Муромские ворожеи, кого только ни спрашивали, ни шепотом, ни духом, ни мазью, ни зельем не помогли, хуже: спина и ноги острупели и зуд соскреб сон. От слабости стало и на ноги не подняться.
Тут и говорят, что в рязанской земле водятся колдуны старше муромских: везите в Рязань.
А говорил это Ласка – кому еще знать.
И решили везти Петра в Рязань: почему не попробовать – рязанские колдуны, на них и посмотреть страшно, найдут жильное слово заоблачно и поддонное – шаманы!
Петр на коне не сидит, его везли. Путь невеселый: и больному тяжко и людям обуздно. Недалеко от Мурома в Переяславле решили остановиться и попытать счастье.
Приближенные Петра разбрелись по городу, выведывая, есть ли где колдуны лечить князя. Гридя, княжеский отрок, в городе не задержался, вышел на заставу и попал в подгороднее Ласково.
От дома к дому. Видит, калитка у ворот стоит раскрытая, он во двор. Никто его не окликает. Он в дом. Приоткрыл дверь и вошел в горницу. И видит: за столом сидит девка – ткет полотно, а перед ней скачет заяц. Он на зайца взарился: диковинно такой заяц – усами ворочит, не боится, скачет. А девка бросила ткать и прихорашивается: экий вперся какой серебряный.
– То-то хорошо, – сказала она с досадой, – коли двор без ушей, а дом без очей.
Гридя оглупело глазел то на нее, то на зайца.
– Старше есть кто? – робко спросил он.
– Отец и мать пошли плакать в заём, – говорила она, с любопытством оглядывая дорогое платье заброжего гостя, – а брат ушел через ноги глядеть к навам.
– К навам, – повторил растерянно Гридя, – загадки загадываешь.
– А ты чего не спросись влез, – строго сказала она, – а будь во дворе пес, слышит шаги, залаял бы, а будь в доме прислуга, увидит, что кто-то вошел, и предупредит: вот тебе про уши и про глаза дому. А отец и мать пошли на кладбище, будут плакать о умершем, эти слезы их – заёмные: в свой черед и о них поплачут. А брат в лес ушел, мы бортники, древолазы: полезешь на дерево за медом, гляди себе под ноги, скувырнешься – не подняться и угодишь к навам.
– К навам, – повторил Гридя, – к мертвым. И подумал: «Не простая!» – А как тебя звать?
– Февронья.
«И имя замысловатое, – подумал Гридя, – Февронья!» – Я муромский. Служу у князя, – и он показал на гривну – серебряное ожерелье, – приехал с князем; князь болен: весь в сыпи.
– Это который: Змееборец?
– Петр Агриковым [мечом] отсек голову огненному летучему Змею и острупел от его змеиной крови. Наши муромские помочь не могут, говорят, у вас большие ведуны. А звать как, не знаем, и где найти?
– А если бы кто потребовал к себе твоего князя, мог бы вылечить его.
– Что ты говоришь: «Если кто потребует князя моего себе…» Тот, кто вылечит, получит от князя большую награду. Скажи имя этого ведуна и где его найти.
– Да ты приведи князя твоего сюда. Если будет кроток и со смирением в ответах, будет здоров. Передай это князю.
И как говорила она, в ее словах была такая кротость, как у Ласки, и улыбнулась. Гриде стало весело: князя Петра его приближенные любили за кротость.
С каким запыхавшимся восторгом, как дети, рассказывал Гридя Петру о Февронии, какая она, среди боярынь ни одна с ней не ровня, и о загадках и о зайце – заяц на прощанье пригладил себе уши, ровно б шапку снял.
– Будешь здоров, – сказал Гридя, повторяя слова Февронии о кротости и смирении.
Петр велел вести себя в Ласково.
В Ласкове послал Петр Гридю и других отроков к Февронии: пусть скажет, к какому волхву обратиться, – вылечит, получит большую награду.
Феврония твердо сказала:
– Я и есть этот волхв, награды мне не надо, ни золота, ни имения. Вот мое слово: вылечу, пусть женится на мне.
Гридя не понял скрытое за словами испытание воли; ничего неожиданного не показалось ему в этом слове.
С тем же восторгом он передал слово князю.
«Как это возможно князю взять себе в жены дочь бортника!» – мелькнула поперечная мысль, но он был так слаб и страждал.
– Поди и передай Февронии, я на все согласен, пусть скажет, что делать.
И когда Гридя передал Февронии: «Князь на все согласен» – Феврония зачерпнула из квашни в туис, «шептала» и, подув, дала туис Гриде.
– Приготовьте князю баню, и пускай помажет себе тело, где струпья, весь вымажется, – и подумав: – Нет, один струп пусть оставит, не мажет.
У Гриди и мысли не было спрашивать, почему, он смотрел на Февронию беспрекословно, а заяц ему погрозил ухом.
– Да не уроню, – сказал Гридя, в обеих руках держа туис, и осторожно вышел.
Пока готовилась баня, все отроки и слуги собрались у князя. Всех занимал рассказ Гриди о Февронии, ее колдовстве, о зайце, о птицах – птицы перепархивали в воображении Гриди, – а больше всего ее загадки. Уверенность, что князь поправится, улыбнула и заботливую сурь, и сам Петр повеселел.
– Да чего бы такое придумать, – сказал Гридя, – она все может. Давайте испытаем.
– Я придумал, – сказал Петр и велел подать ему прядку льну. И, передавая Гриде, сказал: – Отнеси ей, и пусть она, пока буду в бане, соткет мне из этой прядки сорочку, порты и полотенце.
Феврония удивилась, увидя Гридю.
А он весь сиял: что-то будет. И, положив перед ней на стол прядку льну, повторил слова князя.
– Хорошо, – сказала Феврония, – ты подымись-ка на печь, сними с гряд полено и сюда мне.
Гридя снял полено и положил перед ней на лавку. Она, оглянув, отмерила кусок:
– Отруби.
Гридя взял топор и отрубил меру.
– Возьми этот обрубок, – сказала Феврония, – и скажи князю: за тот срок, как очешу прядку, пусть сделает мне станок, было б мне соткать ему сорочку, порты и полотенце.
Зайцем выскочил Гридя. А там ждут. Положил перед Петром обрубок, как перед Февронией прядку: изволь станок смастерить, пока она очешет лен.
– Что за вздор, – сказал Петр, повертев обрубок. – Да нешто можно за такой час сделать станок.
Но кому ж не понять, что не меньший вздор и Петрова задача: соткать ему из прядки за банный час сорочку, порты и полотенце. И Петр дивился не столько мудрости Февронии, сколько уразумев свою глупость.
Балагуря, с одним именем Февронья, – ее мудрость у всех на глазах – приближенные Петра пошли в баню, а Петра несли на носилках.
Все было как полагается: Петра вымыли, выпарили и на полок подымали и с парным веником выпрыскали, потом положили в предбаннике и, прохладя квасом и мочеными яблоками, все тело, и лицо, и руки вымазали наговорным.
Но где, какую болячку оставить без мази? Решили ту, где будет незаметно. А чего незаметней задничного места. Спросить было у Февронии, да понадеялись на очевидность и оставили заразу на этом месте.
Ночь Петр провел спокойно – ему только пить давали: морила жажда. Или это гасло змеиное пламя. Наутро он поднялся легко. Тело не зудит – очистилось, и лицо чистое, и руки чисты – не узнать.
Пронесло беду. Казалось бы, надо исполнить слово Февроньи. Но, как всегда бывает, когда наступает расплата, человек возьмет на себя, что полегче, и пожертвует тебе, что не нужно, или то, добытое без труда.
Покидая Ласково, Петр послал Февронье подарок-благодарность: золото и жемчуг. Она не приняла. Молча рукой отстранила она от себя драгоценности, а на губах ее была печаль: «Несчастный!»
На коне вернулся Петр в Муром.
На Петра диву давались: вот что может колдовство: пропадал человек, а гляди, не найдешь ни пятнышка. Чист, как перо голубя.
Шла слава на Руси: есть ведьмы киевские и ведьмы муромские, а бортничиха Феврония больше всех. Имя Феврония вошло с Петром в Муром и отозвалось, как имя Ласка, недаром и село ее зовется Ласково.
Петра поздравляли. В Соборе отслужили молебен. В кремнике у Павла был пир в честь брата-Змееборца.
Началось с пустяков: кольнуло. Не обратил внимания. Потом чешется, это хуже. А наутро смотрит: а от непомазанного вереда ровно б цепочка. Думали, от седла. А про какое седло, на лице выскочил волдырь. Начинай с начала.
Петр с неделю терпел, поминал имя Феврония, винился – да ведь раскаяние что изменит? «Согрешишь, покаешься и спасешься!» – какой это хитрец, льстя злодеям, ляпнул? Грех не искупаем. И только воля пострадавшего властна.
Петра повезли в Ласково.
Неласково встретила Феврония. Сдерживая гнев, она повторила свое слово. Петр поклялся. И опять его повели в баню и на этот раз всего вымазали. И наутро поднялся чист.
Ласковский поп обвенчал Петра и Февронию. И Петр вернулся в Муром счастливый.
Пока жив был Павел, все шло ничего, женитьбу Петра на бортничихе спускали. Но после смерти Павла, когда Петр стал муромским князем, поднялся ропот: «Женился на ведьме!»
Всякому било в глаза, по кличке Петр муромский князь, а княжит над Муромом «ведьма». И не будь Февронии, все было б «по-нашему»: Змееборца живо б к рукам прибрали: по душе ему с Лаской сказки сказывать, а не городом править. Разлучить Петра с Февронией, другого выхода нет.
В городе Феврония княгиня, в доме хозяйка. Что плохо лежит, само в руки лезет – на княжем дворе всякая вещь на своем месте, хапуну осечка: известно, бортничиха, не господский как-попал. Порядок спор, но и тесен.
Слуги поворачивали[22]22
Видимо, «поварчивали». (Примеч. составителя.)
[Закрыть]. И, чтобы душу себе встряхнуть, стали Петру наговаривать.
Стольничий, старый слуга, с подобострастным сокрушением порицал Февронию: не знает чину – из-за стола поминутно вскакивает, без порядку хлеб ест, а тарелка стынет.
– И что за повадка: по обедне поклон положить забудет, а крошки со скатерти дочиста все соберет, и чего для? Ровно нехватка в чем или в обрез?
За наговариванием – подозрительное любопытство.
Обедали врозь, каждый у себя. Петр велел подать два прибора и сесть Февронии с ним. И замечает. Да ничего особенного, Ласка до сих пор не научился, ест без вилки пальцами, а Феврония ровно бы с детства за княжеским столом обедала. Но, когда оставалось только лоб перекрестить, она поднялась и стала собирать со скатерти крошки. И Петр поднялся и за руку ее, развел ей пальцы.
– Что ж мы, нищие? – сказал он с упреком и, взглянув, отдернул руку: на ее ладони не крошки, дымился ладан.
И вся столовая наполнилась благоуханием, ровно б поп окадил. Или это улыбка ее расцвела цветами, и из глаз, таких напоенных, зрелых, источался аромат.
– Нет, наша доля – мы слишком богатые, – сказала она.
Петр не знал, куда девать глаз от стыда: и как он мог что-то подумать. И с этих пор, что бы ему ни наговаривали на Февронию, его не смущало: вера в человека гасит всякое подозрение легко и открыто, и самое загадочное и непонятное.
* * *
Бояре свое думали – каждым годом власть Февронии сказывалась до мелочей, до «хлебных крошек» княжества, негде рук погреть, не люди, рабы. И как устранить Февронию. И бабы бунтуют: первое место бортничиха, и им, природным, кланяться и подчиняться – не желаем. И пилили мужей: глаза-де пялят на Февронию и мирволят.
Осточертенелые бояре ворвались к Петру в кремник.
– Слушай, Петр! Ты наш Змееборец! Рады служить тебе за совесть. Убери княгиню: Февронию не желаем. И мудровать над нашими женами не позволим. Пускай берет себе, что ей любо, казны не пожалеем, и идет куда хочет: в Муроме ей не место.
Петр не крикнул: «Вон!» Он вдруг почувствовал себя таким ничтожным перед навалившейся на него силой и беззащитным и тише, чем обыкновенно, ответил:
– Я не знаю, спросите ее. И как она хочет.
И у бояр кулаки разжались: изволь, хвастать умом, хорош! – сами ж говорили: Петр брат его не Павел[23]23
Очевидно, описка: правильно «не брат его Павел». (Примеч. составителя.)
[Закрыть] из Змееборца хоть веревки вей, и показали как на Павла: решай. Будь Петр один, другое дело, но за такой стеной не устоит и кремник.
Со стыдом разошлись бояре.
«Поговорите с ней!» А ты попробуй, она тебе ответит. Головоломная задача.
А бабы ноют – а это пожечше: по-морде-в-зубы – у каждой одна песня – Февронья. Сами-то сказать ей в лицо не смеют, боятся, ведьма, а ты за них отдувайся – извели. И надумали бояре порешить хитро и разом.
* * *
В Городовой избе просторной, как княжеский двор, всем городом устроен был пир. Пригласили князя Петра и Февронию – честь за главным столом первое место.
Ели и пили чинно. А как хмель распустился в свой цвет, спряталась робь, голос окреп, залаяли псами. Друг друга подталкивают. Хороводились.
И прорвало.
– От имени города Мурома, – поднялся бахвал к Февронии, и все поднялись и пошли, как боровы, – исполни, что мы тебя попросим.
И Феврония поднялась, она все поняла, но спокойна.
– Слушаю, – отвечает Феврония, – я рада все исполнить.
– Хотим князя Петра, – отчеканил ободренный согласием Февронии смельчак. – Петр победил Змея, пусть Змееборец правит нами, а тебя наши жены не хотят. Не желают под твоей волей ходить. Возьми себе бобра и золота, сколько хочешь, и иди куда хочешь.
– Хорошо, я исполню ваше желание и жен ваших, я уйду. Но и вы исполните, чего я попрошу у вас.
– Даем тебе слово без перекора, все исполним! – загалдели враз.
– Ничего мне не надо, никакой вашей казны. Об одном прошу, дайте мне князя Петра.
Переглянулись.
И в один зык подвздохом:
– Бери.
У каждого прошло: «Поставят нового князя, и таким князем буду я».
Петр поднялся:
– В законе сказано: кто отпустит жену, не уличив в прелюбодействе, а сам возьмет другую, прелюбодействует. Мне с Февро-нией с чего расставаться!
– Согласны! – рявком ответили бояре. – Ступай с ней.
Феврония вышла из-за стола, собрала со стола крошки. Зажав в
горсти, вышла на середку. И подбросила высоко над головой – хряснув, посыпались дождем драгоценности – золото, серебро, камни, украшения.
– Вашим женам, пускай себе великанются. А вам, – глаза ее вдруг вспыхнули, загорелись и горели, не переглядеть, и рысь зажмурится, не солнечный огонь, а преисподний огнь, – будьте вы прокляты! Не болить вам, не менить.
Она взяла Петра за руку. И они покинули пир.
* * *
Нагруженные муромским добром плыли суда по Оке – путь на Волгу в Болгары. Петр и Феврония покинули Муром, плывут искать новые места.
Долго будет, белыми церквами провожая, глядеть вслед им родной город. И за синей землей дремучих лесов скрылся.
В нежарком луче перетолкались толкачики. Зашло солнце. С реки потянуло сыростью.
Ночь решили провести на берегу.
И раздумался Петр: хорошо ли он сделал – покинул родной город? И из-за чего? И с упреком посмотрел на Февронию.
– Не ропщи, – сказала Феврония, она без слов поняла, – будем жить лучше прежнего, ты увидишь.
Петр не мог не поверить – в голосе Февронии была ясность. Но точащее сожаление не оставляло: «Если бы вернуться!»
– Смотри, эти сухие ветви, – сказала Феврония, – а наутро, ты увидишь, вырастут из них деревья, зазеленеют листья! – и она, осеняя дымящиеся от пара черные рогатки, что-то шептала и дула.
Ночь пришла, не глядя, темная, как лес, колыбеля сном без сновидения. Или такое бывает, когда всю душу встряхнет – все двери захлопнутся: без памяти – мрак.
Утро пробудило надеждой, и первое, что заметил Петр, и это как во сне, на том месте, где укреплены были рогатки и висел котелок, перебегали люди и что-то показывали, кивая головой. Петр подошел поближе. И это было как сон и всем как будто снится, так чудесно и не бывало: за ночь сухие ветки ожили, покрылись листьями и подымаются зелеными деревьями над котелком.
«Так будет с нами?» – подумал Петр и посмотрел на Февронию.
И она ему ответила улыбкой, с какой встречают напуганных детей.
И когда стали погружаться на суда плыть дальше, видят, на реке показалась лодка, белые весла, поблескивая на солнце, руками машут – или стать за бедой не могут, или не успеть боятся.
– Да это никак с Мурома? – Так и есть: причалила лодка, вышел боярин, шапку долой, низко поклонился.
– Я от города Мурома, – с трудом передохнув, проговорил он, оборотись к Петру, – и всех бояр, кто еще на ногах и голова уцелела. Стало вам скрыться с глаз, как в городе поднялся мятеж: всяк назвался муромским князем и знать ничего не хочет: сколько дурьих голов, столько и шалых по волю. В драке немало погубили народу, да и сами погибли. В городе лавки в щепы, дома глядят сорванными с петель дверьми, в кремнике нет не окровавленного камня. Ласку укокошили, зверь не трогал, а человеку под руку попался – и готов. Вернись, утиши бурю! Будем служить тебе! – И, обратясь к Февронии, еще ниже поклонился: – Прости нас и баб наших, вернись!
Вот оно где, чудо, какой чудесный день – у Петра все мешалось и не было слов на ответ. Феврония приказала судам повернуть домой – в Муром.
Повесть кончена. Остается загадка жизни: неразлучная любовь – Тристан и Изольда, Ромео и Джульетта, Петр и Феврония.
Петр управлял Муромом нераздельно с Февронией. Про это запишут, как о счастливом годе, время Муромского княжества, канун Батыя.
Сроки жизни наступали.
Петр постригся в монахи, приняв имя Давид, и оканчивал дни в городском Богоявленском монастыре. Феврония под именем Ефросиния за городом у Воздвиженья, где в алтарной стене замурован был Агриков меч.
Расставаясь, Феврония сказала:
– Смерть придет за тобой и за мной в один час.
Петр в своей келье ничего не делал, он не мог, и своей тоской заторопил срок. Ему показалось, в окно заглянула Ольга и манит его: он освободил ее, теперь ее черед. Так он это понял и послал Февронии сказать:
– Чувствую конец, приди и вместе оставим землю.
Феврония вышивала воздух: деревья, травы, цветы, птицы, звери и среди них любимый Заяц – они по шелковинке каждый брал себе ее тоску.
– Подожди немного, – ответила она, – дай кончу.
Но час не остановишь, срок не меняется. И чувствуя холод – самое лето, а мороз! – он и во второй раз послал.
– Последние минуты. Жду тебя.
Но ей еще остались пустяки – вынитить усы зайцу.
– Подожди.
И в третий раз посылает:
– Не жду, там —
Она воткнула иголку в воздух – пусть окончат.
– Иду.
И душа ее, в цветах и травах, вышла за ограду встречу другой неразлучной, вышедшей в тот же час за ограду.
25 июня 1228 года
на русской земле
Еще при жизни у Рождества в Соборе Петр соорудил саркофаг, высечен из камня, с перегородкой, для двоих:
«Тут нас и положите обоих», – завещал он.
Люди решили по-своему: князю с бортничихой лежать не вместе, да и в иноческом чине мужу с женой не полагается.
Саркофаг в Соборе оставили пустым, Петра похоронили в Соборе, а Февронию особо – у Воздвиженья.
С вечера в день похорон поднялась над Муромом гроза. И к полночи загремело. Дорога до города из Воздвиженья вшибь и выворачивало – неуспокоенная, выбила Феврония крышку гроба, поднялась грозой и летела в Собор к Петру. Полыхавшая молнья освещала ей путь, белый огонь выбивался из-под туго сжатых век, и губы ее дрожали от немевших слов проклятия.
Наутро в Соборе гроб Петра нашли с развороченной крышкой пустой, и у Воздвиженья тела Февронии не было.
Петр и Феврония лежали в саркофаге в Соборе рядом без перегородки.
И всякий раз на Москве, в день их смерти, Петра и Февронии, на литии лебедь-колокол разносил весть из Кремля по русской земле о неразлучной любви, человеческой волей нерасторжимой.








