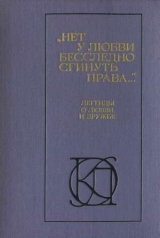
Текст книги "Нет у любви бесследно сгинуть права..."
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 34 страниц)
И так мы три недели путались и приехали в свои деревни, которые были на половине дороги, где нам определено было жить.
Приехавши, мы расположились на несколько время прожить, отдохнуть нам и лошадям; я очень рада была, что в свою деревню приехали. Казна моя уже очень истончала; думала, что моим расходам будет перемена, не все буду покупать, по крайней мере сена лошадям не куплю; однако я не долго об этом думала; не больше мы трех неделей тут прожили, паче чаяния нашего вдруг ужасное нечто нас постигло. Только что мы отобедали – в этом селе был дом господский, и окна были на большую дорогу – взглянула я в окно, вижу я пыль великую по дороге; видно издалека, что очень много едут и очень скоро бегут. Как стали подъезжать, видно, что все телеги парами, позади коляска… все наши бросились смотреть; увидели, что прямо к нашему дому едут: в коляске офицер гвардии, а по телегам солдаты, двадцать четыре человека. Тотчас узнали мы свою беду, что еще их злоба на нас не умаляется, а больше умножается. Подумайте, что я тогда была! Упала на стул; а как опомнилась, увидела полны хоромы солдат. Я уже ничего не знаю, что они объявили свекру; а только помню, что я ухватилась за своего мужа, и не отпускаю от себя; боялась, чтоб меня с ним не разлучили. Великий плач сделался в доме нашем; можно ли ту беду описать? Я не могу ни у кого допроситься, что будет с нами, не разлучат ли нас. Великая сделалась тревога; дом был большой, людей премножество, бегут все с квартир, плачут, припадают к господам своим, все хотят быть с ними неразлучно; женщины как есть слабые сердца, те кричат, плачут. Боже мой, какой это ужас! Кажется бы, и варвар, глядя на это жалкое позорище, умилосердился. Нас уже на квартиру не отпущают; как я и прежде писала, что мы везде на особливых квартирах стояли, так не поместились в одном доме; мы стояли у мужика на дворе, а спальня наша была сарай, где сено кладут. Поставили у всех дверей часовых, примкнуты штыки. Боже мой, какой это страх! Я от роду ничего подобного этому не видала и не слыхала. Велели наши командиры кареты задавать; видно, что хотят нас везти, да не знаем куда. Я так ослабела от страху, что на ногах не могу стоять.
Войдите в мое состояние, каково мне тогда было! Только меня и поободрило, что он со мною, и все, видя меня в таковом состоянии, уверяют, что с ним неразлучна буду. Я бы хотела самого офицера спросить, да он со мною не говорит, кажется неприступный; придет ко мне в горницу, где я сижу, поглядит на меня, плечами пожмет, вздохнет и прочь пойдет, а я спросить его не осмелюсь.
Вот уже к вечеру велят нам в кареты садиться и ехать. Я уже опомнилась и стала просить, чтоб меня отпустили на квартиру собраться; офицер дозволил. Как я пошла, и два солдата за мною; я не помню, как меня мой муж довел до сарая того, где мы стояли. Хотела я с ним поговорить и сведать, что с нами делается; а солдат тут, ни пяди от нас не отстает; подумайте, какое жалостное состояние! И так я ничего не знаю, что далее с нами будет. Мои домашние собрались; я уже ничего не знаю; они сели в карету и поехали; рада я тому, что я одна с ним, можно мне говорить, а солдаты все за нами поехали. Тут уже он мне сказал: офицер объявил, что велено вас под жестоким караулом везти в дальние города, а куда – не велено сказывать. Однако свекор мой умилостивил офицера и привел его на жалость; сказал, что нас везут в остров, который состоит от столицы четыре тысячи верст и больше, и там нас под жестоким караулом содержат, к нам никого не допущать, ни нас никуда, кроме церкви; переписки ни с кем не иметь, бумаги и чернил нам не давать. Подумайте, каковы мне эти вести; первое, – лишилась дому своего и всех родных своих оставила; я же не буду и слышать об них, как они будут жить без меня; брат меньший мне был, который меня очень любил; сестры маленькие остались. О боже мой, какая это тоска пришла! Жалость, сродство, кровь вся закипела от несносности. Думаю я, уже никого не увижу своих, буду жить в странствии; кто мне поможет в напастях моих, когда они не будут и ведать обо мне, где я; когда я ни с кем не буду корешпонденции иметь, или переписки; хотя я какую нужду ни буду терпеть, руки помощи никто мне не подаст; а может быть, им там скажут, что я уже умерла, что меня и на свете нет; они только поплачут и скажут: лучше ей умереть, а не целый век мучиться! С этими мыслями ослабели все мои чувства, онемели, а после полились слезы.
Муж мой очень испужался и жалел после, что мне сказал правду; боялся, чтоб я не умерла; истинная его ко мне любовь принудила дух свой стеснить и утаевать эту тоску, и перестать плакать; и должна была его еще подкреплять, чтоб он себя не сокрушил: он всего свету дороже был. Вот любовь до чего довела: все оставила: и честь, и богатство, и сродников, и стражду с ним, и скитаюсь; этому причина – все непорочная любовь, которой я не постыжусь ни перед богом, ни перед целым светом, потому что он один в сердце моем был; мне казалось, что он для меня родился, и я для него, и нам друг без друга жить нельзя. И по сей час в одном рассуждении, и не тужу, что мой век пропал; но благодарю бога моего, что он мне дал знать такого человека, который того стоил, чтоб мне за любовь жизнию своею заплатить, целый век странствовать и великие беды сносить, могу сказать, беспримерные беды. После услышите, ежели слабость моего здоровья допустит все мои беды описать.
И так нас довезли до города. Я вся расплакана; свекор мой очень испужался, видя меня в таковом состоянии; однако говорить было нельзя, потому что офицер сам тут с нами и унтер-офицер; поставили нас уже вместе, а не на розных квартирах, и у дверей поставили часовых, примкнуты штыки.
Тут мы жили с неделю, покамест изготовили судно, на чем нас везти водою. Для меня все это ужасно было; должно было молчанием покрывать. Моя воспитательница, которой я от матери своей препоручена была, не хотела меня оставить, со мною и в деревню поехала; думала она, что там злое время проживем; однако не так сделалось, как мы думали, принуждена меня покинуть. Она человек чужестранный, не могла эти суровости понести; однако, сколько можно ей было, эти дни старалась, ходила на то бессчастное судно, на котором нас повезут; все там прибирала, стены обивала, чтобы сырость сквозь не прошла, чтоб я не простудилась; павильон поставила, чуланчик загородила, где нам иметь свое пребывание, и все то оплакивала.
Пришел тот горестный день, как нам надобно ехать; людей нам дали для услуг 10 человек, а женщин на каждую персону по человеку, всех пять человек. Я хотела свою девку взять с собою, однако золовки мои отговорили; для себя включили в то число свою; а мне дали девку, которая была помощницей у прачек, ничего сделать не умела, как только платье мыть; принуждена я им в том была согласиться. Девка моя плачет, не хочет от меня отстать; я уже ее просила, чтоб она мне больше не скучала; пускай так будет, как судьба определила. И так я хорошо собралась; ниже рабы своей не имела, денег ни полушки; сколько имела при себе оная моя воспитательница денег, мне отдала; сумма не очень велика была, шестьдесят Рублев; с тем я и поехала. Я уже не помню, пешком ли мы шли до судна, или ехали; недалеко река была от дому нашего; пришло мне тут расставаться с своими, потому что дозволено было им нас проводить. Вошла я в свой кают; увидела, как он прибран; сколько можно было, помогала моему бедному состоянию; пришло мне вдруг ее благодарить за ее ко мне любовь и воспитание, тут же и прощаться, что я уже ее в последний раз вижу; ухватились мы друг другу за шеи, и так руки мои замерли, и я не помню, как меня с нею растащили. Опомнилась я в каюте, или в чулане; лежу на постели, и муж мой надо мной стоит, за руку держит, нюхать спирт дает; я вскочила с постели, бегу вверх, думаю, еще хотя раз увижу – ниже места того знать: далеко уплыли. Тогда я потеряла перло жемчужное, которое было у меня на руке; знать я его в воду опустила, когда я с своими прощалась; да мне уже и не жаль было, не до него: жизнь тратится. Так я и осталась одна, всех лишилась для одного человека. И так мы плыли всю ту ночь.
На другой день сделался великий ветер, буря на реке, гром, молния; гораздо звончее на воде, нежели на земле; а я с природы грому боюсь. Судно вертит с боку на бок; как гром грянет, то и попадают люди. Золовка меньшая очень боялась – та плачет и кричит. Я думала свету преставление! Принуждены были к берегу пристать. И так всю ночь в страхе без сна препроводили. Как скоро рассвело, погода утихла, мы поплыли в путь свой, и так мы три недели ехали водою; когда погода тихая, я тогда сижу под окошком в своем чулане; когда плачу, когда платки мою – вода очень близка; а иногда куплю осетра, и на веревку его; он со мною рядом плывет, чтоб не я одна невольница была, и осетр со мною; а когда погода станет ветром судно шатать, тогда у меня станет голова болеть и тошниться; тогда выведут меня наверх на палубу и положат на ветру; и я до тех пор без чувства лежу, покамест погода утихнет, и покроют меня шубою: на воде ветры очень проницательны. Иногда и он для компании подле меня сидит. Как пройдет погода, отдохну; только есть ничего не могла, все тошнилось.
Однажды что с нами случилось: погода жестокая поднялась, а знающего никого нет, кто б знал, где глубь, где мель и где можно пристать, ничего никто не знает, а так все мужики набраны из сохи, плывут куда ветер несет, а темно уж становится, ночь близка, не могут нигде пристать к берегу, погода не допускает; якорь бросили середи реки в самую глубь: якорь оторвало. Мой сострадалец меня тогда не пустил наверх; боялся, чтоб в этом шуме меня не задавили; люди и работники все по судну бегают: кто воду выливает, кто якорь привязывает, и так все в работе. Вдруг нечаянно притянуло наше судно в залив; ничто не успело; я слышу, что сделался великий шум, а не знаю что. Я встала посмотреть: наше судно стоит, как в ящике, между двух берегов. Я спрашиваю, где мы; никто сказать не умеет, сами не знают; на одном берегу все берез-ник, так как надобно роще не очень густой: стала эта земля оседать и с лесом несколько сажень опускаться в реку, или в залив, где мы стоим; и так ужасно лес зашумит под самое наше судно; и так нас кверху подымет, и нас в тот ущерб втянет. И так было очень долго; думали все, что мы пропали; и командиры наши совсем были готовы спасать свой живот на лодках, а нас оставить погибать. Наконец уже столько много этой земли оторвало, что видна стала за оставшей малою самою частью земли вода; надобно думать, что озеро; когда б еще этот остаток оторвало, то надобно б нам в том озере быть. Ветер преужасный тогда был; думаю, чтоб нам тогда конец был, когда б не самая милость божия поспешила. Ветер стал утихать, и землю перестало рвать, и мы избавились той беды, выехали на свету на свой путь, из оного заливу в большую реку пустились. Этот водяной путь много живота моего унес. Однако все переносила, всякие страхи, потому что еще не конец моим бедам был; на большие готовилась, для того меня бог и подкреплял.
Доехали мы до города, где надобно нам выгружиться на берег, и ехать сухим путем; я была и рада, думала таких страхов не буду видеть; после узнала, что мне нигде лучшего нет: не на то меня судьба определила, чтоб покоиться! Какая же это дорога? Триста верст должно было переехать горами, верст по пяти на горы, и с горы также; они же как усыпаны диким камнем, а дорожка такая узкая, в одну лошадь только впряжено, что называется гусем, потому что по обе стороны рвы, ежели в две лошади впрячь, то одна другую в ров спихнет; оные же рвы лесом обросли. Не можно описать, какой они вышины; как взъедешь на самый верх горы и посмотришь по сторонам – неизмеримая глубина; только видны одни вершины лесу, все сосна да дуб; от роду такого высокого и толстого леса не видала. Эта каменная дорога, я думала, что у меня сердце оторвет; сто раз я просилась: дайте отдохнуть! Никто не имеет жалости; а спешат как можно наши командиры, чтоб домой возвратиться; а надобно ехать по целому дню, с утра до ночи, потому что жилья нет, а через сорок верст поставлены маленькие домики, для пристанища проезжавшим и для корму лошадям. Что случилось? Один день весь шел дождь и так нас вымочил, что как мы вышли из колясок, то с головы и до ног с нас текло, как из реки вышли; коляски были маленькие, кожи все промокли, закрыться нечем; да и приехавши на квартиру обсушиться негде, потому что одна только хижина, а фамилия наша велика, все хотят покою. Со мною и тут несчастье пошутило. Повадка или привычка прямо ходить; меня за то с малу били: ходи прямо, притом же и росту я немалого была: как только в ту хижину вошла, где нам ночевать, только через порог переступила, назад упала, ударилась об матицу, она была очень низка, так крепко, что я думала, что с меня голова спала. Мой товарищ испужался; думал, я умерла; однако молодость лет все мне сносить помогала, всякие бедственные приключения; а бедная свекровь моя так простудилась от этой мокроты, что и руки и ноги отнялись, и через два месяца живот свой окончила. Не можно всего описать, сколько я в этой дороге обеспокоена была, какую нужду терпела: пускай бы я одна в страдании была, товарища своего не могу видеть безвинно страждущего.
Сколько мы в этой дороге были недель, не упомню. Доехали до провинциального города того острова, где нам определено жить. Сказали нам, что путь до того острова водою, и тут будет перемена; офицер гвардейский поедет возвратно, а нас препоручат тутошнего гарнизона офицеру, с командою 24 человека солдат. Жили мы тут неделю, покамест исправили судно, на котором нам ехать, и сдавали нас с рук на руки как арестантов. Это столько жалко было, что и каменное сердце умягчилось; плакал очень при расставании офицер и говорил: «Теперь-то вы натерпитесь всякого горя; эти люди необычайные; они с вами будут поступать, как с подлыми, никакого снисхождения от них не будет». И так мы все плакали, будто с сродником расставались. По крайней мере привыкли к нему; как ни худо было, да он нас знал в благополучии, так несколько совестно было ему сурово с нами поступать. Как исправились с судном, новый командир повел нас на судно; процессия изрядная была, за нами толпа солдат идет с ружьем, как за разбойниками. Я уже шла, вниз глаза опустив, не оглядывалась; смотрельщиков премножество по той улице, где нас ведут. Пришли мы к судну; я ужаснулась, как увидела, великая разница с прежним; от небрежения дали самое негодное, худое; так по имени нашему и судно! хотя бы на другой день пропасть; как мы тогда назывались арестанты, иного имени не было; – что уже в свете этого титула хуже? Такое нам и почтение! Все судно из пазов доски вышли; насквозь дыры светятся; а хотя немножко ветер, так все судно станет скрипеть; оно же черное, закоптелое; как работники раскладывали в нем огонь, так оно и осталось, самое негодное, никто бы в нем не поехал. Оно было отставное, определено на дрова; да как очень заторопили, не смели долго нас держать, какое случилось, такое и дали; а может быть и нарочно приказано было, чтоб нас утопить; однако, как не воля божия, доплыли до показанного места живы.
Принуждены были новому командиру покоряться; все способы искали, как бы его приласкать; не могли найтить, да в ком и найтить? Дай бог и горе терпеть, да с умным человеком! Какой этот глупый офицер был; из крестьян да заслужил чин капитанский; он думал о себе, что он очень великий человек, и, сколько можно, надобно нас жестоко содержать, яко преступников. Ему казалось подло с нами и говорить; однако со всею своею спесью ходил к нам обедать. Изобразите это одно, сходственно ли с умным человеком, в чем он хаживал: епанча солдатская на одну рубашку, да туфли на босу ногу, и так с нами сидит? Я была всех моложе и не воздержна; не могу терпеть, чтоб не смеяться, видя такую смешную позитуру; он, это видя, что я ему смеюсь, или то удалось ему приметить, говорит, смеяся: «Теперь счастлива ты, что у меня книги сгорели, а то бы с тобою сговорил!» Как мне ни горько было, только я старалась его больше ввести в разговор; только больше он мне ничего не сказал. Подумайте, кто нам командир был, и кому были препоручены, чтоб он усмотрел, когда б мы что намерены были сделать. Чего они боялись? Чтоб мы не ушли? Ему ли смотреть? Нас не караул их держал, а держала нас невинность наша; думали, что со временем осмотрятся и возвратят нас в первое наше состояние. Притом же мешало много, и фамилия очень велика была. И так мы с этим глупым командиром плыли целый месяц до того города, где нам жить…
С апреля по сентябрь были в дороге. Всего много было: великие страхи, громы, молнии, ветры чрезвычайные! С таким трудом довезли нас в маленький городок, который сидит на острову; кругом вода, жители в нем самый подлый народ, едят рыбу сырую, ездят на собаках, носят оленьи кожи: как с него сдерут не разрезавши брюха, так и наденут, передние ноги вместо рукавов; избы кедровые, окончины ледяные, вместо стекла; зимы 10 месяцев или 8; морозы несносные, ничего не родится, ни хлеба, никакого фрукту – ниже капусты. Леса непроходимые да болоты, хлеб привозят водою за тысячу верст. До такого местечка доехали, что ни пить, ни есть, ни носить нечего. Ничего не продают, ниже калача; тогда я плакала, для чего меня реки не утопили или не залили! Не можно жить в таком дурном месте. Не можно всего страдания моего описать и бед, сколько я их перенесла. Что всего тошнее было, для кого пропала? И все эти напасти несла и что в свете милее было, тем я не утешилась, а радость моя была с горестью смешана всегда: был болен от несносных бед, источники его глаз не пересыхали. Жалость его сердце съедала, видев меня в таком жалком состоянии, молитва его пред богом была неусыпная; пост и воздержание нелицемерные, милостыня всегдашняя, не отходил от него просящий никогда тощ; правило имел монашеское, беспрестанно в церкви, все посты приобщался святых тайн и всю свою печаль возверзил на бога; злобы ни на кого не имел, никому зла не помнил и всю свою бедственную жизнь препроводил христиански и в заповедях божиих; и ничего на свете не просил у бога, как только царствия небесного, в чем и не сомневаюсь. Я не постыжусь описать его добродетели, потому что я не лгу. Не дай бог что написать неправильно; я сама себя тем утешаю, когда вспомню все его благородные поступки, и счастливою себя щитаю, что я его ради себя потеряла, без принуждения, из своей доброй воли. Я все в нем имела: и милостивого мужа, и отца, и учителя, и старателя о счастии моем. Он меня учил богу молиться, учил меня к бедным милостивою быть; принуждал милостину давать, всегда книги читал – святое писание, чтоб я знала слово божие; всегда твердил о незлобии, чтоб никому зла не помнила. Он фундамент всему моему благополучию теперешнему, то есть мое благополучие, что я во всем согласуюсь с волей божией и все текущие беды несу с благодарением; он положил мне в сердце за все благодарить бога. Он рожден был в натуре, ко всякой добродетели склонной, хотя в роскошах и жил яко человек, только никому зла не сделал и никого ничем не обидел, разве что нечаянно.
К. Ф. РЫЛЕЕВ
НАТАЛИЯ ДОЛГОРУКОВА
Настала осени пора;
В долинах ветры бушевали,
И волны мутного Днепра
Песчаный берег подрывали.
На брег сей, дикий и крутой,
Невольно слезы проливая,
Беседовать с своей тоской
Пришла страдалица младая.
«Свершится завтра жребий мой:
Раздастся колокол церковный —
И я навек с своей тоской
Сокроюсь в келии безмолвной!
О, лейтесь, лейтесь же из глаз
Вы, слезы, в месте сем унылом!
Сегодня я в последний раз
Могу мечтать о друге милом!
В последний раз в немой глуши
Брожу с воспоминаньем смутным
И тяжкую печаль души
Вверяю рощам бесприютным.
Была гонима всюду я
Жезлом судьбины самовластной;
Увы! вся молодость моя
Промчалась осенью ненастной!
В борьбе с враждующей судьбой
Я отцветала в заточенье;
Мне друг прекрасный и младой
Был дан, как призрак, на мгновенье,
Забыла я родной свой град,
Богатство, почести и знатность,
Чтоб с ним делить в Сибири хлад
И испытать судьбы превратность.
Все с твердостью перенесла
И, бедствуя в стране пустынной,
Для Долгорукова спасла
Любовь души своей невинной.
Он жертвой мести лютой пал,
Кровь друга плаху оросила;
Но я, бродя меж снежных скал,
Ему в душе не изменила.
Судьба отраду мне дала
В моем изгнании унылом:
Я утешалась, я жила
Мечтой всегдашнею о милом!
В стране угрюмой и глухой
Она являлась мне как радость
И в душу, сжатую тоской,
Невольно проливала сладость.
Но завтра, завтра я должна
Навек забыть о страсти нежной;
Живая в гроб заключена,
От жизни отрекусь мятежной.
Забуду все: людей и свет.
И, холодна к любви и злобе,
Суровый выполню обет
Мечтать до гроба лишь о гробе.
О, лейтесь, лейтесь же из глаз,
Вы, слезы, в месте сем унылом:
Сегодня я в последний раз
Могу мечтать о друге милом.
В последний раз в немой глуши
Брожу с воспоминаньем смутным
И тяжкую печаль души
Вверяю рощам бесприютным».
Тут, сняв кольцо с своей руки,
Она кольцо поцеловала
И, бросив в глубину реки,
Лицо закрыла и взрыдала:
«Сокройся в шумной глубине,
Ты, перстень, перстень обручальный,
И в монастырской жизни мне
Не оживляй любви печальной!»
Река клубилась в берегах,
Поблеклый лист валился с шумом;
Порывный ветр шумел в полях
И бушевал в лесу угрюмом.
Полна унынья и тоски,
Слезами перси орошая,
Пошла обратно вдоль реки
Дочь Шереметева младая.
Обряд свершился роковой…
Прости последнее веселье!
Одна с угрюмою тоской
Страдалица сокрылась в келье.
Там, дни свои в посте влача,
Снедалась грустью безотрадной
И угасала, как свеча,
Как пред иконой огнь лампадный.
1823








